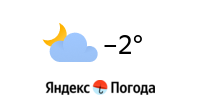|
|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ.
С.С. Шипшин,
кандидат психологических наук, доцент,
заведующий отделом судебно-психологической
экспертизы Южного регионального центра
судебной экспертизы Минюста России
Проблема использования специальных психологических знаний в уголовном процессе была актуальной еще в незапамятные времена, поскольку одной из важнейших задач правосудия является установление виновности привлекаемого к ответственности лица, что невозможно без исследования его личности, мотивов противоправного поведения, условий, приведших к совершению преступления. Нередко возникают судебно-следственные ситуации, требующие привлечения специалистов-психологов для установления способности субъекта осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Если обратиться к работе профессора Л.Е.Владимирова «Психологическое исследование в уголовном суде», вышедшей в 1901 году, то, отбросив устаревшую терминологию, в целом поражает современность его взглядов. Он пишет, что «в современном уголовном суде (1901 год!) психологическое исследование, производимое сторонами, возникает в следующих слу-чаях: 1) когда необходимо выяснить силу страсти, под влиянием кото¬рой действовал подсу-димый. Такое выяснение нужно для установления, насколько эта страсть могла влиять на свободу самоопределения, понимая под последнею нормальную борьбу противоположных моти¬вов, мотивов безнравственных и мотивов, вообще сдерживающих; 2) Когда необходимо объяснить психическое состояние подсуди¬мого, во время совершения преступления, ввиду отсутствия в пос¬леднем достаточного мотива. Понятно, что мотив здесь понимается в связи со всеми свойствами и особенностями подсудимого… Достаточность мотива определяется целою суммою данных, взятых из личности подсудимого, его националь¬ности, среды, образования, воспитания и общего душевного настро¬ения до и во время совершения деяния...; 3) когда необходимо выяснить силу аффекта, под действием ко¬торого находился подсудимый, во время совершения преступления, — когда необходимо определить, насколько этот аффект мог потемнить сознание, а, следовательно, и ограничить свободу самоопределения…; 4) когда необходимо выяснить психическое состояние подсудимо¬го, если в этом состоянии замечаются признаки, указывающие на уменьшенную вменяемость; 5) когда вообще, на основании всех данных, физических и психо¬логических, добытых из личности подсудимого, необходимо получить точный анализ характера последнего, для решения вопроса, способен ли был вообще такой человек совершить то или другое деяние…». Владимиров предлагал проводить для решения этих проблем медико-психологического исследования в уголовном процессе, основной задачей которого является исследование воли субъекта: «…необходимо, путем беседы, ознакомиться с тем духовным фондом, какой имеется у подсудимого и составляет, в его душевной жизни, основное внушение; необходимо исследовать содержание ассоциаций идей у подсудимо¬го...; не¬обходимо исследовать степень внушаемости подсудимого; а также - расследовать, насколько у подсудимого выработалась привычка управлять собою, … есть ли у него привычка к управлению собою»…
«Медико-психологическое исследование преступника не дало бы полной картины, если бы не была обследована также и социальная сторона данного преступления, влиявшая на психическую жизнь пре¬ступника. Преступление, ведь, есть явление не только психическое, но и социальное, — оно есть явление психо-социалъное. Конечно, говоря об исследовании социальной стороны преступления, мы имеем в виду не социологическое исследование преступного класса, а социальное исследование данного, отдельного, индивидуального преступления. Каждый человек принадлежит к известному народу, сословию, про¬фессии, семье, кружку. Расовые, сословные и профессиональные черты не могут составлять предмета исследования в каждом отдельном случае, но должны быть принимаемы во внимание. Но затем человек принадлежит к известной семье. Недаром назы¬вают семью ячейкою государства. В семье нужно искать ту атмосферу, в которой зародился нравственный тип человека. В семье нужно искать основную причину того или другого нравственного отпечатка, кото¬рый в каждом человеке следует отличать. Но затем идет, далее, кружок знакомых, отчасти человеком унаследованный от семьи, отчасти со-ставленный самостоятельно. В этом кружке уже подготовляется и дальнейший путь человека в жизни. Трудно преувеличить значение для жизни отдельного человека того кружка, в котором он живет. Кружки представляют отчасти результат и психологического подбора, следовательно, недостатки и недочеты человека, в нравственном отно¬шении, в кружке получают усиление и освящение…».
Поэтому, для избежания ошибок и для выяснения состояния ду¬шевного здоровья обвиняемо-го, а это очень важно знать не только с точки зрения вменяемости, но и с точки зрения обще-ственной безопас¬ности — каждый обвиняемый, вообще, по собрании первых более и менее основательных данных по делу, должен был бы подвергнуться медико-психологическому исследованию... обязательным во всех тех случаях, когда совершенное деяние влечет наказа-ние не ниже тю¬ремного заключения. Это, конечно, не исключает медико-психологи¬ческого исследования и в тех случаях, которые влекут более легкое наказание, если для подобного исследования представляются какие-нибудь указания».
Завершая свою работу, профессор Л.В.Владимиров в 1901 году отмечает: «…контингент психически недостаточных людей с каждым годом увеличивается все больше и больше под могучими влияниями нынеш¬него уклада жизни. Требовать от них той психической нормальности несуществующего среднего человека, которую предполагает в каждом уголовный кодекс, было бы несправедливостью; оставлять их без нака¬зания нельзя, понимая здесь под последним, конечно, лечение, обеспе¬чивающее, вместе с тем, и общественную безопасность…» .
Уважаемые коллеги! Я намеренно совершил этот достаточно длительный экскурс в историю, не упоминая работ современных авторов, чтобы продемонстрировать диалектику развития: спустя 100 лет мы вновь говорим об индивидуальном подходе, о тщательном ис-следовании личности, микросоциального окружения, в котором она формировалась и пребывала к моменту и в момент совершения преступления, о необходимости использования специальных психологических знаний (в том числе в форме экспертизы). Эти идеи, конечно, уже на новом уровне, нашли свое отражение в концепциях ювенальной юстиции.
Действительно, когда речь идет о несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, важность учета психологических особенностей неизмеримо возрастает, поскольку мы имеем дело с людьми, находящимися в становлении своего физиологического, психофизиологиче-ского, психологического, личностного и социального развития. К ним не применимы те подходы, которые приняты в отношении взрослой, сформировавшейся личности (независимо от ее социальной направленности).
Если проанализировать международные правовые документы, а также законодательство за-рубежных стран, мы находим этому подтверждения. Возьмем Пекинские правила, уголовное законодательство Франции, Швейцарии, Канады, Новой Зеландии – правосудие в отношении несовершеннолетних (подростков) является отдельной ветвью, с только ей присущими особенностями, явными акцентами на ресоциализацию оступившегося подростка, на восстановительный характер правосудия в отношении несовершеннолетних.
Как показывает практика, значение использования психологических знаний в ювенальной юстиции велико – как на стадии сбора информации о правонарушителе, его семье и окруже-нии, так и на стадии ведения следствия, а также – на стадии применения к нему мер воспитательного характера.
Рассматривая российское уголовное законодательство, становится очевидным, что между-народные правовые акты (Пекинские правило, Декларация ООН о правах ребенка), были учтены при подготовке УК РФ (1996 года) и УПК РФ (2002 года).
Обратимся к ст. 421 нового УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие установлению» при про-изводстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. К числу обстоятельств, подлежащих установлению, относятся: условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на несовершен-нолетнего старших по возрасту лиц (ч.1 п.п. 2, 3).
Не вызывает сомнений, что большинство из устанавливаемых обстоятельств может быть по-лучено следователем (судом) на основании имеющихся (нередко подзабытых) методических рекомендаций. Однако довольно часто информация о несовершеннолетнем, вступившем в конфликт с законом, представленная впоследствии в материалах уголовного дела, формаль-на, малоинформативна, не дает возможности оценить ни уровень интеллектуального разви-тия, ни уровень сформированности мотивационной, эмоционально-волевой (регулятивной) сферы. Конечно, здесь может быть предъявлен упрек к психологам – не вооружили доста-точно простым, но надежным инструментарием для сбора подобной информации. В этом плане могу успокоить, в нашем Центре завершается подготовка методического пособия по данному вопросу по заказу Ростовской областной прокуратуры. Однако могут возникнуть обстоятельства, когда следователь или суд окажутся в затруднительном положении при оценке полученной информации. Здесь представляется, необходимо и вполне реально при-влечение психолога в качестве специалиста. Реально потому, что в настоящее время практи-чески в каждом районе области имеется психологическая служба, во многих школах работа-ют квалифицированные школьные психологи, которые могут выполнить процессуальные функции специалиста «для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопро-сов, входящих в его профессиональную компетенцию» (ст. 58 УПК РФ). Как показывает уже сложившаяся практика, подобную помощь в суде оказывают социальные работники, которые наряду со сбором информации, решают психодиагностические задачи по установлению потенциальной способности к осознанно-волевой регуляции подростком своего поведения.
Использование квалифицированной помощи специалиста-психолога во многих случаях мо-жет снять проблему назначения судебно-психологической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. А эта проблема в настоящее время становится довольно острой. Это связано с тем, что, например, в Ростовской области ежегодно несовершеннолетними совершается примерно три тысячи преступлений. Зададимся вопросом: необходимо ли по каждому случаю проводить психологическую экспертизу и, с другой стороны, реально ли это? Начнем ответ с конца – нереально. В настоящее время экспертная нагрузка в ЮРЦ СЭ и психоневрологическом диспансере Ростовской области такова, что возникла очередь на проведение экспертных исследований на ближайшие три месяца. Можно говорить о том, что недостаточное финансирование не позволяет расширить штат экспертов. Это факт. Но существует и другая проблема – далеко не всегда назначаемая экспертиза необходима. В большинстве случаев мы устанавливаем факт отсутствия признаков отставания в психическом развитии, а также – наличие способности осознавать фактический характер своих действий и способность руководить ими. То есть, качественный сбор информации о подростке-правонарушителе снял бы вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы.
Экспертиза действительно необходима в тех случаях, когда следователь на стадии сбора ин-формации (в том числе с привлечением специалиста-психолога) выявляет признаки отстава-ния подростка в психическом развитии. Тогда в действие вступает ч.2 ст. 421 УПК РФ - «при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не свя-занном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими». А это, как известно, требует экспертной оценки.
Будучи сторонником проведения однородной судебно-психологической экспертизы (я кате-горически против неоправданно расширительного применения комплексной судебной пси-холого-психиатрической экспертизы, что нередко наблюдается на практике), полагаю, что в случае несовершеннолетних правонарушителей, выявляющих признаки отставания в психи-ческом развитии, целесообразно назначение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Это связано с тем, что неспециалисту в области психологии (следователю, судье, а также психологу, не являющемуся специалистом в области патопси-хологии), довольно сложно установить, связано или не связано отставание в психическом развитии с психическим расстройством или оно социально обусловлено. На практике часто встречается сочетание и взаимообусловленность указанных причин отставания в психиче-ском развитии. Это, пожалуй, единственный случай, когда я могу убежденно сказать, что психическая деятельность несовершеннолетнего правонарушителя, выявляющего признаки отставания в психическом развитии, является объектом комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. К сожалению, чаще мы сталкиваемся с попыткой проведения одновременно двух экспертиз, относящимся к разным классам судебной экспертизы – пси-хиатрической и психологической.
Рассматривая вопросы использования специальных познаний в области психологии в форме судебной экспертизы, хотелось остановиться еще на одной очень важной для ювенальной юстиции проблеме.
Как известно, Законодатель устанавливает нижний возраст виновной ответственности в 14 лет по 20 составам преступления. Это достаточно высокий возрастной ценз, если сравнивать с законодательством Швейцарии, Франции, Канады, где правосудие осуществляется в отно-шении подростков, достигших возраста 12 –13 лет. Более того, новый швейцарский закон, как отмечает П.Рива, не будет проводить разделения на детей и на подростков (7-15 лет, 15-18 лет). Начиная с возраста 10 лет все будут подвержены одной и той же степени ответст-венности за содеянное. Тот факт, что в России виновная ответственность наступает по дос-тижении 14 лет, не означает того, что автоматически, в одночасье, у подростка появляется способность к осознанию характера и общественной опасности своих действий и способ-ность руководить ими. Как отмечает О.Д.Ситковская «интеллектуальное развитие к 13—14 годам позволяет воспри¬нимать, запоминать, осмысливать информацию, необходимую для действий "с разумением" в практически доступных в этом возрас¬те сферах деятельности (речь идет о дееспособности применитель¬но к определенному кругу проблемных ситуаций, поэтому извест¬ное положение о том, что гражданско-правовая дееспособность воз¬никает по-сле 15 и ближе к 18 годам, не противоречит более раннему наступлению уголовно-правовой дееспособности). При всем разно¬образии темпов и характера интеллектуального развития пред¬ставляется возможным, особенно к концу возрастного периода, дать его усредненную характеристику. Для указанного возраста харак¬терны: а) сформированность способности к волевому контролю; воз¬можность осознавать и оценивать мотив и цель предполагаемых действий, прослеживая варианты в их соотношении с ценностями и нормами общества (что отнюдь не означает "победу" варианта, ос¬нованного на них); б) развитость самосознания, ис-пользуемого и в качестве со¬ставной части механизма управления поведением».
Главным критерием адекватности возрастного порога уголов¬ной ответственности является социально ориентированная управ¬ляемость поведением в ситуации выбора, то есть способ-ность и возможность (отсутствие последней в указанных ниже случаях ис¬ключает ситуацию выбора):
— подходить к выбору целей и способа действий, осознавая себя членом общества, то есть, учитывая их последствия для других людей;
— осознавать причинно-следственные зависимости соответству¬ющего варианта поведения;
— осознавать рассматриваемый вариант поведения как част¬ный случай определенного вида и класса явлений, используя соци¬ально ориентированные оценки;
— использовать механизм критичности в ходе выбора вариан¬та поведения В реальной дей-ствительности, особенно при непреду¬мышленных действиях, такая оценка носит полуосоз-нанный, свер¬нутый характер, осуществляется через уже имеющиеся стереотипы и привычки. Но способность к ней и возможность ее осуществления должны иметь место);
— осуществлять решение о соответствующем варианте пове¬дения, сохраняя управление им.
Следует отметить, что осознание вредности последствий в случае посягательств на блага другой личности имеет место и при относительно невысоком уровне развития интеллекта.
То есть, к 14 годам подросток в достаточной степени способен к осознанно-волевой регуля-ции поведения в ситуациях, находящихся в явном конфликте с правовыми, социальными, морально-нравственными ценностями, принятыми в данном обществе.
В то же время многие подростки выявляют указанную способность и в более раннем возрас-те (по меньшей мере, 12-13 лет). На это указывает опыт зарубежных стран, а также – ком-ментарии к УК РФ (в частности, имеет место такое мнение, что «совершение в последнее время несовершеннолетними в возрасте до 14 лет умышленных убийств, тяжких телесных повреждений в отношении малолетних, учительниц средней школы заставляет думать о це-лесообразности снижения возраста уголовной ответственности за совершение тяжких на-сильственных преступлений до 12 лет»).
Как показывает экспертная практика, учитывая это обстоятельство, в тех случаях, когда име-ет место преступление, совершенное группой несовершеннолетних, некоторые из которых не достигли возраста уголовной ответственности, а также при расследовании длящихся преступлений, начало совершения которых относится к периоду, когда подросток не достиг 14 лет, следователи назначают в отношении таких несовершеннолетних судебно-психологическую экспертизу. Это вызывает целый ряд возражений и требует выработки адекватного подхода.
В нашей области впервые этот вопрос был поднят экспертами Ростовского областного пси-хиатрического диспансера, в частности С.Д.Елизаровым и В.С.Лепиховой. Действительно, следователями назначаются судебные экспертизы в отношении лиц, которые не являются субъектами уголовной ответственности. На разрешение подобных экспертиз ставились во-просы о способности несовершеннолетнего осознавать фактический характер и обществен-ную опасность инкриминируемых ему действия и руководить ими. Однако возможно ли ре-шать вопросы по поводу способности осознавать характер действий, которые не могут быть инкриминируемы подростку? То есть, имеется объективная и субъективная сторона преступления, есть объект, но нет субъекта.
С точки зрения традиционной схемы правосудия ситуация, вероятно, не столь сложная. Од-нако с позиций ювенальной юстиции ситуация представляется крайне острой, поскольку подросток вступил в конфликт с законом и это требует, независимо от его возраста, тем бо-лее учитывая тяжесть содеянного, принятия серьезных мер по ресоциализации подростка. В противном случае он оказывается в социально опасном положении. Поэтому отказ в прове-дении экспертизы на том основании, что подросток в силу своего возраста не является субъ-ектом уголовной ответственности вряд ли способствует целям и задачам ювенальной юсти-ции.
С другой стороны, объектом судебно-психологической экспертизы являются особенности психики, ее компонентов, психической деятельности человека как носителя процессуального статуса в юридически значимой ситуации, а также – самой ситуации, поддающиеся категоризации в понятиях психологи и опосредованно представленные в материализованных источниках информации. Здесь возникает вопрос, каков процессуальный статус подростка, совершившего преступление, но не являющегося субъектом виновной ответственности? Очевидно, что он не является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. Может ли он быть свидетелем, т.е. лицом, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. Наверное, да, однако, как быть, если этот «свидетель» наряду с другими обвиняемыми совершал действия, содержащие состав преступления.
Если мы признаем данного подростка свидетелем, то в отношении него может быть назначе-на психологическая экспертиза свидетеля. К числу задач, решаемых экспертом в рамках дан-ного вида СПЭ, относятся: установление способности правильно воспринимать отдельные факты или внешнюю сторону событий; установление способности правильно воспринимать внутреннее содержание событий или действий, т.е. понимать их; установление влияния ус-ловий восприятия на способность правильно воспринимать важные для дела обстоятельства.
Таким образом, если принимается решение о проведении экспертизы свидетеля, то на ее раз-решение может быть поставлен вопрос о способности подростка в исследуемой ситуации понимать внутреннее содержание ситуации и действий ее участников. Но при этом не мо-гут быть поставлены вопросы о способности данного подростка к осознанно-волевой регу-ляции своего поведения в исследуемый период. А от их решения зависит и комплекс мер, которые должны предпринять следователь, судья.
В.С.Лепихова, используя модель подробной характеристики уголовно-релевантных свойств и состояний личности как целостности наряду и во взаимосвязи с характеристикой специ-ально выделенных законодателем отягчающих и смягчающих обстоятельств, предлагаемую О.Д.Ситковской, считает, что на разрешение СПЭ в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, не являющегося субъектом уголовной ответственности, следует выносить вопрос: «Каковы индивидуально-психологические особенности малолетнего правонарушителя?». При этом исследованию подлежат свойства личности, позволяющие судить о закономерности или о случайности содеянного, свойства личности, влияющие на способность к регуляции поведения, а также - свойства личности, значимые для прогноза опасности рецидива и определения программы коррекционного воздействия.
Представляется, что если мы признали за малолетним правонарушителем процессуальный статус свидетеля, то подобные вопросы будут лежать вне задач судебно-психологической экспертизы данного вида и не являться предметом экспертного исследования.
В то же время процессуальный статус свидетеля в таких случаях явно неточен, условно го-воря, ущербен. Каким нам видится выход для того, чтобы разрешить все интересующие следствие (суд) вопросы, но при этом остаться в рамках уголовно-процессуального законо-дательства.
Представляется целесообразным в тех случаях, когда преступление совершено подростком, не достигшим нижнего возрастного предела уголовной ответственности, привлекать психо-лога, являющегося, прежде всего профессиональным экспертом (государственным экспер-том), поскольку речь идет о решении именно экспертных вопросов, но в процессуальном статусе специалиста. То есть назначать несудебную экспертизу, проведение исследования специалистом с выдачей иного, нежели заключение эксперта, документа (Справка о резуль-татах исследования, Мнение специалиста и т.п.). Это позволит «уйти»: во-первых, от процессуального статуса несовершеннолетнего, во-вторых, от определенного вида психологической экспертизы (с четко определенными объектом, предметом, задачами). В-третьих, это позволит разрешить все возникающие вопросы и, наконец, при этом - провести квалифицированное, по существу, экспертное исследование, не называя его таковым. При этом следователь и суд вправе приобщить данный документ в качестве юридически значимого, и в дальнейшем использовать результаты исследования для решения дальнейшей судьбы подростка, вступившего в конфликт с законом.
В качестве вопросов, которые могут быть решены специалистом в рамках подобной несу-дебной экспертизы можно рекомендовать уже упоминавшийся вопрос о способности пони-мать внутреннее содержание ситуации и действий ее участников (в том числе и собствен-ных), а также вопрос, предлагаемый В.С.Лепиховой, об индивидуально-психологических особенностей малолетнего правонарушителя. Однако, как мне представляется, этот вопрос требует, с одной стороны корректировки (не малолетнего правонарушителя – но несовер-шеннолетнего N.), а с другой, - конкретизации. Необходимо, по существу, разбить его на не-сколько вопросов:
«Имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические особенности, свойства личности, позволяющие судить о закономерности или о случайности содеянного им?»
«Имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические особенности, свойства личности, негативно влияющие на способность к регуляции поведения?»
«Имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические особенности, свойства личности, значимые для прогноза опасности рецидива и определения программы коррекционного воздействия?».
Кроме того, по мере необходимости возможно решение вопроса о наличии у подростка при-знаков повышенной внушаемости (при совершении преступления в составе группы).
Очевидно, что перечень вопросов, которые могут быть решены с применением специальных психологических знаний, не исчерпывается вышеперечисленными, поскольку судебно-следственная практика иной раз ставит перед нами задачи, которые трудно представить, да-же если задать подобной целью.
За рамками рассматриваемой проблемы остались вопросы участия психологов в ресоциали-зации и адаптации подростка, вступившего в конфликт с законом. Это отдельный, невероят-но объемный пласт, который лежит за пределами моих профессиональных целей и задач как государственного эксперта. Однако самое главное при решении судьбы подростка-правонарушителя – это преемственность и согласованность действий всех участников, зани-мающихся его возвращением к жизни в социуме – следователей, судей, психологов, соци-альных работников.
|
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.