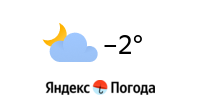|
ФОТО С ТРЕНИНГОВ

НАШИ РАССЫЛКИ
Новости, Aфоризмы, Метафоры
Анекдоты, Вебинары и т.д.
Посмотрите и выберете те, что нравятся Вам.
Новые статьи
- Стены и мосты

Есть знакомая пара. Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
- Равенство без признаков адекватности
 Мужчины и женщины равны! Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
- Сыноводство
 Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством», пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
- Делай только то, что хочешь
 Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
- «Сильная женщина» - понятие-пустышка
 Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
- Пять неверных, но полезных мыслей

Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны. Рассмотрим пять популярных утверждений.
Блог
28.06.24 | 23:06
|
 |
06.11.23 | 10:59
|
 |
25.10.23 | 23:50
|
 |
11.07.23 | 17:07
|
 |
09.07.23 | 16:48
|
|
Книги для бизнеса. Виталий Пичугин




Книги по психологии. Виталий Пичугин





|
Сон ведьмы
Автор: Флоринда Доннер
Труд Флоринды Доннер имеет для меня особое значение. Он, фактически, находится в согласии с моей собственной работой, но в то же время несколько отходит от нее. Флоринда Доннер — мой соратник. Мы оба вовлечены в одно и то же занятие; мы оба принадлежим миру дона Хуана Матуса. Отличие происходит из-за того, что она женщина. В мире дона Хуана мужчины и женщины идут в одном направлении, одним и тем же путем воина, но по противоположным краям дороги. Поэтому взгляды на одни и те же явления получены с этих двух позиций и разнятся в деталях, но не в целом.
Такая близость к Флоринде Доннер при любых других обстоятельствах могла бы неизбежно породить скорее чувство верности, чем безжалостной проверки. Но по предпосылкам пути воина, которому мы оба следуем, верность выражается только в требовании чего-то лучшего для себя. Для нас лучшее означает полную проверку всего того, что мы делаем.
Следуя учению дона Хуана, я предпринял безжалостную проверку работы Флоринды Доннер. И нашел, что для меня здесь имеется три различных уровня, три четкие сферы ее оценки.
Во-первых — это богатые подробности ее описания и повествования.
По-моему, эти детали этнографичны. Мелочи повседневной жизни, заурядные для культурного окружения описанных персонажей, представляют собой нечто совершенно нам неизвестное.
Во-вторых — все сделано очень изящно. Я рискну сказать, что этнограф должен быть еще и писателем. Для того, чтобы ввести нас в этнографическое описание мира, этнограф должен быть более чем ученым-обществоведом, он должен быть художником.
Третьим является честность, простота и прямолинейность работы. И здесь я, без сомнения, очень требователен. Флоринда Доннер и я сформированы одними и теми же силами; поэтому ее труд подчинен общей модели устремления к совершенству. Дон Хуан учил, что наш труд должен быть полным отражением нашей жизни.
Я не в силах выразить чувство восхищения и уважения воина к Флоринде Доннер, той, кто в одиночестве, имея мизерный шанс, сохранила свое душевное равновесие и осталась верным последователем пути воина и учения дона Хуана.
Карлос Кастанеда.
Примечания автора.
В предиспанские времена штат Миранда на северо-востоке Венесуэлы был населен индейскими племенами карибов и кинарикотов. В колониальную эпоху здесь появились две другие расовые и культурные группы: испанские колонизаторы и африканские рабы, которых испанцы принуждали работать на своих плантациях и рудниках.
Потомки индейцев, испанцев и африканцев образовали смешанное население, которое в настоящее время населяет мелкие деревушки, селения и города, разбросанные в прибрежной и материковой зоне.
Некоторые города штата Миранда известны своими травниками и знахарями, многие из которых были спиритами, медиумами и магами.
В середине семидесятых годов я приехала в Миранду. Будучи в то время студентом-антропологом и интересуясь знахарством, я работала с женщиной-знахаркой. Учитывая ее просьбу остаться неизвестной, я назову ее Мерседес Перальтой, а ее город — Курминой.
С разрешения знахарки, так четко и точно, как только могла, я записывала в свой полевой блокнот все, что касалось моих отношений с ней, начиная с момента моего прихода в ее дом. Мною записаны несколько историй, рассказанных некоторыми из ее пациентов. Поэтому настоящая работа состоит из частей моего полевого блокнота и рассказов этих пациентов, причем материал подбирала лично Мерседес Перальта. Части, взятые из дневника, написаны от первого лица. Рассказы пациентов приведены в третьем лице.
Единственной вольностью в обращении с материалом является изменение имен и личных дат персонажей рассказов.
Часть первая.
1.
Все началось для меня с трансцендентального события; события, которое определило ход моей жизни. Я встретилась с нагвалем. Он был индейцем из Северной Мексики.
Словарь испанской королевской академии определяет термин "нагваль", как испанскую адаптацию слова "нахуталь", которое означает колдуна или мага на языке аборигенов Южной Мексики.
До сих пор в современной Мексике существуют традиционные истории о нагвале, человеке древних времен, обладающие необычайными силами, способном выполнять действия, которые не поддаются воображению. Однако, в настоящее время и в городе, и на селе, нагваль считается чистой легендой.
Впечатление такое, что они живут в народных сказаниях, в мире фантазии и слухов.
Тем не менее, нагваль, которого я встретила, был реальным. В нем не было ничего иллюзорного. Когда я спросила его о хорошо известной уникальности, которая делала его нагвалем, он предъявил по видимости простую, и все же совершенно сложную идею, в стиле объяснения того, что он делал, и того, кем он был. Он рассказал мне, что нагвальство начинается с двух несомненных фактов: факта того, что люди являются необычными существами, живущими в необычайном мире; и факта того, что ни при каких обстоятельствах ни человек, ни мир не могут считаться доказанными и определенными.
Он сказал, что из этих простых предпосылок вырастает простой вывод: нагвальство срывает одну маску и немедленно надевает другую. Нагвали срывают маску, которая позволяет нам видеть себя и мир, в котором мы живем, как нечто обычное, неприхотливое, предсказуемое и повторяющееся; они надевают вторую маску, ту, которая поможет нам увидеть себя — и наше окружение — как потрясающие события, которые расцветают только на краткий миг и никогда не будут повторены вновь.
После встречи с этим незабываемым нагвалем у меня был момент нерешительности и колебаний, исключительно благодаря страху, который я почувствовала при пересмотре подобного впечатляющего примера. Я хотела убежать от нагваля и его предметов поиска, но не смогла сделать это.
Немного позже я сделала решительный шаг и присоединилась к нему и его партии.
Но это не рассказ о нагвале, хотя его идеями и влиянием отмечено все, что я делала. Не мое дело писать или даже упоминать о нем. Есть другие в его группе, кто делает это.
Когда я присоединилась к нему, он устроил мне в Мексике встречу с необычайной и поразительной женщиной — возможно, она была самой осведомленной и влиятельной женщиной в его группе. Ее звали Флоринда Матус. Несмотря на ее одежду скучно-однообразного цвета, она имела врожденное изящество высокой и тонкой женщины. Ее немного бледное лицо, худощавое и строгое, было увенчано косой светлых волос и привлекало большими светящимися глазами. Ее хриплый голос и радостный смех успокоили мой необоснованный страх перед ней.
Нагваль оставил меня на ее попечение. Я сразу же спросила Флоринду, была ли она сама тоже нагвалем. Как-то загадочно улыбаясь, она уточнила определение этого слова: "Быть колдуном, магом или ведьмой не означает быть нагвалем. Но любой из них может стать им, если он или она примут ответственность и поведут группу мужчин или женщин, вовлеченных в определенный поиск знаний".
Когда я спросила ее, что представляет собой этот поиск, она ответила, что этим мужчинам или женщинам надо найти вторую маску, которая помогла бы им увидеть себя и мир такими, какими мы действительно являемся — потрясающими событиями.
Но здесь не будет рассказа о Флоринде, несмотря на то, что эта женщина наставляла меня в каждом действии, которое я выполняла. Это скорее рассказ об одной из многих вещей, которые она заставила меня делать.
— Для женщины поиск знания в самом деле очень любопытная вещь, — сказала мне однажды Флоринда, — мы проходим здесь через странную уловку.
— Почему это так, Флоринда?
— Потому что женщина в действительности этого не хотят.
— Я хочу.
— Ты говоришь, что хочешь. В действительности ты не хочешь этого.
— Я здесь, с тобой. Разве это не говорит о моем желании?
— Нет. Случилось так, что ты понравилась нагвалю. Его индивидуальность одолела тебя. Я сама такая же. Я была ошеломлена предшествующим нагвалем. Он был самым неотразимым магом.
— Я допускаю, что ты права, но лишь отчасти. Я хочу участвовать в поиске нагваля.
— Я не сомневаюсь в этом. Но этого недостаточно. Женщинам необходимы некоторые особенные уловки, чтобы добраться до сути самих себя.
— Какие уловки? О какой сути самой себя ты говоришь, Флоринда?
— Если внутри вас есть что-то, о чем вы не знаете, например, скрытые резервы, неожиданная наглость и коварство, или благородство души в минуты горя и боли, это должно выйти, когда мы сталкиваемся с неизвестным, оставаясь одинокими, без друзей, без привычных групп, без поддержки. Если при таких обстоятельствах из вас ничего не вышло, значит, у вас ничего и нет. И прежде, чем сказать, что ты действительно жаждешь поисков нагваля, определи для себя, имеется ли что-нибудь внутри тебя. Я требую, чтобы ты сделала это.
— Я не думаю, что получу какую-то пользу, проверяя себя.
— Тогда вот мой вопрос: можешь ли ты жить без знания того, имеется или нет что-либо скрытое внутри тебя?
— Но что, если я одна из тех, у кого ничего нет?
— Если это так, тогда я задам тебе свой второй вопрос. Можешь ли ты продолжать жить в мире, избранном тобой, если ты не имеешь ничего внутри себя?
— Почему же, конечно, я могу продолжать быть здесь. Я уже присоединилась к тебе.
— Нет, ты только думаешь, что избрала мой мир. Избрание мира нагваля — это не просто тема для разговора, как у тебя. Ты должна доказать это.
— Как, по-твоему, я могу это сделать?
— Я дам тебе намек. Ты не последуешь ему, но если все же захочешь, поезжай одна туда, где ты родилась. Ничто не может быть лучше и легче, чем это. Иди и возьми свой шанс, каким бы он ни был.
— Но твой совет непрактичен. У меня нет добрых чувств к этому месту.
Я не смогу оставаться там в хорошем состоянии.
— Тем лучше; шансы будут против тебя. Именно поэтому я и выбрала твою родину. Женщине не нравится быть слишком обеспокоенной; если она заботится о вещах, она связана. Докажи мне, что ты не поступишь таким образом.
— Посоветуй мне, что я должна делать в этом месте?
— Будь собой. Делай свою работу. Ты говорила, что ты хочешь стать антропологом. Будь им. Что может быть проще?
2.
Несколько лет спустя, следуя советам Флоринды, я наконец вернулась в Венесуэлу — туда, где родилась. На первый взгляд я собирала антропологические данные о знахарской практике. В действительности я исполняла здесь, по наставлению Флоринды, необходимые уловки, чтобы обнаружить, обладаю ли я скрытыми резервами, без которых невозможно оставаться в мире нагваля.
Согласие на то, что моя поездка будет предприниматься в одиночестве, было вытянуто из меня почти силой. Строго и решительно Флоринда заметила, что ни при каких обстоятельствах я не должна советоваться с кем-либо во время поездки. Зная, что я учусь в колледже, она порекомендовала мне не пользоваться привилегиями академической жизни. Я не могла просить о стипендии, имея научного руководителя, не могла даже просить помощи у родных и близких. Я должна была позволить обстоятельствам диктовать путь следования, и приняв только его, я бросилась в это с неистовством женщины на пути нагваля.
Я договорилась поехать в Венесуэлу с неофициальным визитом. Мне можно было видеться с родственниками. Я думала и собирала сведения о любой возможности для будущего исследования в культурной антропологии. Флоринда хвалила меня за быстроту и тщательность, хотя мне кажется, она забавлялась со мной. Хвалить меня было не за что. Я напомнила ей, что меня волнует отсутствие ее инструкций. Снова и снова я просила ее более детально раскрыть мою роль в Венесуэле. Чем ближе подходила дата моего отъезда, тем больше я беспокоилась об исходе всего этого. Я настаивала, правда, не в очень ясных выражениях, на необходимости более определенных инструкций.
Мы сидели в плетеных креслах, удобно подбитых мягкими подушками, в тени фруктовых деревьев, растущих в ее огромном дворе. В своем длинном кисейном платье, в своей широкополой шляпке, обмахиваясь разрисованным веером, она выглядела человеком другой эпохи.
— Забудь об определенной информации, — сказала она нетерпеливо, — она не принесет тебе никакой пользы.
— Она обязательно даст мне массу полезного, — настаивала я, — я действительно не понимаю, почему ты не сделаешь этого для меня, Флоринда.
— Вини в этом тот факт, что я нахожусь в мире нагваля; тот факт, что я женщина, и что я принадлежу другому настроению.
— Настроению? Что ты подразумеваешь под настроением?
Она посмотрела на меня далеким беспристрастным взглядом.
— Хотела бы я, чтобы ты слышала свои слова. Какое настроение? — передразнила она меня. Ее лицо выразило презрение, — видишь ли, аккуратная расстановка мыслей и дел не для меня. Для меня порядок отличается от аккуратной расстановки вещей. Я не проклинаю глупость и не имею терпение.
Это является настроением.
— Это звучит ужасно, Флоринда. Я была уверена, что в мире нагваля люди стоят выше мелочности и не ведут себя нетерпеливо.
— Быть в мире нагваля значит ничего не делать со своим настроением, — сказала она, сделав смешной, безнадежный жест, — ты же видишь, я безупречно нетерпима.
— Мне действительно хочется знать, что означает быть безупречно нетерпимой.
— Это означает, например, что я полностью сознаю, как ты надоела мне со своей глупой настойчивостью, выспрашивая подробные инструкции. Моя нетерпимость говорит мне, что я должна остановить тебя. Но моя безупречность заключается в том, чтобы заставить тебя замолчать немедленно.
Все это выльется в следующее, — продолжала она, — если ты, несмотря на мое предупреждение, будешь упорствовать в просьбе о подробностях, что вызвано только твоей дурной привычкой иметь все разжеванным, я ударю тебя, чтобы ты остановилась. Но я никогда не буду сердита или обижена на тебя.
Несмотря на ее серьезный тон, я засмеялась.
— Ты действительно будешь меня бить, Флоринда? Хорошо, лупи меня, если тебе это нужно, — добавила я, рассматривая ее решительное лицо, — но мне надо знать, что я буду делать в Венесуэле. Я схожу с ума от волнения.
— Все верно! Если ты настаиваешь на знании деталей, которые я считаю важными, я расскажу тебе. Я надеюсь, ты понимаешь, что мы разделены бездной, и через эту бездну нельзя перебросить мост с помощью болтовни.
Мужчины могут строить мосты из своих слов, а женщины не могут. Сейчас ты подражаешь мужчинам. Женщины делают мост из своих поступков. Ты знаешь, что мы даем рождение. Мы создаем людей. Я настаиваю на твоем отъезде для того, чтобы ты в одиночестве определила, что является твоими сильными сторонами, а что — слабостями.
— Я понимаю, о чем ты говоришь, Флоринда, но прими во внимание мое положение.
Флоринда смягчилась, отбросив резкий ответ, уже готовый сорваться с ее губ.
— Все верно, все верно, — сказала она устало, жестом приказав мне поставить свой стул рядом с ней, — я дам тебе подробные детали того, что я считаю важным для твоей поездки. К счастью для тебя, это не будет подробной инструкцией, за которой ты гоняешься. Ты хочешь, чтобы я точно расписала тебе, что делать в будущей ситуации и когда это делать. То, о чем ты просишь, совершенно глупо. Как я могу дать тебе инструкции о том, чего еще не существует? Лучше я дам тебе взамен инструкции, как привести в порядок свои мысли, чувства и реакции. Используя их, ты справишься с любой возможностью, которая может представиться.
— Ты это серьезно, Флоринда? — спросила я недоверчиво.
— Я смертельно серьезна, — уверила она меня. Наклоняясь вперед на своем стуле, она продолжала говорить, сопровождая все улыбкой и смехом, — первым подробным пунктом считается проведение инвентаризации самой себя.
Видишь ли, в мире нагваля мы должны отвечать за свои поступки.
Она начала напоминать мне то, что знала о пути воина. За то время, что я была с ней, говорила она, я прошла обширную практику в тяжелой психологии мира нагваля. Поэтому любые детальные инструкции, которые она могла мне сейчас преподнести, фактически были подробным напоминанием о пути воина.
— На пути воина женщина не чувствует себя важной, — продолжала она, словно декламируя что-то заученное наизусть, — так как важность смягчает неистовство. На пути воина женщины свирепы. Они остаются неистово беспристрастными при любых условиях. Они не требуют ничего, но готовы дать себе все, что угодно. Они неистово ищут сигнал из души вещей в виде доброго слова, уместного жеста; и когда они находят его, то выражают свою благодарность, удваивая свое неистовство.
На пути воина женщины не рассуждают. Они неистово стушевываются для того, чтобы слушать и наблюдать, поэтому они могут покорять и быть покорными своим победителям, или быть побежденными возвеличены поражением.
На пути воина женщины не сдаются. Они могут быть побеждены тысячи раз, но они никогда не сдаются. И превыше всего, на пути воина женщины свободны.
Не смея перебивать ее, я продолжала очарованно смотреть на Флоринду, хотя и не совсем понимала то, о чем она говорит. Я почувствовала острое отчаяние, когда она остановилась, будто ей нечего было больше мне сказать.
Совершенно не желая того, я бесконтрольно расплакалась. Я знала, что то, о чем она говорит, не поможет мне решить свои проблемы.
Она позволила мне поплакать немного, а затем рассмеялась.
— Ты на самом деле плачешь! — недоверчиво воскликнула она.
— Ты самая бессердечная и бесчувственная из всех, кого я встречала, — сказала я сквозь рыдания, — ты готова отправить меня бог знает куда, и даже не говоришь, что мне там делать.
— Но я уже сделала это, — сказала она, спокойно улыбаясь.
— То, что ты сказала, не имеет значения в реальной жизненной ситуации, — сердито возразила я, — а сама ты выглядишь, как диктатор, который выкрикивает с трибуны лозунги.
Флоринда весело смотрела на меня.
— Ты будешь удивлена, как много пользы можно извлечь из этих глупых лозунгов, — сказала она, — но сейчас давай придем к соглашению. Я никуда не гоню тебя. Ты женщина на пути воина, ты вольна делать все, что пожелаешь, и ты знаешь это. Ты еще не поняла, что мир нагваля повсюду. Я не учитель для тебя; я не наставник для тебя; я за тебя не отвечаю. Только ты за себя в ответе. Самой трудной вещью, которую следует понять о мире нагваля, является то, что он предлагает полную свободу. Но свобода не освобождает.
Я взяла тебя под свое крылышко из-за того, что у тебя есть естественная способность видеть все так, как оно есть, ты можешь убрать себя из ситуации и увидеть в этом нечто удивительное. Это дар; ты была рождена такой. Для обычных людей требуются годы, чтобы убрать себя из своих затруднений с самим собой и обрести способность видеть в этом нечто удивительное.
Не считаясь с ее похвалой, я продолжала беспокоиться. В конце концов она успокоила меня, пообещав, что перед моим отъездом даст мне подробную информацию, какую я только пожелаю.
Я ждала ее в зале ожидания аэропорта, но Флоринда не пришла.
Удрученная и переполненная жалостью к себе, я дала волю своему отчаянию и разочарованию. Под любопытными взорами прохожих я села и заплакала. Я не чувствовала себя такой одинокой никогда раньше. Все, о чем я могла думать тогда, так это только о том, что никто не пришел проводить меня, никто не помог мне нести мои чемоданы. Я всегда пользовалась услугами родственников и друзей, провожавших меня.
Флоринда предупреждала меня, что любой, кто выбрал мир нагваля, должен быть готов к неистовому одиночеству. Она ясно выразилась, что для нее одиночество означает не уединенность, а физическое состояние уединенности.
3.
Я никогда себе не представляла, какой защищенной была моя жизнь. В комнате отеля в Каркасе, одна и без каких-нибудь идей о том, что делать, я только сейчас испытала одиночество, о котором говорила Флоринда.
Единственное, что я могла еще делать — это сидеть в кровати и смотреть телевизор. Я не желала касаться своих чемоданов и даже подумывала улететь обратно в Лос-Анджелес. Моих родителей в это время в Венесуэле не было, а с братьями я не смогла созвониться.
Только после огромного усилия я начала распаковывать свои вещи. И вдруг нашла записку, написанную Флориндой; она была аккуратно спрятана внутри пары сложенных брюк. Я жадно прочла ее.
"Не беспокойся о мелочах. Если имеешь убеждение, то мелочи склонны подчиняться обстоятельствам. Твоим планом может быть следующее. Выбери что-нибудь и назови это началом. Затем иди и стань лицом к началу. Встав лицом к лицу с началом, позволь ему сделать с собой все, что угодно. Я надеюсь, что твои убеждения не позволят тебе выбрать начало с причудами.
Смотри на вещи реально и скромно. Начни это сейчас!
Для начала можешь делать все, что хочешь".
Обретя решительность Флоринды, я взяла телефон и набрала номер моей старой подруги. У меня не было уверенности, что она еще живет в Каркасе.
Вежливая дама, ответившая мне, дала несколько других номеров, так как моя знакомая недолго жила по этому адресу. Я начала звонить всем, кого знала, мне нельзя было останавливаться. Начало овладело мной. В конце концов я нашла супружескую пару, которую знала с детства. Это были друзья моих родителей. Они захотели увидеть меня немедленно. Собираясь на свадьбу, они настояли на том, чтобы я присоединилась к ним. Они уверяли меня, что все будет хорошо.
На свадьбе я встретила бывшего священника-иезуита, который был антропологом-любителем. Мы проговорили с ним много часов подряд. Я рассказала ему о своем интересе к антропологическим изысканиям. Как будто ожидая от меня этого, он начал излагать спорные мнения о народных целителях, раскрывая социальную роль, которую они играли в своем окружении.
Я не упоминала целителей или целительство вообще, как возможное направление моих изысканий, хотя они и стояли для меня на первом плане.
Вместо чувства радости, что он, казалось бы, следует моим сокровенным желаниям, я начала опасаться, что стою на грани срыва. Когда же он сказал, что мне не следует посещать городок Сортес, хотя его и принято считать центром спиритизма в западной Венесуэле, я почувствовала, что он мне надоел до чертиков. Он, казалось, предвосхищал каждый мой шаг. Это был именно тот городок, куда я собиралась съездить, если не случится чего-нибудь еще.
Я вполне оправдала себя и уже собиралась покинуть священника, когда он довольно крикливым тоном сказал, что мне нужно серьезно подумать о поездке в Курмину, в северную Венесуэлу, где я могла бы найти феноменальную удачу, так как город был новым и истинным центром спиритизма и знахарства.
— Я не понимаю, как и откуда, но я знаю, что ты до смерти хочешь встретиться с ведьмами Курмины, — сказал он сухим деловым тоном.
Он взял кусок бумаги и начертил карту области. Затем отметил точные расстояния в километрах от Каркаса до разных мест, где, как он говорил, жили спириты, маги, ведьмы и знахари. Он уделил особое внимание имени Мерседес Перальты. Совершенно бессознательно он выделил его, сначала окружив его, а затем начертив вокруг него жирной линией квадрат.
— Она спиритуалистка, ведьма и знахарка, — сказал он, улыбаясь мне, — ты, наверное, захочешь повидать ее?
Я знала, о ком он говорит. Под руководством Флоринды я встречалась и сотрудничала со спиритами, магами, ведьмами и знахарями Северной Мексики и среди латинского населения южной калифорнии. С самого начала Флоринда дала мне их классификацию. Спириты являются практиками, которые умоляют души святых или чертей заступиться за них, а в некоторых случаях — за их пациентов. Их функция заключается в том, чтобы войти в контакт с духами и истолковать их советы. Советы даются посредством встреч, на которые вызывают духов. Маги и ведьмы являются практиками, которые влияют на своих пациентов непосредственно. С помощью знания оккультных наук они прикладывают неизвестные и непредсказуемые элементы к двум типам людей, которые приходят посмотреть на них. Это пациенты, ищущие помощи, и клиенты, жаждущие взглянуть на магические дела. Целители являются практиками, которые стремятся исключительно к восстановлению здоровья и благополучия.
Флоринда подстраховалась, она включила в эту классификацию все возможные классификации этих трех.
В шутливой форме, но со всей серьезностью, она утверждала, что в вопросе восстановления здоровья я предрасположена верить, что не западные методы менее эффективны, чем медицина запада. Она пояснила, что я ошибаюсь, не понимая, что лечение зависит от практикующего лечение, а не от знания тела. Она утверждала, что не западных методов лечения, как отдельной вещи, нет, поскольку лечение, в отличие от медицины, не является оформленной дисциплиной. Флоринда шутила надо мной, высмеивая мой предрассудок верить в то, что если пациент вылечился с помощью лекарственных растений, массажа или магических заклинаний, то либо болезнь была психосоматической, либо лечение было результатом везения, счастливой случайности, к которой сам практик не имеет никакого отношения.
Флоринда была убеждена, что человек, который удачно восстанавливает здоровье, будь он доктор или народный целитель, является тем, кто может изменять фундаментальные ощущения тела о себе и своих связях с миром — то есть тот, кто предоставляет свой ум и тело новым возможностям, при помощи которых могут быть сломаны привычные формы шаблонов, которым тело и ум приучены подчиняться.
Флоринда долго смеялась, когда я выразила искреннее удивление, выслушав подобные мысли, бывшие в то время для меня революционными. Она сказала мне, что все, о чем она говорит, происходит от знания, которое она делит со своими спутниками в мире нагваля.
Следуя инструкциям, данным Флориндой в записке, я позволила ситуации вести меня; я дала ей развиться с минимальным вмешательством с моей стороны. Я чувствовала, что должна переехать в Курмину и увидеть женщину, о которой говорил бывший священник-иезуит.
Когда я впервые приехала в дом Мерседес Перальты, мне пришлось немного подождать в затемненном коридоре, прежде чем я услышала голос, звавший меня из-за портьеры, служившей дверью. Я поднялась по двум ступенькам, ведущим в большую, слабо освещенную комнату, где чувствовался запах сигар и нашатыря. Несколько свечей, горевших на массивном алтаре у дальней стены, освещали статуэтки и картины святых, расставленные вокруг облаченной в голубую мантию девы из Коромото. Это была прекрасно вырезанная статуя с красными смеющимися губами, румяными щеками и глазами, которые, казалось, пристально смотрели на меня снисходительным и всепрощающим взором.
Я чуть-чуть прошла. В углу, почти скрытая между алтарем и высоким прямоугольным столом, сидела Мерседес Перальта. Она казалась спящей, ее голова откинулась на спинку стула, глаза были закрыты. Она выглядела очень старой. Я никогда не видела такого лица. Даже в своей спокойной неподвижности оно выдавало пугающую силу. Отблеск свечей скорее смягчал, чем подчеркивал решительность, отпечатанную в сети морщин.
Она медленно открыла глаза — они были огромными, миндальной формы.
Белки ее глаз незаметно меняли свой цвет. Сначала ее глаза были почти пустыми, затем они ожили и пристально посмотрели на меня с тревожной прямотой ребенка. Прошло несколько секунд и постепенно под ее пристальным взглядом, который не был ни враждебным, ни дружелюбным, я начала чувствовать себя неудобно.
— Добрый день, донья Мерседес, — приветствовала я ее прежде, чем окончательно потерять всю свою храбрость и убежать из дома, — мое имя Флоринда Доннер, и я буду очень прямолинейной, чтобы не занимать твое ценное время.
Она несколько раз мигнула, подстраивая свои глаза, чтобы продолжать смотреть на меня.
— Я приехала в Венесуэлу изучать методы лечения, — продолжала я, приобретая уверенность, — я учусь в университете в соединенных штатах, но мне по-настоящему нравится быть знахаркой. Я могу платить тебе, если ты примешь меня, как ученицу. Но даже если ты не примешь меня в ученицы, я могу заплатить тебе за любую информацию, которую ты мне сможешь дать.
Старая женщина не сказала ни слова. Она жестом пригласила меня сесть на табурет, затем поднялась и посмотрела на металлический предмет, лежавший на столе. На ее лице было комическое выражение, когда она вновь посмотрела на меня.
— Что это за аппарат? — спросила я отважно.
— Это морской компас, — небрежно сказала она, — он говорит мне всякого рода вещи.
Она подняла его и положила на самую верхнюю полку стеклянного буфета, который стоял у противоположной стены. По-видимому, ее осенила забавная мысль и она начала смеяться.
— Да, я дам тебе любого рода информацию о знахарстве, но не потому, что ты просишь меня об этом, а потому, что тебе повезло. Я уже знаю это наверняка. Чего я не знаю, так это сильна ли ты.
Старая женщина на миг замолчала, а затем вновь заговорила громким шепотом, совершенно не глядя на меня; ее внимание привлекло что-то, находящееся внутри стеклянного буфета.
— Удача и сила — вот все, на что можно полагаться, — сказала она, — я поняла, что ты везучая, той ночью, когда видела тебя на площади, ты еще смотрела на меня.
— Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказала я.
Мерседес Перальта повернулась лицом ко мне и вдруг захохотала так странно, что я определенно начала думать о ее безумии. Она раскрыла свой рот так широко, что я увидала несколько коренных зубов, которые у нее еще остались. Затем она резко остановилась, села на свой стул и начала настаивать на том, что видела меня ровно две недели назад поздно ночью на рыночной площади. Она объяснила мне, что была с другом, который вез ее домой из прибрежного поселка со спиритического сеанса. Хотя ее друг и был озадачен, увидев меня одну поздно ночью, она сама ничуть не удивилась.
— Ты мгновенно напомнила мне кое-кого, — сказала она, — это было после полуночи. Ты улыбалась мне.
Я не могла припомнить то, о чем она говорила или то, что я была одна на площади в столь поздний час. Но это могло быть; она видела меня в ту ночь, когда я приехала из Каркаса. Я напрасно ожидала целую неделю, что кончится дождь, и в конце концов рискнула выехать из Каркаса в Курмину.
Мне было прекрасно известно, что здесь бывают частые оползни, так что вместо обычных двух часов пути поездка заняла все четыре. В то время, когда я приехала, весь город спал, я же занялась поисками общежития вблизи от рыночной площади, которое мне порекомендовал бывший священник.
Она поразила меня своим упорством в том, что якобы знала, что я приехала ради нее, с целью увидеться с ней. Тогда я рассказала ей о бывшем священнике, и о том, что он говорил мне на свадьбе в Каркасе.
— Он прямо-таки настаивал, чтобы я повидалась с тобой, — сказала я, — он говорил, что твоими предками были маги и знахари, знаменитые в колониальные времена, и что они даже преследовались святой инквизицией.
Проблеск удивления мелькнул в ее глазах.
— Ты знаешь, что в те дни обвиненных ведьм пытались отправить из Картагена в Колумбию? — спросила она и тут же продолжала: — Венесуэла не была такой важной страной, чтобы иметь свой инквизиторский трибунал, — она сделала паузу и, глядя мне прямо в глаза, спросила: — где ты первоначально планировала изучать знахарские методы?
— В штате Яраку, — неопределенно сказала я.
— Сортес? — спросила она, — мария Лионза?
Я кивнула головой. Сортес был тем городом, где сосредоточился культ Марии Лионзы. Говорили, что рожденная от индейской принцессы и испанского конкистадора, Мария Лионза имела сверхъестественные силы. Сегодня в Венесуэле ее почитают тысячи людей, как самую святую и чудесную женщину.
— Но я приняла совет бывшего священника и приехала в Курмину, — сказала я, — потом переговорила с двумя знахарками, и обе они сошлись на том, что ты самая знающая, и только ты можешь объяснить мне тайны знахарства.
Я рассказала ей о методах, которым хотела следовать при обучении: я хотела непосредственно наблюдать и участвовать в каких-либо знахарских сессиях, при этом, по возможности, записывая их на магнитофон, и, что важнее всего, беседовать с пациентами, за которыми наблюдала.
Старая женщина кивала мне, время от времени хихикая. К моему величайшему удивлению, она полностью согласилась на предложенные мной условия. Она с гордостью сообщила мне, что несколько лет тому назад с ней беседовал психолог Каркасского университета, который даже прогостил в ее доме целую неделю.
— Думаю, что тебе будет выгодней переехать сюда и жить со мной, — предложила она, — комнат в этом доме достаточно.
Я приняла ее приглашение, но сказала, что рассчитываю остаться здесь по крайней мере на полгода. Она была невозмутима. По ее словам, я могла оставаться с ней годы.
— Я рада тебе, Музия, — прибавила она мягко.
Я улыбнулась. Хотя я родилась и выросла в Венесуэле, всю жизнь меня называли Музия. Это обычно пренебрежительный термин, но в зависимости от тона, в котором он произносится, его можно понимать, как ласковое выражение, относящееся к любому, кто является белокурым и голубоглазым.
4.
Напуганная слабым шорохом юбки, прошелестевшей позади меня, я раскрыла свои глаза и уставилась на свечу, горящую на алтаре в полутьме комнаты. Пламя мигнуло и испустило тонкую черную нить дыма. На стене выступила тень женщины с палкой в руке. Тень, казалось, была окружена частоколом мужских и женских голов, которые с закрытыми глазами сидели рядом со мной на старых деревянных стульях, расставленных по кругу. Я едва смогла подавить нервное хихиканье, поняв, что это Мерседес Перальта, которая вкладывает в рот каждого из нас большие самодельные сигары. Затем, сняв с алтаря свечу, она дала каждому прикурить от нее, и, наконец, переставила свой стул в центр круга. Глубоким монотонным голосом она начала петь непонятные, часто повторяющиеся заклинания.
Сдержав приступ кашля, я попыталась синхронизировать мое курение с быстрыми затяжками людей вокруг меня. Сквозь проступившие слезы я следила за их серьезными, окаменевшими лицами, которые с каждой затяжкой становились все живее и живее, пока не начали казаться растворяющимися в сгустившемся дыме. Подобно бестелесному объекту, рука Мерседес Перальты материализовалась из этого парообразного тумана. Щелкнув пальцами, она несколько раз начертила в воздухе воображаемые линии, соединяющие четыре главные точки (стороны света).
Подражая другим, я начала раскачивать свою голову вперед и назад в ритме со щелчками ее пальцев и ее низкоголосых заклинаний. Игнорируя растущую тошноту, я заставила себя держать глаза так, чтобы не фокусироваться на отдельных деталях того, что происходило вокруг меня. Это было первый раз, когда мне разрешили присутствовать на встрече спиритов.
Донья Мерседес служила медиумом и связным духов.
Ее собственное определение спиритов мало чем отличалось от объяснения Флоринды, за исключением того, что она признавала еще один независимый класс: медиумов. Она определяла медиумов, как проводящих посредников, служащих каналом, с помощью которого духи выражают себя. Она пояснила, что медиумы независимы потому, что они не принадлежат ни к одной из трех категорий. Но они могли быть всеми четырьмя категориями в одном.
— В комнате находится сила, которая мешает мне, — внезапно прервал заклинания доньи Мерседес мужской голос.
Тление сигар наполнило дымный мрак глазами обвиняемых, резко оборвалось групповое бормотание.
— Я вижу ее, — сказала она, вскакивая со своего стула. Она переходила от человека к человеку, делая на мгновение паузу около каждого.
Я вскрикнула от боли, когда почувствовала нечто, резко уколовшее мое плечо.
— Иди за мной, — шепнула она мне на ухо, — ты не в трансе.
Боясь, что я буду сопротивляться, она твердо взяла меня за руку и отвела к портьере, которая служила дверью.
— Но ты сама просила меня прийти, — сказала я ей прежде, чем она вытолкнула меня из комнаты, — я никому не помешаю, если тихо посижу в углу.
— Ты помешаешь духам, — прошептала она и бесшумно задернула занавес.
Я пошла на кухню в заднюю часть дома, где обычно работала по ночам, диктуя на магнитофон и компонуя свои понемногу растущие полевые заметки. Я начала записывать все то, что произошло на встрече. Попытка вспомнить все детали события или все слова беседы всегда была лучшей мерой борьбы с одиночеством, которое постоянно накатывало на меня.
Я работала до тех пор, пока не почувствовала себя сонной, мои глаза устали — света явно не хватало. Я собрала магнитофонные ленты и бумаги и пошла в свою комнату, расположенную в другом конце дома. На миг я остановилась на внутреннем патио. Мое внимание привлекли переменчивые пятна лунного света. Слабый ветерок будоражил ветви виноградных лоз, их зубчатые тени рисовали живописные кружевные узоры на кирпичной кладке внутреннего двора.
Прежде, чем увидеть женщину, я почувствовала ее присутствие. Она сидела на земле, почти скрытая большими терракотовыми горшками, раскиданными по всему патио. Пушистая копна волос венчала ее голову белым нимбом, но ее темное лицо оставалось неясным и смешанным с тенями вокруг нее.
Я никогда раньше не видела ее в доме. Мой первоначальный испуг рассеялся, когда я подумала, что это наверняка одна из подруг доньи Мерседес, а, возможно, и ее пациентка, или даже родственница Канделярии, которая ожидает ее возвращения со спиритического сеанса.
— Простите меня, — сказала я, — я здесь новенькая. Я работаю с доньей Мерседес.
Женщина кивнула мне. Казалось, она знала, о чем я говорю. Но она не проронила ни слова. Одержимая необъяснимой тревогой, я попыталась справиться с истерическим испугом. Я заставила себя повторять, что нет причин для паники в том, что старая женщина сидела на корточках в патио.
— Вы здесь на сеансе? — спросила я неуверенным голосом.
Женщина утвердительно кивнула головой.
— Я тоже была там, — сказала я, — но донья Мерседес прогнала меня.
Я вдруг почувствовала облегчение и захотела посмеяться над ситуацией.
— Ты боишься меня? — внезапно спросила старая женщина. Ее голос был резким, скрипучим и все же молодым.
Я засмеялась. Мне хотелось легкомысленно соврать ей, но что-то сдерживало меня. Я услышала свой голос, который говорил о том, как я была напугана ею.
— Пойдем со мной, — по-деловому приказала мне женщина.
Моей первой реакцией было последовать за ней, но вместо этого я услышала, что говорю то, о чем говорить не собиралась: — Я закончила свою работу. Если ты хочешь поговорить со мной, делай это здесь и сейчас.
— Я приказываю тебе, иди за мной! — закричала она.
Вся энергия моего тела, казалось, тотчас же вытекла из меня. Однако я заявила: — Почему ты не прикажешь себе оставаться здесь?
Я не могла поверить, что сказала именно так. Я была готова извиниться, когда странный запас энергии влился в мое тело и я почувствовала себя почти под контролем.
— Поступай, как знаешь, — сказала женщина и встала, выпрямившись. Ее рост был невообразимым. Она росла и росла, пока ее колени не оказались на уровне моих глаз.
В этот миг я почувствовала, что моя энергия оставляет меня, и я испустила серию диких пронзительных воплей.
Канделярия бегом спешила ко мне. Прежде чем я успела вдохнуть воздух и закричать снова, она проскочила расстояние между комнатой, где проходила встреча спиритов, и патио.
— Уже все в порядке, — повторяла она ласковым голосом, но я не могла остановить судорог, сотрясавших мое тело. А затем, не желая того, я расплакалась.
— Я не должна была оставлять тебя наедине, — сказала она извиняющимся тоном, — но кто бы подумал, что Музия сможет увидеть ее?
Прежде, чем другие участники встречи вышли посмотреть, что случилось, Канделярия увела меня на кухню. Она помогла мне сесть и дала стакан рома.
Я пила и рассказывала ей о том, что произошло в патио. В тот момент, когда я закончила и ром, и свой отчет, я почувствовала себя сонной, отвлеченной, но вовсе не пьяной.
— Оставь нас одних, Канделярия, — сказала донья Мерседес, входя в мою комнату. Канделярия уложила меня в постель, застелив кровать и для себя, чтобы быть здесь, когда я проснусь.
— Я не знаю, что говорить об этом, — начала донья Мерседес после долгого молчания, — но ты — медиум. Я знала это с самого начала, — ее лихорадочные глаза, казалось, были подвешены в прозрачной субстанции, она внимательно изучала мое лицо.
— Единственный смысл того, что они позволили тебе присутствовать на сеансе, заключается в том, что ты везучая. Медиумы везучие.
Несмотря на свои опасения, я рассмеялась.
— Это не смешно, — сказала она предостерегающе, — это очень серьезно.
В патио ты вызвала дух без чьей-либо помощи. И самый значительный дух, душа одного из моих предков пришла к тебе. Она приходит очень редко, но если приходит, это исполнено глубоким смыслом.
— Она — призрак? — спросила я наивно.
— Конечно, она была призраком, — убежденно сказала она, — мы понимаем вещи так, как тому научены. И здесь нет отклонения от правил. Мое убеждение таково, что ты видела самого устрашающего духа, и что живой медиум может общаться с душой мертвого медиума.
— Почему этот дух пришел ко мне? — спросила я.
— Не знаю. Однажды она пришла ко мне, чтобы предупредить меня, — ответила она, — но я не последовала ее совету, — ее глаза потеплели, а голос смягчился, когда она произнесла: — первое, что я сказала тебе, когда ты приехала, было то, что тебе повезло. Я тоже была везучей, пока кое-кто не погубил мое счастье. Ты напоминаешь мне этого человека. Он был блондин, как и ты. Его звали Федерико, и он тоже был везучим, но не имел никакой силы. Дух посоветовал мне оставить его одного. Я не сделала так и поплатилась за это.
Не зная, как отвести внезапный поворот событий или печаль, нашедшую на нее, я положила руку на ее плечо.
— У него не было никаких сил, — повторила она, — дух знал это.
Хотя Мерседес Перальта всегда была готова обсуждать все, что угодно, лишь бы это не относилось к ее практике, она довольно настойчиво уклонялась от моих расспросов о ее прошлом. Однажды, и я не знаю, застала ли я ее врасплох или это было преднамеренное движение в ее игре, она открыла, что много лет назад пережила огромную потерю.
Прежде, чем я смогла решить, действительно ли она поощряет меня задать несколько личных вопросов, она поднесла мою руку к своему лицу и прижала ее к щеке.
— Почувствуй этот рубец, — прошептала она.
— Что с тобой случилось? — спросила я, проведя пальцами по неровному шраму, проходящему по ее щеке и шее. Пока я не касалась его, шрам был неотличим от морщин. Ее темная кожа была так хрупка и я боялась, что она может развалиться в моей руке. Таинственная вибрация исходила из всего ее тела. Я не могла отвести своего взгляда от ее глаз.
— Мы не будем говорить о том, что ты видела в патио, — твердо сказала она, — вещи, подобные этой, относятся только к миру медиумов, а ты не должна обсуждать этот мир ни с кем. Я могу, конечно, посоветовать тебе не пугаться этого духа, но не надо глупо манить ее к себе.
Она помогла мне подняться с постели и повела на то самое место, где я увидела женщину. Когда я остановилась и начала рассматривать темноту вокруг нас, я осознала, что не имею понятия, спала ли я несколько часов или всю ночь и день.
Донья Мерседес, казалось, поняла мое смущение.
— Сейчас четыре часа утра, — сказала она, — ты спала почти пять часов.
Она присела там, где была женщина. Я тоже устроилась на корточках рядом с ней, между пучками жасмина, развешенными на деревянной решетке, своеобразной пахучей занавеси.
— Мне и в голову не приходило, что ты не знаешь, как курить, — сказала она и засмеялась своим сухим скрипучим смехом. Она сунула руку во внутренний карман юбки, вытащила оттуда сигару и прикурила ее.
— На встрече спиритов мы курили такие же сигары. Спириты знают, что запах табака ублажает духов, — после небольшой паузы она вложила зажженную сигару в мои губы, — попробуй покурить, — приказала она.
Я затянулась, глубоко вдохнув в себя. Крепкий дым вызвал кашель.
— Не затягивайся, — сказала она с нетерпением, — дай я покажу, как надо, — она достала сигару и запыхтела ею, вдыхая и выдыхая, постепенно укорачивая затяжки, — не надо курить легкими, кури своей головой, — объяснила она, — таким способом медиум вызывает духов. С сегодняшнего дня ты будешь вызывать духов на этом месте. И не рассказывай никому, пока сама не сможешь проводить встречи спиритов.
— Но я не хочу вызывать духов, — весело запротестовала я, — я хотела лишь присутствовать на одной из встреч и наблюдать за ее ходом.
Она посмотрела на меня с угрожающей решительностью.
— Ты медиум, а медиумы на встречах не наблюдают.
— Какой смысл во встречах? — спросила я, меняя тему.
— Смысл в том, чтобы задавать вопросы духам, — немедленно отозвалась она, — некоторые духи дают прекрасные советы. Другие бывают очень злобными, — она тихо засмеялась с легкой злостью, — какой появится дух, зависит от состояния жизни медиума.
— И тогда медиумы оказываются во власти духов? — спросила я.
Она надолго замолчала, глядя на меня. Ее лицо не выдавало никаких чувств. Затем вызывающим тоном она сказала: — Их нет, если ты сильна.
Она продолжала пристально смотреть на меня лютым взглядом, затем закрыла глаза. Когда она открыла их снова, они были лишены какого-либо выражения.
— Помоги мне пройти в мою комнату, — прошептала она. Опираясь на мою голову, она выпрямилась. Ее рука скользнула ниже моего плеча, по рукаву, твердые пальцы обвились вокруг моего запястья, словно обугленные корни.
Мы молча пробрели по темному коридору, где деревянные скамьи и стулья, покрытые козлиными шкурами, выстроились у стены. Она переступила порог своей спальни. Прежде, чем закрыть дверь, она еще раз напомнила мне, что медиумы не должны рассказывать о своем мире.
— В тот миг, когда я увидела тебя на площади, я поняла, что ты медиум и что ты придешь повидаться со мной, — заявила она. Улыбка, смысл которой я не поняла, исказила ее лицо, — ты пришла, чтобы принести мне что-то из моего прошлого.
— Что?
— Я не вполне уверена. Воспоминания, наверное, — сказала она неопределенно, — или, возможно, ты возвратишь мне мое старое везение, — она провела рукой по моей щеке и тихо закрыла дверь.
5.
Убаюкиваемая мягким ветерком и смехом детей, резвящихся на улице, я продремала весь день в гамаке, натянутом между двух деревьев. Я даже перестала ощущать аромат стирального порошка, смешанного с едким запахом креозола, которым Канделярия натирала каждый день полы, не считаясь с тем, грязные они или нет.
Я ожидала почти до шести часов. Затем, как просила Мерседес Перальта, я подошла к ее спальне и постучала. Никто не отвечал. Я тихо вошла в комнату. Обычно в это время она заканчивала прием пациентов, которые приходили к ней лечиться. Она никогда не принимала более двух посетителей в день. В свои плохие дни, которые были довольно часто, она вообще никого не принимала. На этот раз я хотела прокатить ее на своем джипе и прогуляться с ней по окрестным холмам.
— Это ты, Музия? — спросила донья Мерседес, вытягиваясь в своем низко подвешенном гамаке, закрепленном на металлических кольцах, вбитых в стены.
Я поздоровалась с ней и села на вторую кровать у окна. Она никогда не спала на ней. По ее словам, из этой кровати, несмотря на ее большие размеры, кто-то совершил фатальное падение. Ожидая, пока она встанет, я осматривала эту странно обставленную комнату, которая никогда не приводила меня в восторг. Вещи здесь были расставлены, по-видимому, с целеустремленным несоответствием. Два ночных столика у изголовья и основания кровати были завалены свечами и статуэтками святых и служили алтарями. Низкий деревянный платяной шкаф был выкрашен в голубой и розовый цвета. Он загораживал дверь, которая выходила на улицу. Я удивилась, что одежда доньи Мерседес — она никогда не носила ничего, кроме черного — висела повсюду, на крючках, на стене, за дверью, у изголовья и в ногах железной кровати, и даже на веревках, поддерживающих гамак. Хрустальная люстра, которая не работала, ненадежно болталась под потолком, сплетенным из тростника. Люстра была серой от пыли, и пауки оплели паутиной ее граненые призмы. На дверях висел отрывной календарь.
Скрестив пальцы на копне седых волос, Мерседес Перальта глубоко вздохнула и, спустив с гамака ноги, нашарила ими матерчатые сандалии. Она секунду посидела, затем подошла к высокому и узкому окну, выходящему на улицу, и открыла деревянную ставню. Она часто заморгала, пока ее глаза не приспособились к вечерним лучам, освещавшим ее комнату. Она внимательно посмотрела на небо, словно ожидая от заходящего солнца какое-то послание.
— Мы пойдем на прогулку? — спросила я.
Она медленно обернулась.
— На прогулку? — переспросила она, удивленно вскинув свои брови, — как мы можем идти гулять, когда меня ожидает какой-то человек.
Я раскрыла рот, уже готовясь сообщить ей, что к нам никто не приходил, но насмешливое выражение в ее усталых глазах вынудило меня замолчать. Она взяла меня за руку и мы вышли из комнаты.
На деревянной скамье у входа в комнату, где Мерседес Перальта лечила людей, приходящих за помощью, прижав подбородок к груди, дремал слабый и старый на вид мужчина. Почувствовав наше присутствие, он выпрямился.
— Я плохо себя чувствую, — сказал он слабым невыразительным голосом, взяв в руки свою соломенную шляпу и трость, лежащую рядом.
— Октавио Канту, — сказала Мерседес Перальта, предварительно пожав ему руку. Она подвела его к двум ступенькам в комнату. Я следовала за ними по пятам. Он обернулся и посмотрел на меня вопросительным взглядом.
— Она помогает мне, — сказала она, — но если ты не хочешь, чтобы она была с нами, она уйдет.
Он остановился на мгновение, нервно постукивая ногой. Его рот дважды кривился в улыбке.
— Если она будет помогать тебе, — прошептал он с трогательной беспомощностью, — я полагаю, что все будет хорошо.
Быстрым движением своей головы Мерседес Перальта указала мне на мой табурет у алтаря, затем помогла старику сесть на стул прямо перед высоким прямоугольным столом. Она присела справа от него, лицом к нему.
— Где же он может быть? — несколько раз пробормотала она, перебирая груду банок, свечей и сигар, сухих корней и обрезков ткани, разбросанных на столе. Она вздохнула с облегчением, найдя свой морской компас, который тотчас положила перед Октавио Канту. Ее взгляд пристально изучал круглую металлическую коробочку.
— Взгляни на это! — воскликнула она, подзывая меня подойти поближе.
Это был тот самый компас, на который она смотрела в первый день моего прихода. Стрелка, еле различимая сквозь матовое, сильно поцарапанное стекло, энергично двигалась взад и вперед, как бы одушевляемая какой-то невидимой силой, исходящей от Октавио Канту.
Мерседес Перальта использовала компас, как диагностический прибор только тогда, когда считала, что человек страдает скорее от душевного недуга, чем от естественной болезни. До сих пор я не могла определить, каким критерием пользуется она для различения этих двух видов болезней. По ее словам, душевный недуг мог проявить себя в форме ряда неудач или холода во всем теле, который в зависимости от обстоятельств мог определяться и как естественное заболевание.
Ожидая найти какое-то механическое приспособление, активизирующее стрелку, я на всякий случай изучила компас. И поскольку там ничего подобного не оказалось, я приняла ее объяснение за бесспорную истину: когда человек уравновешен, т.е. когда тело, ум и душа находятся в гармонии, стрелка не двигается вообще. Доказывая свое мнение, она поочередно ложила компас напротив себя, Канделярии и меня. К моему великому изумлению стрелка двигалась только тогда, когда компас был положен передо мной.
Октавио Канту, вытянув свою шею, близоруко щурился на инструмент.
— Я болен? — тихо спросил он, взглянув на донью Мерседес.
— Это твоя душа, — прошептала она, — твоя душа в великом смятении.
Она положила компас в стеклянный буфет, затем встала рядом со стариком и опустила обе руки ему на голову. Она оставалась в таком положении довольно долго, затем быстрыми, уверенными движениями провела пальцами по его плечам и рукам, быстро встала напротив него, ее руки счищали что-то вниз с его груди, ног, ступней. Она читала молитву, которая частично была церковным напевом, а частично заклинанием. По ее словам, любой хороший целитель знает, что католицизм и спиритуализм дополняют друг друга. Она поочередно массировала его спину и грудь в течение получаса.
Давая минутный отдых уставшим рукам, она периодически встряхивала их энергично позади его спины. Она называла это сбрасыванием накопленной отрицательной энергии.
Отмечая конец первой части своего лечения, она топнула три раза о пол правой ногой. Октавио Канту непроизвольно вздрогнул. Она держала его голову сзади, сдавливая ладонями его виски, пока его дыхание не стало медленным и трудным. Бормоча молитву, она двинулась к алтарю, зажгла свечу, а затем и сигару, которую начала курить быстрыми ритмичными затяжками.
— Я должен рассказать это сейчас, — сказал старик, нарушая дымное безмолвие.
Напуганная его голосом, она начала кашлять до тех пор, пока слезы не покатились по ее щекам. Я забеспокоилась — не подавилась ли она дымом.
Октавио Канту, не обращая внимания на ее кашель, продолжал говорить: — Я рассказывал тебе уже много раз, что трезвый я или пьяный, мне снится один и тот же сон. Я нахожусь в своей лачуге. Она пустая. Я чувствую сквозняк и вижу тени, снующие повсюду. Но при этом нет более собак, лающих на пустоту и на тени. Я просыпаюсь от ужасного давления, словно кто-то уселся на мою грудь; а когда я открываю глаза, я вижу желтые зрачки собаки. Они открываются все шире и шире, пока не поглощают меня...
Его голос угас. Задохнувшись, он блуждал взглядом по комнате.
Казалось, что ему не совсем понятно, где он находится.
Мерседес Перальта бросила окурок на пол. Схватив сзади его стул, она быстро крутнула его так, что он оказался лицом к алтарю. Медленными гипнотическими движениями она начала массировать область вокруг его глаз.
Я, должно быть, задремала, так как обнаружила себя в одиночестве в пустой комнате. Я быстро огляделась. Свеча на алтаре почти сгорела. Вправо надо мной в углу, ближе к потолку, сидел мотылек величиной с небольшую птицу. У него были большие черные круги на крыльях, они пристально смотрели на меня любопытным взором.
Внезапный шорох заставил меня обернуться. У алтаря на своем стуле сидела Мерседес Перальта. Я приглушенно вскрикнула. Ее не было здесь минутой раньше, я могла присягнуть в этом.
— Я не знала, что ты здесь, — сказала я, — посмотри на этого большого мотылька над моей головой.
Я поискала глазами насекомое, но оно улетело.
В том, как она смотрела на меня, было нечто такое, что заставило меня содрогнуться.
— Я устала сидеть и заснула, — объяснила я, — и даже не узнала, что было с Октавио Канту.
— Он иногда приходит повидаться со мной, — сказала она, — я нужна ему, как спиритуалист и лекарь. Я облегчаю бремя, взваленное на его душу.
— Она повернулась к алтарю и зажгла три свечи. В мерцающем блеске ее глаз был цвет крыльев мотылька, — иди-ка ты лучше спать, — предложила она.
6.
Когда я проснулась снова, я быстро оделась и выбежала в темный коридор. Вспомнив о скрипучих петлях, я аккуратно открыла дверь в комнату Мерседес Перальты и на цыпочках подошла к гамаку.
— Ты не спишь? — прошептала я, отводя марлю противомоскитной сетки, — ты все еще хочешь идти на прогулку?
Ее глаза медленно открылись, но она еще не проснулась и продолжала безмятежно всматриваться вперед.
— Я пойду, — наконец сказала она хрипло, полностью отбросив сетку.
Прочистив горло и сплюнув в ведро на полу, она как бы наперекор себе прошептала: — я рада, что ты вспомнила о нашей прогулке.
Закрыв глаза и сложив руки, она помолилась деве и святым на небесах, индивидуально поблагодарив каждого из них за руководство в помощи тем людям, которых она лечила, а затем попросила у них прощения.
— Почему ты просишь прощения? — спросила я сразу же, как только она закончила свою длинную молитву.
— Взгляни на линии моих ладоней, — сказала она, положив свои руки мне на колени.
Указательным пальцем я очертила ясно выраженные "у" и "м", которые, казалось, были отштампованы на ее руках: "у" — на левой ладони, "м" — на правой.
— "У" означает вида, жизнь. "М" означает муэртэ, смерть, — объяснила она, произнося слова с преднамеренной выразительностью, — я была рождена с силой лечить и причинять вред.
Она подняла руки с колен и помахала в воздухе, будто собираясь стереть слова, которые произнесла. Она оглядела комнату, затем осторожно опустила свои худые ноги и сунула их в сапожки с дырами для пальцев. Ее глаза мерцали забавой, когда она расправляла черную блузу, и юбку, в которой спала.
Держась за мою руку, она вывела меня из комнаты.
— Разреши мне показать тебе кое-что, прежде чем мы отправимся на прогулку, — сказала она, направляясь в рабочую комнату. Она повернулась к массивному алтарю, который был целиком сделан из расплавленного воска. Все началось с одной свечи, объяснила она, ее пра-пра-бабушки, которая тоже была знахаркой.
Она нежно провела рукой по блестящей, почти прозрачной поверхности.
— Найди черный воск среди этих разноцветных полос, — подгоняла она меня, — это знаки того, что ведьмы жгли черные свечи, используя для вреда свою силу.
Бесчисленные полоски черного воска сбегали в цветастую кайму.
— Те, что поближе к верхней части — мои, — сказала она. Ее глаза блеснули странной свирепостью, когда она добавила: — истинная целительница является еще и ведьмой.
Проблеск улыбки мелькнул на ее губах, затем она продолжала рассказывать о том, что имя ее хорошо известно не только по всей области, но и людям, приходящим из Каркаса, Маракаибы, Мериды и Кумана. О ней ходят слухи за границей: в Тринидаде, Кубе, Колумбии, Бразилии и Гаити. У нее собраны фотографии, свидетельствующие, что среди этих людей были главы государств, послы и даже епископы.
Она загадочно взглянула на меня, а затем пожала плечами.
— Моя удача и моя сила были одно время бесподобными, — сказала она, — я растранжирила и то и другое, и сейчас могу только лечить, — ее усмешка усилилась, а глаза загадочно заблестели, — как продвигается твой труд? — спросила она с невинным любопытством ребенка. Но прежде, чем я отважилась на внезапную перемену темы, она продолжила: — сколько бы целителей и пациентов ты ни опросила, ты никогда не будешь изучать этот путь.
Настоящая целительница должна быть сначала медиумом и спиритом, а затем ведьмой.
Ее ослепительная улыбка расцвела на ее лице.
— Не расстраивайся слишком, если в один из этих дней я сожгу твои исписанные блокноты, — сказала она небрежно, — со всей этой чепухой ты тратишь зря время.
Я забеспокоилась. Мне не очень понравилась перспектива увидеть свой труд горящим в пламени.
— Ты знаешь, что действительно достойно интереса? — спросила она и тут же ответила на свой вопрос, — результаты, которые идут дальше поверхностных аспектов лечения. Вещи, которые нельзя объяснить, но можно испытать. Здесь достаточно людей, изучавших знахарство. Они думали, что, наблюдая и записывая, можно понять то, чем занимаются медиумы, ведьмы и целители. Поскольку их невозможно разубедить, чаще бывает легче оставить их в покое — пусть делают, что хотят.
Но этого нельзя допустить в твоем случае, — продолжала она, — я не могу позволить тебе впустую тратить время. Вместо того, чтобы изучать знахарство, ты должна практиковать вызовы духа моего предка по ночам в патио этого дома. Не делай записей об этом, духи ценят время, затраченное на другое. Ты же видела. Заключать сделку с духами — значит закапывать себя под землю.
Воспоминания о женщине, которую я видела в патио, ужасно взволновали меня. Мне захотелось бросить все мои поиски, забыть о планах Флоринды и бежать отсюда, сломя голову.
Внезапно донья Мерседес рассмеялась; этот ясный взрыв смеха рассеял мои страхи.
— Музия, видела бы ты свое лицо, — сказала она, — ты была почти в обмороке. Среди прочего, ты еще и трусишка.
Несмотря на ее насмешливый тон, в ее улыбке чувствовалась симпатия и ласка.
— Я не могу принуждать тебя. Поэтому я дам тебе что-то такое, что понравится тебе — нечто более ценное, чем твои исследовательские планы.
Присмотрись к жизни некоторых людей, на которых я укажу тебе. Я сделаю так, что они будут рассказывать тебе. Рассказы о судьбе. Рассказы об удаче. Рассказы о любви, — она придвинула свое лицо поближе ко мне и мягким шепотом добавила: — рассказы о силе и рассказы о слабости. Это будет дар тебе, данный, чтобы умилостивить тебя, — она взяла мою руку и вывела меня из комнаты, — идем на нашу прогулку.
Наши шаги гулко отозвались эхом на тихой, пустынной улице с высокими бетонными тротуарами. Проходя мимо сонных домов, Мерседес Перальта заметила, что во времена, когда она была юной знахаркой, ее дом — самый большой на улице — уединенно стоял на окраине.
— Но сейчас, — сказала она, очертив широким жестом руки полукруг, — кажется, я живу в центре города.
Мы свернули на центральную улицу и дошли до рыночной площади, там присели на скамью лицом к статуе боливара на коне. По одну сторону площади высилось здание муниципалитета, на другой стороне стояла церковь с колокольней. Большую часть старых домов снесли, заменив их современными строениями. Однако там, где старые здания еще уцелели, с их коваными чугунными решетками, с красной черепицей на крышах, серых от времени, с широкими карнизами, которые позволяли дождевой воде свободно стекать подальше от ярко окрашенных стен, — они придавали центру города своеобразный колониальный шарм.
— Этот город здорово изменился с тех пор, как на башне ратуши починили часы, — задумчиво сказала она.
Она объяснила, что давным-давно, как бы в отместку за приход прогресса, башенные часы вдруг остановились на двенадцатичасовой отметке.
Местный фармацевт, увидев это, починил их и, словно по мановению волшебной палочки, улицы уставили фонарными столбами, а на площади устроили фонтаны, чтобы газоны оставались зелеными круглый год. Раньше каждый знал, что было событие, повсеместно изменившее индустриальные центры.
Она на секунду остановилась, переводя дыхание, затем указала на застроенные лачугами холмы, окружавшие город.
— Вот так хижины переселенцев создавали город, — добавила она.
Мы встали и пошли в конец центральной улицы, туда, где начинались холмы. Лачуги, сделанные из гофрированных металлических листов, упаковочных ящиков и листьев картона, едва держались на крутых склонах.
Владельцы хибарок, выходящих поближе к городским улицам, нахально крали электричество от фонарных столбов. Изолированные провода были примитивно замаскированы цветными лентами. Мы свернули с улицы в переулок и наконец пошли узкой тропинкой, извилисто ведущей к одинокому холму, на который переселенцы еще не претендовали.
В воздухе, все еще сыром от ночной росы, пахло диким розмарином. Мы взобрались почти на вершину холма, к одиноко растущему дереву, и там уселись на сырую землю, покрытую мелкими молодыми маргаритками.
— Ты слышишь море? — спросила Мерседес Перальта.
Легкий ветерок резвился в кудлатой кроне дерева, разбрасывая россыпь мелких золотых цветов. Они, словно бабочки, кружась, опускались на ее волосы и плечи. Ее лицо было залито безмятежным спокойствием. Она слегка раскрыла рот, обнажив несколько зубов, желтых от табака и возраста.
— Ты слышишь море? — повторила она, скосив на меня сонные, слегка затуманенные глаза.
Я сказала ей, что море слишком далеко, за горами.
— Я знаю, что море далеко, — тихо сказала она, — но в этот ранний час, когда город еще спит, я всегда слышу шум волн, гонимых ветром, — закрыв свои глаза, она прислонилась к стволу дерева.
Утреннюю тишину развеял рев грузовика, мчащегося вниз по узкой улочке. Я не поняла, был ли это португальский пекарь, доставлявший свои свежевыпеченные булочки, или полиция, подбиравшая последних пьяниц.
— Посмотри, кто это, — подбодрила она меня.
Я спустилась на несколько шагов вниз по тропинке и увидела старика, выходящего из зеленого грузовика, который остановился у подножия холма.
Его пиджак свободно болтался на сутулых плечах, а голову скрывала соломенная шляпа. Почувствовав, что на него смотрят, он поднял глаза и помахал своей тросточкой, приветствуя меня. Я помахала ему в ответ.
— Это старик, которого ты лечила прошлой ночью, — сказала я ей.
— Вот же везет! — прошептала она, — позови его. Скажи ему, чтобы он шел сюда. Скажи ему, что я хочу его видеть. Мой дар тебе начинается.
Я сбежала вниз, туда, где остановился его грузовик, и попросила старика подняться вместе со мной на холм. Он без слов последовал за мной.
— Сегодня собак не было, — сказал он Мерседес Перальте вместо приветствия и сел рядом с ней.
— Я открою тебе тайну, Музия, — сказала она, жестом пригласив меня сесть напротив, — я — медиум, ведьма и целитель. Из этой троицы мне по нраву второе, так как ведьма имеет особый способ понимания таинств судьбы.
Почему так случается, что некоторые люди становятся богатыми, удачливыми и счастливыми, когда другие находят только трудности и боль? Что бы ни означали эти вещи — это не то, что ты называешь судьбой; она — нечто большее, более таинственное, чем это. И только ведьмы знают о ней.
Ее черты лица на секунду напряглись с выражением, которое я не уловила, так как она повернулась к Октавио Канту.
— Некоторые люди говорят, что мы рождаемся с нашей судьбой. Другие утверждают, что мы создаем нашу судьбу своими поступками. Ведьмы говорят, что ни то, ни другое не верно, и что нечто большее настигает нас, подобно бульдожьей хватке. Тайна будет здесь, если мы захотим быть схваченными. Но ее здесь не будет, если мы этого не захотим.
Ее взгляд ласкал восточное небо, где над далекими горами поднималось солнце. Минуту спустя она вновь повернулась к старику. Ее глаза, казалось, поглотили сияние солнца и блестели, горя огнем.
— Октавио Канту будет приходить к нам лечиться, — сказала она, — может быть мало-помалу он расскажет тебе свой рассказ. Рассказ о том, как случай связывает жизни, о том, что только ведьмы знают, как закрепить их в один узел.
Октавио Канту кивнул в знак согласия. Робкая улыбка расползлась по его губам. Редкая бородка на его подбородке была такой же седой, как и волосы, торчащие из-под соломенной шляпы.
Октавио Канту приходил в дом доньи Мерседес восемь раз. По-видимому, она периодически лечила его с того времени, когда он был еще молодым.
Вдобавок к своей старости и дряхлости, он был к тому же алкоголиком.
Однако, донья Мерседес подчеркивала, что все его болезни были душевными.
Он нуждался в заклинаниях, а не в медицине.
Сперва он неохотно беседовал со мной, но затем, возможно, почувствовав себя более уверенно, начал раскрываться. Мы часами обсуждали его жизнь. В начале каждой беседы он, казалось, был подавлен отчаянием, одиночеством и подозрительностью. Он допытывался, зачем я интересуюсь его жизнью. Но надо отметить, что он всегда сдерживал себя и, восстановив свой апломб, остаток беседы — час или целый день — рассказывал о себе искренне и раскованно, словно о совершенно другом человеке.
***
Октавио откинул в сторону кусок картона и пробрался через небольшое двероподобное отверстие внутрь лачуги. Здесь света почти не было, а едкий дым огня в каменном очаге вышибал из глаз слезы. Октавио сильно зажмурился и побрел в темноте на ощупь. Споткнувшись о какие-то жестянки, он сильно ударился головой о деревянный ящик.
— Будь проклято это вонючее место, — выругался он на одном дыхании.
Октавио присел на миг на утрамбованный земляной пол и потер ногу. В дальнем углу этой жалкой хибары он увидел старика, спавшего на потрепанном заднем сидении, снятом с автомашины. Медленно, обходя ящики, веревки, тряпье и коробки, разбросанные на земле, он побрел туда, где лежал старик.
Октавио чиркнул спичкой. При тусклом свете спящий мужчина выглядел мертвым. При вдохе и выдохе его грудь двигалась так слабо, что казалось, будто он вообще не дышит. Выпирающие скулы буквально торчали на его черном истощенном лице. Его рваные грязные брюки были подвернуты до икр, а рубашка цвета хаки, с длинными рукавами, плотно облегала его морщинистую шею.
— Виктор Джулио! — воскликнул Октавио, энергично встряхивая старика.
— Проснись!
Сморщенные веки Виктора Джулио с трепетом открылись на миг, оголив бесцветные белки его глаз.
— Проснись! — заорал Октавио в полном отчаянии. Он схватил узкополую соломенную шляпу, лежавшую на земле, и с силой надел ее на растрепанные седые волосы старика.
— Что ты за дьявол? — заворчал Виктор Джулио, — чего тебе надо?
— Это я, Октавио Канту. Я назначен мэром твоим помощником, — объяснил он с важным видом.
— Помощником? — старик, шатаясь, поднялся на ноги, — мне не нужен помощник, — он напялил свои потрепанные, не зашнурованные ботинки и начал бродить кругами по темной комнате, пока, наконец, не нашел бензиновый фонарь. Он зажег его, затем потер глаза и часто заморгал, внимательно рассматривая молодого человека.
Октавио Канту был среднего роста, с сильными бицепсами, выпиравшими сквозь расстегнутый выцветший синий жакет. Его брюки, которые казались слишком велики ему, мешковато обвисали на его новые лакированные туфли.
Виктор Джулио тихо засмеялся, спросив, не думает ли Октавио обворовать его.
— Так ты, значит, новый человек, — сказал он скрипучим голосом, пытаясь определить цвет глаз Октавио, затемненных красной бейсбольной кепочкой. Это были летающие глаза цвета влажной земли. Виктор Джулио определенно заподозрил в чем-то молодого человека.
— Я никогда не видел тебя здесь прежде, — сказал он, — откуда ты взялся.
— Из Парагваны, — резко ответил Октавио, — здесь я временно. Я встречал тебя несколько раз на площади.
— Из Парагваны, — сонно повторил старик, — я видел песчаные дюны Парагваны, — он встряхнул головой и резким голосом осведомился: — что ты намерен делать в этом богом забытом месте? Разве ты не знаешь, что у этой дыры нет будущего? Ты просто прикинь, куда переселяется молодежь.
— Все меняется, — заявил Октавио, усердно уклоняясь от разговора о себе, — этот городок вырастет. Иностранцы скупят здесь кофейные плантации и поля сахарного тростника. Они построят здесь заводы и фабрики. Народ валом повалит в этот город. Люди придут сюда, чтобы разбогатеть.
Виктор Джулио скорчился от смеха, — заводы не для таких, как мы. Если ты застрянешь здесь слишком надолго, то кончишь подобно мне, — он положил руку на плечо Октавио, — я знаю, почему ты забрался так далеко от Парагваны. Ты бежишь от чего-то? — спросил он, пристально разглядывая беспокойные глаза молодого человека.
— А что, если так? — неловко уклонился Октавио. Он знал, что не скажет ему ничего. Никто не знал о нем в этом городе. Но что-то в глазах старика тревожило его, — дома у меня было несколько неприятностей, — пробормотал он уклончиво.
Виктор Джулио прошел шаркающей походкой к отверстию в хижине, снял джутовый мешок, висевший на ржавом гвозде, и вытянул оттуда бутылку дешевого рома. Его руки, переплетенные вздутыми венами, непроизвольно тряслись, когда он отвинчивал крышку бутылки. Не обращая внимания на то, что янтарная жидкость струится вниз по его тощей бороде, он несколько раз глотнул.
— Нам надо многое сделать, — сказал Октавио, — лучше собирайся и пойдем.
Я был молод, как и ты, когда другой мэр назначил меня помощником к одному старику, — вспомнил Виктор Джулио, — ах, как я был силен и усерден в труде. Но взгляни на меня сейчас. Даже ром уже не может согреть мое горло, — опустившись на землю, Виктор Джулио искал свою походную трость, — эта палка принадлежала тому старику. Он дал мне ее перед своей смертью, — он протянул Октавио темную, прекрасно отполированную трость, — она сделана из твердого дерева, растущего в джунглях амазонки. Ее даже нельзя сломать.
Октавио мельком взглянул на трость, а затем спросил с нетерпением: — что толку в этой болтовне? Или нам больше нечем заняться?
Старик усмехнулся, — мясо замочено уже вчера. Сейчас оно должно быть готово. Оно на улице, позади лачуги, в стальном баке.
— Покажи мне, что надо делать с мясом? — попросил Октавио.
Виктор Джулио засмеялся. У него не было передних зубов, а оставшиеся желтые коренные зубы выглядели, словно два столбика в дыре его рта, — здесь и в самом деле нечего показывать, — сказал он сквозь взвизгивающий хохот, — я просто захожу к фармацевту, когда надо приготовить мясо. Он поливает мясо чем-то похожим на маринад. Фактически, — объяснял он, — ничего сложного в этом нет, — его рот расплылся в широкой ухмылке, — я всегда беру мясо из скотобойни, которая нравится мэру, — он сделал долгий глоток из бутылки, — ром помогает мне войти в норму, — он почесал свой подбородок, — собаки настигнут меня в один из этих дней, — прошептал он со вздохом и вручил полупустую бутылку Октавио, — ты лучше хлебни немного.
— Нет, спасибо, — вежливо отозвался Октавио, — я не могу пить на пустой желудок.
Виктор Джулио раскрыл свой рот, готовясь сказать что-то. Но вместо этого он поднял дорожную трость и джутовый мешок, пригласив Октавио следовать за ним. Увлеченный чем-то, он на миг остановился и взглянул на небо. Оно было ни темным, ни светлым, но каким-то необычно и угнетающе серым, что бывает иногда перед рассветом. Вдали он услышал лай собаки, — мясо здесь, — сказал он, указывая подбородком на стальной бак, стоящий на деревянном обрубке. Он передал Октавио свернутую веревку, — если ты подвяжешь на спину этот бак, тебе будет легче нести его.
Октавио со знанием дела обвязал веревку вокруг стального бака, поднял его на спину и, скрестив веревки на своей груди, прочно завязал не ниже пупка, — это все, что нужно? — спросил он, уклоняясь от взгляда старика.
— У меня в мешке есть еще несколько запасных веревок и канистра с керосином, — объяснил Виктор Джулио, снова отхлебнув глоток рома и небрежно засунув бутылку в карман. След в след они зашагали сухим оврагом, который рассекал заросли тростника. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь трелями сверчков и ласковым ветерком, снующим между кинжальных отростков тростника. Виктор Джулио беспокойно вздохнул. У него болела грудь. Он чувствовал себя усталым. Ему хотелось лечь на твердую землю здесь, лежать... Его взгляд часто возвращался к лачуге, которая становилась все меньше и меньше.
Предчувствие охватило его. Конец был близок. Он уже давно знал, что слишком стар и слаб для той работы, которую должен выполнять. Это был только вопрос времени, поэтому они прислали нового человека.
— Виктор Джулио, идем, — нетерпеливо закричал Октавио, — уже поздно.
***
Город тихо спал. Лишь несколько старых женщин толпилось у церкви.
Покрыв свои головы черными платками, они прошли мимо двух мужчин, не отвечавших на их приветствия. На узких бетонных тротуарах, пытаясь найти защиту у безмолвных домов, перед закрытыми дверьми, свернувшись, лежали костлявые и ужасные на вид собаки.
По команде Виктора Джулио Октавио опускал стальной бак на землю и открывал тугую крышку. Пользуясь длинными деревянными щипцами, которые он вытащил из своего мешка, старик выбирал из бака большой кусок мяса и кидал его собаке. Таким образом он и Октавио медленно пересекли весь город, подкармливая каждую бездомную собаку, мимо которой они проходили. С жадностью, виляя хвостами, животные пожирали смертельную еду.
— Сожрут тебя в аду эти собаки, — закричала толстая старуха, закрывая за собой большую деревянную дверь старой католической церкви по другую сторону площади.
— Совсем спятила, — заорал в ответ Виктор Джулио, вытирая свой нос рукавом рубашки, — я думаю, из тебя мы в будущем приготовим хороший корм для собачек.
— Я насчитал семнадцать, — пожаловался Октавио, распрямляя заболевшую спину, — судьба дохлых псов оттягивает мои плечи.
— Что ж, взвалим на них еще одну, — сказал Виктор Джулио. Зловещая улыбка скривила его лицо, — здесь есть еще одна собака, которой не суждено найти смерть на улице.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Октавио и развернул вокруг головы свою красную бейсбольную кепку, озадаченно вглядываясь в его лицо.
Глаза Виктора Джулио сузились, его зрачки блестели злыми огоньками.
Его худое старое тело дрожало от ожидания, — я сильно нервничаю. Сейчас я убью черного Германа, пастушью собаку лавочника Лебанесы.
— Ты не сделаешь этого, — запротестовал Октавио, — это не бродячая собака. Она не больна. Ее хорошо кормят. Мэр говорил только о бездомных и больных собаках.
Виктор Джулио громко выругался и зло посмотрел на своего помощника.
Он не сомневался, что это был его последний шанс воспользоваться ядом.
Если не Октавио, так кто-то другой будет ведать уничтожением собак к концу текущего сезона. Он понимал, почему молодой человек не хочет причинять кому-то неприятности, но это же не его забота. Он жаждал смерти собаки Лебанесы с тех пор, как она покусала его. Это был последний шанс.
— Этого пса обучили для травли, — сказал Виктор Джулио, — каждый раз, вырвавшись, он кусает кого-то. Он искусал меня несколько месяцев тому назад, — старик оголил свою израненную ногу, — посмотри на шрам! — сердито ворчал он, растирая лиловое узловатое место на своей икре, — лебанеса даже не побеспокоился отвести меня к доктору. Не знаю, кто из них бешеный, собака или ее хозяин.
— Все равно ты не убьешь собаку, — настаивал Октавио, — этот пес не уличный. У него есть владелец, — он умоляюще посмотрел на старика, — ты только напросишься на неприятность.
— Кого это волнует? — воинственно огрызнулся Виктор Джулио, — я ненавижу это животное, и у меня не будет другой возможности убить его, — он бросил свой мешок на плечо, — пошли, идем же.
Октавио неохотно последовал за стариком. По узкому переулку они вышли на окраину города и остановились перед большим зеленым домом.
— Собака должна быть за домом, — сказал Виктор Джулио, — посмотрим.
Они пошли вдоль кирпичной стены, окружавшей задний двор. Но собаки здесь не было.
— Давай оставим это, — зашептал Октавио, — я уверен, что собака спит внутри дома.
— Она должна выйти, — сказал Виктор Джулио и заколотил тростью по стене.
Громкий лай расколол утреннюю тишину. Старик возбужденно подпрыгнул, размахивая тростью в воздухе, — дай мне остатки мяса, — потребовал он.
Октавио снял веревку со своей груди и неохотно опустил стальной бак на землю. Старик вытащил деревянными щипцами последние куски мяса и бросил их через забор.
— Ты только послушай, как эта скотина глотает отраву, — весело болтал Виктор Джулио, — эта злобная тварь так же голодна, как и остальные.
— Пойдем быстрее отсюда, — зашептал Октавио, закидывая бак на спину.
— Не спеши, — рассмеялся старик. Чувство восторга охватило его, когда он нашел, на что встать.
— Идем, — настаивал Октавио, — нас могут заметить.
— Не смогут, — спокойно заверил Виктор Джулио, поднимаясь на шаткий деревянный ящик, приставленный к стене. Встав на цыпочки, он рассматривал беснующуюся собаку. Яростно лая и не жалея своего горла, животное разбрызгивало пену и кровь, пытаясь вырваться на свободу. Вот уже ноги перестали сгибаться. Пес свалился набок. Сильные судороги скрутили его тело.
Виктор Джулио задрожал, — как он тяжело умирал, — шептал он, спрыгнув с ящика. Он не чувствовал никакого удовольствия от того, что отравил собаку Лебанесы. Все эти годы, уничтожая собак, он всегда избегал смотреть на то, как они умирают. Он никогда не получал удовольствия, убивая бродячих дворняжек города. Это была только его работа, единственно доступная для него.
Смутный страх закрался в сердце Виктора Джулио. Он посмотрел на пустынную дорогу внизу. Затем, подогнув большой палец на левой руке, он положил между ним и запястьем свою трость. Держа руку вытянутой, он начал вращать трость взад и вперед так быстро, что казалось, будто трость подвесили в воздухе.
— Что это за фокус? — спросил Октавио, увлеченно наблюдая за ним.
— Это не фокус. Это искусство. Это единственное, что я делаю хорошо, — печально пояснил Виктор Джулио, — по утрам и после обеда я развлекаю маленьких детей на площади. Некоторые дети даже дружат со мной, — он передал трость Октавио, — попробуй. Посмотрим, сможешь ли повторить это.
Виктор Джулио взахлеб хохотал над неуклюжими попытками Октавио удержать трость так, как полагалось, — это требует долгих лет практики, — сказал старик, — надо развивать свой большой палец, оттягивая его назад, пока он не коснется запястья. И ты должен двигать рукой очень быстро, чтобы трость не имела времени упасть на землю.
Октавио вернул ему трость, — давай лучше поймаем этих собак! — воскликнул он, удивленный внезапным появлением утреннего зарева и красочных пятен, возникших на восточном небе.
— Виктор Джулио, подожди меня, — закричал позади них ребенок.
Босая, с черными спутанными волосами, завязанными на затылке, шестилетняя девочка быстро догоняла мужчин, — посмотри, какую игрушку подарила мне тетя, — сказала она, позволив старику посмотреть на щенка, отцом которого был только что отравленный Герман, — я назвала ее бабочкой.
Она очень похожа на бабочку, правда?
Виктор Джулио сел на бордюр. Маленькая девочка устроилась рядом с ним и положила ему на колени прелестного пухлого щенка. В смятении он пробежал пальцами вдоль черной и бледно-желтой шкурки.
— Покажи бабочке, как ты заставляешь танцевать свою палку, — попросила девочка.
Виктор Джулио опустил собаку и вытащил из кармана бутылку рома. Не переводя дыхания, он полностью осушил ее и бросил обратно в мешок. Старик с тоской оглядел радостное лицо ребенка. Скоро она вырастет, подумал он.
Она не долго будет сидеть с ним под деревьями на площади и помогать ему наполнять мусорные баки тряпьем и хламом, веря в то, что ночью все это превратится в золото. Он задумался, будет ли она тоже кричать на него и издеваться над ним, как это делает большинство повзрослевших детей. Он сильно зажмурился, — пусть смотрит, если только палочка захочет танцевать, — прошептал он и встал, растирая свои скрипучие колени.
Словно околдованные, Октавио и ребенок уставились на трость.
Казалось, она танцевала сама по себе, оживляемая не только быстрым и изящным движением рук Виктора Джулио, но также и ритмичным топотом его ног, его хриплым и все же мелодичным голосом, которым он пел детские стишки.
Октавио опустил бак и сел на него, восхищаясь мастерством старика.
Виктор Джулио остановился на полуслове. Его трость упала на землю. С удивлением и ужасом он смотрел на щенка, лакавшего сок отравленного мяса, который тихо сочился из бака.
Девочка подняла трость и подала ее Виктору Джулио, — я никогда не видела, чтобы ты ронял ее, — заметила она с беспокойством, — палочка устала?
Виктор Джулио положил дрожащую руку на ее головку и нежно погладил ее челку, — я возьму бабочку на прогулку, — сказал он, — а ты возвращайся в кроватку, пока твоя мама не нашла тебя здесь. Встретимся попозже на площади. Мы снова будем вместе собирать будущие слитки золота, — он поднял пухлого щенка на руки и сделал знак Октавио следовать за ним по улице.
Бродячие собаки уже не лежали перед закрытыми дверьми, но раскинув свои негнущиеся лапы, они валялись посреди пыльных переулков и их остекленевшие глаза пристально и тупо смотрели в пространство. По одной Октавио связывал их веревкой, которую Виктор Джулио вытащил из своего мешка.
Бабочка, все ее тело конвульсивно тряслось, извергала струйку крови на брюки старика. Он с отчаянием встряхнул ее головку, — что я скажу малышке? — прошептал он, связывая отравленного щенка с другими животными.
Они сделали два обхода, а затем утащили мертвых собак за окраину города, за дом Лебанесы, за пустые поля, вниз по сухому ущелью. Виктор Джулио прикрыл их грудой сухих веток, полил кучу керосином и поджег.
Собаки горели медленно, наполняя воздух запахом паленого мяса и шерсти.
Едва переводя дух, с легкими, забитыми копотью и дымом, двое мужчин выбрались из ущелья. Не в силах дальше продолжать путь, они рухнули под тень цветущей красным цветом акации.
Старик растянулся на твердой земле, еще прохладной после ночи. Его руки тряслись. Он закрыл глаза и попробовал успокоить свое дыхание в надежде, что это развеет боль, стеснившую его грудь. Он мечтал о сне; о сне, в котором теряешь себя.
— Пожалуй, я уйду, — сказал Октавио спустя некоторое время, — буду делать какую-нибудь другую работу.
— Останься со мной, — попросил старик, — мне надо рассказать ребенку о собаке, — он сел и умоляюще взглянул на Октавио, — ты можешь помочь мне.
Дети очень рано начинают бояться меня. Она одна из немногих, кто дружит со мной.
Ужасная пустота в голосе Виктора Джулио напугала Октавио. Он прислонился к стволу дерева и закрыл свои глаза. Он не мог больше видеть этот страх и отчаяние, отпечатанные на лице старика.
— Пойдем со мной на площадь. Пусть каждый узнает, что ты новый человек, — умоляюще просил Виктор Джулио.
— Я не останусь в этом городе, — грубо отрезал Октавио, — мне не нравится эта работа. Мне не нравится убивать собак.
— Вопрос не в том — нравится или не нравится, — заметил Виктор Джулио, — это вопрос судьбы, — он грустно улыбнулся, его взгляд скользнул в направлении города, — кто знает, может ты останешься здесь навеки, — прошептал он, снова закрыв свои глаза.
Тишину нарушил гул сердитых голосов. Внизу по дороге двигалась группа мальчишек под предводительством старшего сына Лебанесы. Они остановились в нескольких шагах от двух мужчин.
— Ты убил мою собаку, — зашипел сын Лебанесы и плюнул дюймом дальше ноги Виктора Джулио.
Опираясь на трость, старик поднялся на ноги.
— Почему ты так думаешь обо мне? — спросил он, пытаясь выиграть время. Его руки дрожали. Он нашарил в мешке бутылку рома и остолбенел от того, что она была пуста, не в силах вспомнить, когда же выпита последняя капля.
— Ты убил собаку, — повторял мальчик нараспев, — ты убил собаку, — проклиная и толкая его, мальчишки пытались вырвать его трость и джутовый мешок.
Виктор Джулио отступил назад. Размахивая своей тростью, он вслепую колотил насмешливых юнцов, — оставьте меня в покое! — закричал он дрожащими губами.
На мгновение напуганные его яростью, юноши притихли. Вдруг, словно только что заметив, что Виктор Джулио не один, они повернулись к Октавио.
— Кто ты? — кричал один из мальчишек, переводя взгляд от одного мужчины к другому, возможно оценивая результаты их обоюдного сговора, — ты со стариком? Ты его помощник?
Октавио не ответил. Взмахнув веревкой над своей головой, он защелкал ею перед собой, как хлыстом. Смеясь и вскрикивая, ребята пытались уклониться от прицельных ударов. Но когда некоторым из них веревка обожгла не только икры и бедра, но плечи и руки, они отступили назад. Они ринулись за Виктором Джулио, который тем временем убегал к ущелью, где еще догорали собаки.
Старик оглянулся. От ужаса у него расширились зрачки, мальчишки были почти за его спиной. Они не казались ему людьми; они напоминали ему свору лающих псов. Он попробовал бежать быстрее, но жгучая боль в груди тормозила движения.
Мальчишки, поднимая гальку, бросали ее в него, просто подшучивая над ним. Но когда сын Лебанесы потянулся за большим камнем, остальные ребята постарались превзойти друг друга — в ход пошли большие осколки породы.
Один из них попал Виктору Джулио в голову. Он зашатался. Глаза его ничего не видели, земля уплывала из-под ног. Старик покачнулся и свалился с обрыва.
Ветер донес из ущелья сдавленный крик. Запыхавшись, с лицами в полоску от пыли и пота, мальчики стояли, глядя друг на друга. Затем, словно по какому-то сигналу, они бросились в разные стороны.
Октавио сбежал вниз по крутому склону и опустился на колени перед неподвижным телом Виктора Джулио. Он сильно встряхнул его. Старик открыл глаза. Дыхание слабеющими вспышками выходило из него. Голос был слабым, приглушенным звуком, — я знал, что конец близок, но думал, что это конец моей работы. Мне и в голову не приходило, что все закончится таким образом, — его зрачки блеснули странно яркими красками. Он пристально взглянул в глаза своего помощника. Жизнь ушла.
Октавио безумно встряхнул его, — иисус! Он мертв! — Октавио перекрестился и поднял свое вспотевшее лицо к небу. Несмотря на ослепительное сияние солнца, бледная луна была отчетливо различима. Он хотел помолиться, но не мог вспомнить ни одной молитвы. Единственный образ засел в его мысли — множество собак преследовало старика по полям.
Октавио почувствовал в своих руках нарастающий холод, его тело начала бить дрожь. Можно снова убежать в другой город, подумал он. Но тогда они заподозрят его в убийстве Виктора Джулио. Лучше оставаться некоторое время в городе, пока все не прояснится, решил он.
Октавио наблюдал за мертвецом. Затем, поддавшись порыву, он поднял трость Виктора Джулио, лежавшую рядом. Он погладил ее и потер прекрасно вырезанный набалдашник о свою левую щеку. Он почувствовал, что она всегда принадлежала ему. Стало интересно, сможет ли он когда-нибудь воспроизвести танец трости.
7.
Октавио Канту закончил свой последний сеанс лечения. Он взял свою шляпу и встал со стула. Я заметила, как сильно годы сдавили ему грудь и ослабили мышцы его рук. Облинявший пиджак и брюки на нем были на несколько размеров больше. Карман на правой стороне резко выпирал от большой бутылки рома.
— Вот так всегда, когда она заканчивает мое лечение, сон куда-то прячется, — прошептал он мне, продолжая смотреть своими ввалившимися бесцветными глазами на Мерседес Перальту, — сегодня я заболтался с тобой.
Никак не могу понять, почему ты так интересуешься мной.
Широкая улыбка разгладила его лицо, когда он поместил свою походную трость между большим пальцем и запястьем. Его рука замелькала взад и вперед с таким поразительным мастерством, что трость, казалось, подвесили в воздухе. Ни слова не говоря, он вышел из комнаты.
— Донья Мерседес, — тихо вскрикнула я, поворачиваясь к ней, — ты не спишь?
Мерседес Перальта кивнула, — я бодрствую. Я всегда бодрствую, даже когда сплю, — мягко сказала она, — это способ, которым я пытаюсь сдерживать свои прыжки вперед себя.
Я сказала ей, что с тех пор, как я начала беседовать с Октавио Канту, меня постоянно мучают изводящие вопросы. Мог ли Октавио Канту как-то уклониться и не вставать на место Виктора Джулио? И почему он в такой полной мере повторяет жизнь Виктора Джулио?
— Это неопровержимые вопросы, — ответила донья Мерседес, — но лучше пойдем на кухню и спросим об этом Канделярию. У нее побольше ума, чем у нас обоих вместе. Я слишком стара, чтобы быть умной, а ты слишком образована.
С сияющей улыбкой она взяла меня за руку, и мы пошли на кухню.
Канделярия, занятая тем, что скребла днища медных тарелок и горшков, не слышала и не видела нашего прихода. Когда донья Мерседес подтолкнула ее, она издала пронзительный и испуганный вопль.
Канделярия была высокой, с покатыми плечами и широкими бедрами. Я не могла определить ее возраст. Она иногда выглядела на тридцать, а иногда на пятьдесят. Ее загорелое лицо было покрыто крошечными веснушками, расположенными так равномерно, что они казались нарисованными. Она выкрасила свои темные вьющиеся волосы в морковно-красный цвет и одела платье, сделанное из броско разрисованного ситца.
— Как? Что тебе надо в моей кухне? — спросила она с притворным раздражением.
— Музия одержима мыслями об Октавио Канту, — объяснила донья Мерседес.
— Бог мой! — вскричала Канделярия. Когда она посмотрела на меня, ее лицо выражало искреннее потрясение, — но почему о нем? — спросила она.
Озадаченная ее обвиняющим тоном, я повторила вопросы, которые только что задала донье Мерседес.
Канделярия засмеялась, — а я уж было забеспокоилась, — сказала она донье Мерседес, — музии такие странные. Я вспомнила ту Музию из Финляндии, которая пила стакан мочи после обеда для того, чтобы сбросить вес. А женщина, которая приехала из Норвегии, чтобы ловить рыбу в Карибском море?
Как я знаю, она так ничего и не поймала. Из-за нее перессорился весь экипаж судна. Тоже мне, взяли в море на свою голову.
Весело смеясь, обе женщины присели, — никто не знает, что у Музий в голове, — продолжала Канделярия, — они способны на все, — она вновь захохотала, еще громче, чем прежде, а затем опять принялась скрести свои горшки.
— По-видимому, Канделярию очень мало заинтересовали твои вопросы, — сказала донья Мерседес, — я лично думаю, что Октавио Канту не мог избежать того, чтобы стать на место Виктора Джулио. У него было очень мало силы; вот почему он был схвачен тем, что таинственнее всего, о чем ты можешь сказать: это что-то более таинственное, чем судьба. Ведьмы называют это тенью ведьмы.
— Октавио Канту был очень молод и крепок, — внезапно заговорила Канделярия, — но он слишком долго просидел в тени Виктора Джулио.
— О чем она говорит? — спросила я донью Мерседес.
— Когда люди угасают, особенно в момент их смерти, они связывают это таинственное нечто с другими людьми. Образуется непрерывная цепь, — объясняла донья Мерседес, — вот почему дети похожи на своих родителей. И те, кто присматривают за старыми людьми, следуют по пятам за своими подопечными.
Канделярия заговорила снова, — октавио Канту слишком долго просидел в тени Виктора Джулио. И тень истощила его силы. Виктор Джулио был слаб, но, окрашенная им, его тень была очень сильной.
— Ты называешь тенью душу? — спросила я Канделярию.
— Нет, тень — это то, что имеют все люди, нечто более сильное, чем их души, — ответила она. По-видимому, мои вопросы ей надоели.
— Вот так, Музия, — сказала донья Мерседес, — октавио Канту слишком долго сидел на звене цепи — точке, где судьба связывает жизни вместе. У него не было сил уйти от этого. И, как сказала Канделярия, тень Виктора Джулио истощила его силы. Поэтому каждый из нас имеет тень, сильную или слабую. Мы можем передать эту тень тому, кого любили, тому, кого ненавидели, или тому, кто просто оказался под рукой. Если мы не отдаем ее никому, она расползается вокруг после нашей смерти до тех пор, пока не исчезнет.
Я смотрела на нее, ничего не понимая. Она засмеялась и сказала: — я говорила тебе, что мне нравится быть ведьмой. Мне нравится способ, которым ведьмы объясняют события, даже сознавая то, что им трудно понять его.
Октавио нуждается во мне. Я облегчаю его бремя с помощью своих заклинаний. Он чувствует, что без моего вмешательства он повторит жизнь Виктора Джулио точь-в-точь.
Часть вторая.
8.
Я ожидала громких стуков и скрипов, которые оглашали по утрам весь дом каждый четверг, когда Канделярия начинала переставлять тяжелую мебель в гостиной. Шума не было и, подумав, уж не снится ли мне это во сне, я пошла по темному коридору в ее комнату.
Лучи солнечного света проникали сквозь щели в деревянных ставнях, открывающих два окна на улицу. Обеденный стол с шестью стульями, черный диван, обитое кресло, зеркальный кофейный столик и даже вставленные в рамы эстампы пасторальных ландшафтов и сцен корриды — все было на тех местах, куда их расставила Канделярия в прошлый четверг.
Я вышла во двор, где за кустами заметила Канделярию. Ее жесткие, курчавые, выкрашенные в красный цвет волосы были причесаны и украшены красивыми гребнями. Мерцающие зеленые кольца болтались в мочках ушей. Губы и ногти отливали глянцем и соответствовали цвету ее яркого ситцевого платья. Глаза почти скрывали веки. Это придавало ей мечтательный вид, который, однако, расходился с ее угловатыми чертами и решительными, почти резкими манерами.
— Зачем ты так рано поднялась, Музия? — спросила Канделярия.
Поднявшись, она поправила свою широкую юбку и низкий лиф, который открывал ее пышную грудь.
— Я не услышала, как ты двигаешь мебель, — сказала я, — может, ты забыла?
Не ответив, она заторопилась на кухню; ее свободные сандалии засверкали пятками, словно она бежала стометровку, — я сегодня ни с чем не справляюсь, — заявила она, остановившись на миг, чтобы всунуть ногу в свалившуюся сандалию.
— Я уверена, ты успеешь сделать все, — сказала я, — хочешь, я помогу тебе? — я разожгла дрова в печи и села за стол, посмотрев на часы, — всего семь тридцать, — отметила я, — ты отстаешь всего на полчаса.
В отличие от доньи Мерседес, которая была совершенно безразлична к любому распорядку, Канделярия делила свой день на дела, точно выверенные по времени. Для того, чтобы завтракать в одиночестве, она садилась за стол ровно в семь. В восьмом часу она натирала полы и вытирала пыль с мебели.
Ее высокий рост позволял ей, вытянув руки, доставать паутину в углах и пыль на притолоке. К одиннадцати часам у нас на плите уже кипел горшок с супом.
Как только это было выполнено, она начинала ухаживать за своими цветами. Поливая их, она начинала обходить патио, а затем двор, одаривая любовной заботой каждое растение. Ровно в два часа она принималась за стирку, даже если стирать надо было только одно полотенце. Погладив белье, она читала иллюстрированные романы. Вечером вырезала картинки из журналов и наклеивала их в фотоальбомы.
— Прошлой ночью здесь был крестный отец Элио, — прошептала она, — донья Мерседес и я проговорили с ним до рассвета, — она потянулась за ступкой и начала мешать белое тесто для маисовых лепешек, которые мы обычно ели за завтраком, — ему, наверное, лет восемьдесят. Он все еще не может прийти в себя после смерти Элио. Лукас Нунец обвиняет себя в смерти юноши.
— Кто такой Элио? — спросила я.
— Сын доньи Мерседес, — ответила тихо Канделярия, делая из теста круглые лепешки, — ему было всего восемнадцать, когда он трагически скончался. Это было давно, — она зачесала прядь волос за ухо, а затем добавила: — лучше не говори ей, что я рассказала тебе, что у нее был сын.
Она положила лепешки на жаровню и повернулась ко мне с дьявольской улыбкой на устах, — ты не веришь мне, а? — спросила она и тут же удержала меня от ответа, — сейчас я сосредоточусь на кофе. Ты же знаешь, как злится донья Мерседес, если он недостаточно крепок и сладок.
Я подозрительно посмотрела на Канделярию. У нее была привычка рассказывать мне необычайные истории о целителях, к примеру про то, как донья Мерседес была схвачена десантом нацистов во время второй мировой войны и находилась в плену на подводной лодке, — она лжет, — однажды сообщила мне по секрету донья Мерседес, — и даже, говоря тебе правду, она так ее преувеличивает, что та становится ничем не лучше лжи.
Канделярия, совершенно не заботясь о моих подозрениях, вытерла лицо передником, который она обвязала вокруг шеи. Затем быстрым и резким движением она повернулась и выбежала из кухни, — следи за лепешками, — крикнула она из коридора, — я сегодня ни с чем не могу справиться.
Несмотря на шум передвигаемой мебели, который в этот четверг был громче, чем обычно, так как Канделярия спешила, Мерседес Перальта проснулась только в полдень.
Она нерешительно остановилась у дверей своей комнаты и прищурила глаза от яркого света. Постояв секунду, опираясь о косяк двери, она рискнула выйти в коридор.
Я бросилась к ней, взяла ее за руку, отвела на кухню. Ее глаза покраснели, она нахмурила брови и печально поджала свой рот. Меня заинтересовало, спит ли она ночами. Всегда могло оказаться, что Канделярия говорит правду.
По-видимому чем-то озабоченная, она критически осмотрела тарелку с лепешками и, не взяв ни одной, отломила два банана от грозди, висевшей на одном из стропил. Очистив их и насадив на щепку, она элегантно их съела.
— Канделярия хочет, чтобы ты повидала ее родителей, — сказала она, деликатно вытирая уголки рта, — они живут на холме, недалеко от плотины.
Прежде чем я успела сказать, что буду от этого в восторге, в кухню ворвалась Канделярия, — ты полюбишь мою маму, — убедительно заявила она, — она такая же маленькая и худая, как ты, и ест тоже целый день.
Я как-то не представляла себе, что у Канделярии есть мать. С восхитительными улыбками обе женщины слушали мои разъяснения о том, что я думаю об этом. Я уверяла их, что причисляю некоторых людей, так сказать, к "безматеринскому" типу, причем с этим никак не связан ни возраст, ни их взгляды, но какое-то неуловимое качество, которое я не могла вполне объяснить.
Больше всего Мерседес Перальта была восхищена пояснением того, что оно не может создать какого-либо чувства. Она задумчиво смаковала кофе, затем посмотрела на меня.
— Может ты думаешь, что я родила себя сама? — спросила она. Донья закрыла свои глаза и сморщила рот, затем задвигала губами, как если бы сосала грудь, — или ты считаешь, что я вылупилась из яйца?
Она взглянула на Канделярию и серьезным тоном произнесла: — Музия совершенно права. Она хотела сказать, что ведьмы очень мало привязаны к своим родителям и детям. Однако они любят их со всей своей силой, когда стоят лицом к лицу с ними, и никогда, если те повернулись к ним спиной.
Мне стало интересно, боится ли Канделярия того, что я вспомню об Элио. Она отошла за спину доньи Мерседес и делала мне оттуда отчаянные жесты хранить молчание.
Донья Мерседес, будто прочитав наши мысли, посмотрела сначала на меня, а затем на Канделярию. Вздохнув, она обхватила руками свою кружку и выпила остатки кофе.
— Элио было всего несколько дней, когда его мать, моя сестра, умерла, — сказала она, посмотрев на меня, — я обожала его. Я любила его, как будто он был моим собственным ребенком, — она слабо улыбнулась и после короткой паузы продолжила свой рассказ об Элио. Она сказала, что никто не мог бы назвать его красивым. У него был широкий чувственный рот, плоский нос с большими ноздрями и дикие курчавые волосы. Но то, что делало его неотразимым одинаково и в юные годы, и с возрастом, так это его огромные черные и блестящие глаза, которые сияли от счастья и полного благополучия.
Донья Мерседес долго рассказывала об эксцентричных наклонностях Элио.
Хотя он и стал целителем подобно ей самой, он редко тратил время на мысли о лечении. Он был слишком занят встречами и проводами любви. В течение дня он беседовал с молодыми женщинами и девушками, которые приходили повидаться с ним. Вечером, с гитарой в руках, он пел серенады своим покровительницам. Еле живой, он возвращался домой только на рассвете.
Правда, бывали случаи, когда ему не везло в его любовных затеях. Тогда он приходил рано и развлекал ее остроумным пересказом своих неудач и успехов.
Я с нездоровым любопытством стала ожидать рассказа о его трагической смерти. И почувствовала разочарование, когда она взглянула на Канделярию и прошептала: — иди и принеси мой жакет. Ветер дует как раз с тех холмов, где живут твои родичи, — она встала и, опираясь на мою руку, прошла во двор, — сегодня Канделярия удивлена тобой, — по секрету сообщила она мне.
— У нее полным-полно восхитительных причуд. Если бы ты знала хотя бы половину из них, ты, вероятно, упала бы в обморок от потрясения, — донья Мерседес засмеялась легко, как ребенок, скрывающий чей-то секрет.
9.
Смех, хриплые голоса и звуки музыки из игрального автомата вырывались из небольших ресторанов и баров, которые в ряд выстроились на улице, ведущей из Курмины. За заправочной станцией на обочинах дороги появились крупные деревья. Переплетая свои ветви в форме арок, они создавали неестественную картину, возможную, казалось бы, только во сне.
Мы проезжали мимо одиноких лачуг, сделанных из тростника и обмазанных илом. Все они имели узкую дверь, несколько окон и соломенную крышу.
Некоторые из них были побелены, другие сохраняли грязно-песочный цвет. Под крышами, в непригодных более горшках и консервных банках, висели цветы, большей частью герань. Величавые деревья, пылающие золотым и кроваво-красным цветением, затемняли тщательно убранные дворы, где женщины стирали белье в пластмассовых тазах или развешивали его на кустах для просушки. Некоторые приветствовали нас улыбками, другие — еле заметным кивком головы. Дважды мы останавливались у придорожных лотков, где дети продавали фрукты и овощи со своих огородов.
Канделярия, усевшись на заднем сидении моего джипа, указывала мне направление. Мы проехали скопление хижин на окраине небольшого городка и через минуту очутились в полосе тумана. Он был так плотен, что я едва могла видеть конец капота машины.
— О, господи, — начала молиться Канделярия, — спустись и помоги нам выбраться из этого дьявольского тумана. Прошу тебя, Святая Мария, матерь божья, приди и защити нас. Блаженный святой Антоний, милосердная святая Тереза, божественный дух святой, поспешите к нам на помощь.
— Лучше брось это, Канделярия, — вмешалась донья Мерседес, — что, если святые на самом деле услышат тебя и ответят на твою мольбу? Как мы разместим их всех в этой машине?
Канделярия рассмеялась и тут же запела песню. Снова и снова она повторяла несколько первых фраз арии из итальянской оперы.
— Тебе нравится? — спросила она меня, поймав в зеркале заднего обзора мой удивленный взгляд, — этому меня научил мой отец. Он итальянец. Ему нравится опера, и он учил меня ариям Верди, Пуччини и прочих.
Я взглянула на донью Мерседес, ища подтверждения, но она спала, откинувшись на сидении.
— Это правда, — настаивала Канделярия, затем она пропела еще несколько строк из другой оперы.
— Как, ты их знаешь? — спросила она после того, как я правильно угадала названия опер, отрывки из которых она напевала, — твой папа тоже был итальянцем?
— Нет, — засмеялась я, — он немец. На самом деле я ничего не смыслю в опере, — призналась я, — единственно, что в меня пытались вдолбить — это то, что Бетховен почти полубог. Каждое воскресенье, покуда я жила дома, мой отец играл симфонии Бетховена.
Туман поднялся так же быстро, как и появился, открывая цепь за цепью голубоватые горные пики. Казалось, что они протянулись в бесконечность, поперек пустоты воздуха и света. Следуя указаниям Канделярии, я свернула на узкую грунтовую дорогу, ширины которой едва хватило для моего джипа.
— Это здесь, — взволнованно закричала она, указывая на двухэтажный дом в конце улочки. Побеленные стены пожелтели от времени, а красная черепица посерела и обросла мхом. Я остановилась, и мы вышли из машины.
В окне второго этажа показался старик, одетый в потертую майку. Он махнул нам рукой, затем исчез, и его громкий возбужденный голос зазвенел в тишине дома: — Рорэма! Ведьмы прикатили!
Едва мы дошли до парадной двери, как маленькая морщинистая женщина выбежала приветствовать нас. Улыбаясь, она обняла Канделярию, а затем и донью Мерседес.
— Это моя мать, — гордо сказала Канделярия, — ее зовут Рорэма.
После некоторых колебаний Рорэма обняла и меня. Она была одета в длинное черное платье. Удивительны были ее черные густые волосы и блестящие глаза птицы. Она провела нас через темный вестибюль, где неяркий огонек освещал образ святого Иосифа, и, сияя от удовольствия, пригласила следовать за собой на широкую галерею, окружавшую внутреннее патио.
Лимонные деревья бросали приятную тень в открытую гостиную и просторную кухню.
Мерседес Перальта шепнула что-то Рорэме и пошла по коридору в заднюю часть дома.
На миг я нерешительно остановилась, затем вместе с Канделярией и ее матерью поднялась по каменной лестнице на второй этаж, пройдя ряд спален, выходящих на широкий балкон, который протянулся на всю длину патио.
— Сколько у вас еще детей? — спросила я, когда мы прошли пятую дверь.
— У меня есть только Канделярия, — жесткие морщинки на лице Рорэмы стали еще резче, когда она улыбнулась: — но внучка из Каркаса часто приезжает сюда провести свой отпуск.
Ошеломленная, я повернулась к Канделярии и посмотрела в ее черные внимательные глаза, в которых едва различались озорные огоньки, — я не знала, что у тебя есть ребенок, — сказала я, заинтригованная мыслью, знает ли об этом донья Мерседес. И все же было какое-то разочарование.
— Как же я могу иметь ребенка? — возмущенно сказала Канделярия, — я девушка.
Я расхохоталась. Ее заявление означало, что она не только незамужняя, но и девственна до сих пор. Надменное выражение на ее лице не оставляло сомнения, что она очень гордится этим фактом.
Канделярия перегнулась через перила, затем повернулась и взглянула на меня, — я никогда не говорила тебе, что у меня есть брат. Вернее, он мне брат лишь наполовину. Он намного старше меня и родился в Италии. Как и мой отец, он приехал в Венесуэлу в поисках счастья. Сейчас он богат и владеет строительной компанией.
Рорэма утвердительно кивнула головой, — у ее полубрата восемь детей.
Они любят проводить лето здесь, с нами, — добавила она.
Внезапно сменив настроение, Канделярия рассмеялась и нежно обняла свою мать, — вообрази! — воскликнула она, — музия не могла представить себе, что у меня есть мать, — с проказливой улыбкой она добавила: — и что еще хуже — она не верит, что у меня есть итальянский папа!
Немедленно одна из дверей спальных комнат открылась и старый мужчина, которого я видела в окне, вышел на балкон. Довольно низкорослый, с резкими угловатыми чертами, он сильно походил на Канделярию. Старик, видно, одевался в спешке. Его рубашка была застегнута косо, кожаный ремень выскочил из петли, а шнурки на ботинках были развязаны. Он обнял Канделярию.
— Гвидо Микони, — представился он и извинился, что не встретил нас у двери, — малышкой Канделярия была такой же симпатичной, как и Рорэма, — сказал он, удерживая свою дочь в жарких объятиях, — но повзрослев, она стала точной копией меня.
Очевидно разделяя какую-то общую шутку, они весело захохотали. Сделав утвердительный кивок, Рорэма взглянула на мужа и дочь с восхищением. Она взяла меня под руку и повела на первый этаж, — пойдем, присоединимся к донье Мерседес, — продолжала она.
Громадный двор был обнесен колючей изгородью. В самом дальнем конце стояла открытая хибара с соломенной крышей. В гамаке, привязанном к поперечным балкам хибары, сидела Мерседес Перальта. Она с наслаждением пробовала самодельный сыр Рорэмы.
Гвидо Микони нерешительно встал перед доньей Мерседес; казалось, он не знал, пожать ли ей руку или обнять ее. Она улыбнулась ему, и он заключил ее в объятия.
Мы все расположились вокруг гамака, а Рорэма села рядом с Мерседес Перальтой. Она задавала ей вопросы обо мне, а донья Мерседес отвечала на них так, как будто меня здесь не было вообще.
Некоторое время я слушала их беседу, но вскоре жара, неподвижность воздуха, голоса женщин и Гвидо Микони перемешались, я слабо хихикнула и опустилась на землю. Должно быть, меня одолел сон. Спустя некоторое время донья Мерседес разбудила меня и отослала к Канделярии, помогать ей готовить обед. Я и не заметила, что Канделярия и ее отец уже покинули нас.
В глубине дома, с одной из спален, густой спокойный голос шептал заклинания. Испугавшись, что Канделярия развлекает отца моими магнитофонными записями целительных сессий, я заторопилась на верхний этаж. В прошлый раз, прослушивая записи, она полностью стерла целую кассету, нажав не ту кнопку.
Я резко остановилась у полуоткрытой двери. Затаив дыхание, я следила за тем, как Канделярия массирует своему отцу спину и плечи, тихо напевая заклинания. И что-то было в этом — сосредоточенные и, тем не менее, красивые движения рук — что напоминало мне Мерседес Перальту. Мне стало ясно, что Канделярия тоже была целительницей.
Вскоре, окончив массаж, она повернулась ко мне. Забавные искорки горели в ее глазах, — донья Мерседес уже рассказала тебе обо мне? — интонации ее голоса были до странности нежными, я никогда прежде не слышала такого от нее, — она говорит, что я родилась ведьмой.
В моем мозгу закружилось такое множество вопросов, что я просто не знала, с чего начать.
Канделярия, поняв мое замешательство, пожала плечами, не зная, чем мне помочь.
— Пойдем готовить обед, — предложил Гвидо Микони, спускаясь по ступенькам.
Мы с Канделярией последовали за ним. Внезапно он повернулся ко мне лицом, — мерседес Перальта права, — сказал он, затем склонил голову и пристально осмотрел пятнистую тень от агавы, отброшенную солнцем на кирпичи патио. Некоторое время он стоял, встряхивая головой, словно не знал, что ему говорить и делать дальше.
Он вновь взглянул на меня, и слабо улыбнувшись, начал расхаживать по патио, его руки слегка задевали цветы и листву, его взгляд был рассеян.
— Это необычная история, — обратился он ко мне взволнованным голосом, в котором явно чувствовался его итальянский акцент, — канделярия говорит, что донья Мерседес хочет, чтобы я рассказал ее тебе. Ты же знаешь, что тебе здесь рады. Я надеюсь, ты будешь приезжать к нам почаще и мы сможем беседовать друг с другом.
Я была в полном недоумении. Надеясь получить какое-нибудь объяснение, я взглянула на Канделярию.
— Мне кажется, я знаю, что хочет сделать с тобой донья Мерседес, — сказала Канделярия, — взяв мою руку, она повела меня на кухню, — ее судьба похожа на твою, но она не может передать тебе свою тень, так как она предназначена для одного человека и будет отдана мне.
— О чем ты говоришь? — спросила я.
— Я ведьма, — ответила она, — и я иду по стопам доньи Мерседес. Лишь следуя по стопам духовного наставника-целителя, ты сможешь стать целительницей сама. Это — то, что называют соединением, звеном. Донья Мерседес уже говорила тебе, что ведьмы называют это тенью.
— Тени истинны для всех, — продолжала она, — и здесь бывает только один наследник, кто получает реальное знание. Виктор Джулио имел реальное знание об умерщвлении собак и невольно передал его по цепочке Октавио Канту. Поэтому я говорю тебе, что Октавио слишком долго просидел в тени Виктора Джулио, и что донья Мерседес передает мне свою тень. Позволяя обычным людям рассказывать тебе свои истории, она пытается подставить тебя на мгновение под тень всех этих людей, так чтобы ты почувствовала, как вертится колесо случая и как ведьмы помогают этому колесу вращаться.
Я безуспешно пыталась объяснить ей, что ее заявления ввергли меня в глубочайшее замешательство. Она смотрела на меня светлым доверчивым взглядом.
— Когда в дело вмешивается ведьма, мы говорим, что это тень ведьмы вращает колесо случая, — задумчиво сказала она; затем, секунду помолчав, добавила: — история моего отца подойдет тебе, но я не хочу быть с вами, когда он начнет рассказывать тебе ее. Он стесняется меня, поэтому я могу помешать, — она обернулась к своему отцу и засмеялась. Ее смех, как хрустальный взрыв, закружился эхом по всему дому.
***
Проведя ночь без сна, Гвидо Микони сел на кровать и задумался, скоро ли кончится ночь и сколько еще продлится безмятежный сон Рорэмы. На его лице промелькнуло озабоченное выражение, когда он окинул взглядом ее голое тело, темное на фоне белой простыни, ее лицо, скрытое под спутанной массой волос. Он нежно убрал волосы. Она улыбалась. Ее глаза слегка приоткрылись, блеснув между густых, коротких ресниц, но она не проснулась.
Стараясь не разбудить ее, Гвидо Микони поднялся и выглянул в окно.
Почти рассвело. В ответ на пение пьяницы, бредущего по улице, в соседнем дворе залаяла собака. Затем шаги и пение удалились и затихли. Собака заснула.
Гвидо Микони отошел от окна и, присев, достал из-под кровати небольшой чемодан, который там прятал. Ключом, который он носил на цепочке на шее вместе с медальоном девы Марии, он открыл замок и нашарил широкую кожаную сумку, засунутую между сложенной одеждой. Странное чувство, почти предчувствие поколебало его на миг. Он не стал завязывать сумку вокруг талии, как думал раньше. Вместо этого он вытащил из нее тяжелый зеленый браслет и, положив его на подушку рядом с Рорэмой, засунул сумку обратно в чемодан.
Он плотно закрыл свои глаза. Его ум вернул назад тот день, когда он, прельщенный возможностью хорошо заработать, эмигрировал в Венесуэлу почти двадцать лет назад. Тогда ему было всего двадцать шесть лет. Уверенный, что жена и двое детей вскоре присоединятся к нему, первые несколько лет он оставался в Каркасе. Откладывая деньги, он жил в дешевых гостиницах, поближе к строительным объектам, на которых работал. Каждый месяц он посылал часть своих сбережений домой.
Несколько лет спустя он наконец понял, что его жена сюда не приедет.
Он уехал из Каркаса и стал работать на периферии. Письма из дома доходили до него все реже и реже, а затем перестали приходить вообще. Он перестал отсылать деньги, и по примеру многих своих товарищей, начал откладывать жалование и скупать драгоценности. Ему хотелось вернуться в Италию богатым.
— Богатым, — прошептал Гвидо Микони, защелкивая кожаный ремень чемодана. Он задумался, почему это слово не вызывает больше привычного волнения.
Он взглянул на Рорэму, лежащую в постели. Ему уже будет не хватать ее. Воспоминания перенесли его почти на десятилетие, к тому дню, когда он впервые увидел Рорэму во внутреннем дворе своей дешевой гостиницы, где он разогревал на примусе спагетти. У нее были ввалившиеся глаза, и платье, которое она носила, было слишком велико для ее худого маленького тела; ее можно было спутать с одним из тех подростков, которые приходили сюда посмеяться над иностранцами, особенно над итальянскими строительными рабочими.
Но Рорэма приходила сюда не для того, чтобы потешаться над итальянцами. Днем она работала в пансионе, а ночью за несколько монет делила постель с мужчинами. На досаду своим подругам она преданно привязалась к Гвидо и даже отказалась спать с кем-либо еще, не соглашаясь ни на какие деньги. Однако однажды она исчезла. Никто не знал, где ее искать, никто не знал, куда она ушла.
Пять лет спустя он вновь увидел ее. По какому-то необъяснимому капризу, вместо того, чтобы вывести команду к казармам на то место, где они строили фабрику и фармакологическую лабораторию, он поехал на автобусе в город. Здесь на автобусной станции, как будто ожидая его, сидела Рорэма.
Прежде чем он полностью оправился от неожиданности, она позвала маленькую девочку, которая играла неподалеку, — это Канделярия, — заявила она и невинно улыбнулась, — ей четыре года, и она твоя дочь.
Было какое-то безудержное ребячество в ее голосе, в ее выражении лица. Он не смог сдержать смеха. Слабая и тонкая, Рорэма выглядела скорее сестрой, а не матерью ребенка, стоящего рядом с ней.
Канделярия молчаливо смотрела на него. Затаенное выражение ее темных глаз было выражением старого человека. Она была довольно высока для своего возраста. Ее лицо было так серьезно, что его нельзя было назвать детским.
Но оно тут же стало симпатичной детской мордашкой, когда Канделярия вернулась к своей игре. Когда же она посмотрела на него опять, проказливый лучик блеснул в ее глазах, — идем домой, — сказала она, взяв его за руку и потянув за собой.
Не в состоянии сопротивляться твердому давлению ее крошечной ладони, он пошел с ней по главной улице на окраину города. Они остановились перед небольшим домом, окруженным рядами колосьев, по которым волнами перекатывался ветерок. Цементные блоки были неоштукатурены, а рифленые цинковые листы на крыше были закреплены на месте большими камнями.
— Наконец-то Канделярия привела тебя сюда, — заявила Рорэма, принимая у него из рук небольшой чемоданчик, — а я уже почти перестала верить, что она родилась ведьмой, — она позвала его внутрь небольшой передней, которая переходила в широкую комнату, пустую, если не считать трех стульев, расставленных у стен. Ступенькой ниже находилась спальня, разделенная занавеской на две части. В одной из них под окном стояла двуспальная кровать, на которую Рорэма бросила его чемодан. На другом краю комнаты висел гамак, где, по-видимому, спала малышка.
Следуя за Рорэмой, он прошел по короткому коридору на кухню и сел у деревянного стола, который стоял посреди комнаты.
Гвидо Микони взял руки Рорэмы в свои и, как ребенку, начал объяснять, что в город его привела не Канделярия, а плотина, которую будут строить на холмах.
— Нет, это только на поверхности так. Ты пришел, потому что Канделярия привела тебя сюда, — пробормотала Рорэма, — и вот ты гостишь у нас. Не так ли? — видя, что он молчит, она добавила, — Канделярия родилась ведьмой, — круговым взмахом руки Рорэма указала на комнату, дом и двор, — все это принадлежит ей. Ее крестная мать, знаменитая целительница, подарила ей все это, — она снизила голос и зашептала: — но не этого она хотела. Она хотела тебя.
— Меня! — повторил он, встряхнув озадаченно головой. Он никогда не лгал Рорэме о своей семье в Италии, — я верю, что ее крестная мать прекрасная целительница. Но родиться ведьмой! Это чистейший вздор. Ты же знаешь, что когда-нибудь я вернусь к семье, которую оставил.
Непривычная нервная улыбка пробежала по лицу Рорэмы, когда она достала кувшин и поставила на стол изогнутый бокал. Она наполнила его и протянула ему, добавив: — Микони, эта тамариндовая вода была околдована твоей дочерью Канделярией. Если ты выпьешь ее, ты навсегда останешься с нами.
Секунду он колебался, а затем захохотал: — хитрости ведьм — это ерунда и суеверие, — одним долгим глотком он осушил бокал, — это лучший напиток, который я когда-либо пил, — отметил он, протягивая бокал за следующей порцией.
Слабый кашель дочери прервал его воспоминания. Он вышел на цыпочках в другую часть разделенной комнаты и с тревогой склонился над спящей в гамаке Канделярией. Грустная улыбка тронула его губы, когда он посмотрел в ее маленькое лицо, в котором так часто пытался обнаружить сходство с собой. Он ничего не видел. Как ни странно, бывали случаи, когда девочка заставляла его задуматься о своем деде. Здесь не было большого сходства, но скорее настроение, определенный жест, сделанный ребенком, напоминал то, что когда-то пугало его.
У нее была та же самая мягкость животного, что и у старика. Она лечила любого осла, корову, козла, собаку или кошку. Она фактически уговаривала птиц и бабочек садиться на ее вытянутые руки. Его дед имел тот же дар. В маленьком городе Калабрии люди называли его святым.
Было что-то святое или нет в Канделярии, он не слишком в это верил.
Однажды после полудня он нашел ребенка во дворе, лежащей на животе. Ее подбородок упирался в сложенные руки. Она беседовала с болезненным на вид котом, который свернулся калачиком в нескольких дюймах от нее. Кот, казалось, отвечал ей. Он не издавал явных звуков, но короткое пыхтение страшно напоминало смех пожилого человека.
Мгновенно почувствовав его присутствие, и кот, и Канделярия подпрыгнули в воздух, будто какая-то невидимая нить подкинула их. Они приземлились прямо перед ним с жуткими ухмылками на их лицах. Он растерялся; на какой-то миг их черты, казалось, были наложены друг на друга. Он не мог решить, чье лицо кому принадлежит. С того самого дня он понял, почему Рорэма всегда говорила, что Канделярия ведьма, а не святая.
Тихо, чтобы не разбудить ребенка, Гвидо Микони ласкал ее щеку, затем он вышел на цыпочках в небольшую прихожую, слабо освещенную керосиновой лампой. Он потянулся за своим пиджаком, шляпой и туфлями, приготовленными заранее еще вечером, и оделся. Поставив лампу у зеркала, он критически осмотрел свое изображение. Обветренное лицо 46-летнего мужчины, слегка худощавое, было все еще наполнено той неистощимой энергией, которая позволила ему пройти сквозь годы изнурительного труда. Его волосы с прожилками седины были по-прежнему густы, а ясные коричневые глаза ярко блестели под косматыми бровями.
Осторожно, стараясь не наступить на собаку, которая во сне скулила и перебирала ногами, он вышел на улицу. Прислонясь к стене, он подождал, пока его глаза привыкнут к темноте. Вздохнув, он проводил взглядом ранних тружеников, идущих на работу. Они словно призраки скользили в пустоте предрассветной тьмы.
Вместо того, чтобы пойти на южный конец города, где строителей плотины ожидал грузовик, Микони направился на рыночную площадь. Там останавливался автобус на Каркас. Слабый свет внутри автобуса очерчивал фигуры нескольких пассажиров, дремавших на своих местах. Он прошел в самый конец и, поднимая чемодан на багажную полку, увидел тень через грязное стекло автобуса. Черная и огромная, она стояла напротив белой церковной стены. Он не знал, что заставило его подумать о ведьме. И хотя он не был верующим, его губы тихо зашептали молитву. Тень растворилась в слабом облаке дыма.
Наверное, ослепительные лампы на площади сыграли шутку с его глазами, подумал он. Рорэма и Канделярия объяснили бы это по-другому. Они бы сказали, что он видел одно из тех ночных существ, которые бродят по ночам.
Существо, которое никогда не оставляет следов, и лишь таинственными сигналами оно сообщает о своем присутствии и исчезновении.
Голос контролера вмешался в его мысли. Микони оплатил свой проезд и спросил, как лучше проехать в порт Ла Гуэйра, а затем закрыл глаза.
Дребезжа и покачиваясь, автобус пересек долину и медленно поднялся на пыльную извилистую дорогу. Микони прильнул к окну, рассматривая все в последний раз. Отступающие пятна крыш и белая церковь с колокольней проплыли перед его помутневшими от слез глазами. Как он любил звон этих колоколов! Он больше никогда не услышит их снова.
***
Отдохнув немного под неуловимой тенью цветущего миндального дерева, Гвидо Микони прошелся по площади и свернул на сонную, узкую улочку, которая кончалась кривыми ступеньками, вырезанными в холме. Он поднялся до середины и осмотрел порт. Ла Гуэйро — город, зажатый между горами и морем; розовые, голубые и буро-желтые дома, церковные башни-близнецы и старая таможня, которая, как какой-то древний форт, врезалась в гавань.
Его повседневные экскурсии в это уединенное место стали необходимостью. Только здесь он чувствовал себя в безопасности и покое.
Иногда он проводил здесь несколько часов, наблюдая, как швартуются большие корабли. По флагам и цвету дымовых труб он пытался угадать, какой стране они принадлежат.
Его еженедельные визиты в контору судоходства этого города были так же необходимы для его благополучия, как и это наблюдение за судами. Прошел месяц с тех пор, как он оставил Рорэму и Канделярию, а он все еще не мог решить, вернуться ли ему в италию напрямик или проездом через Нью-Йорк.
Или последовать совету мистера Гилкема из судоходной конторы: сесть на один из немецких сухогрузов, плывущих через Рио, Буэнос-айрес, через африку в средиземное море и посмотреть на мир. Но какими бы заманчивыми ни были его возможности, он не мог заставить себя заказать обратный билет в италию. Он не понимал, почему. Хотя в глубине души он знал причину.
Он поднялся на вершину холма и свернул на узкую извилистую тропинку, ведущую к пальмовой рощице. Он сел на землю, прислонив спину к стволу, и начал обмахивать себя шляпой. Тишина была абсолютной. Пальмовые листья неподвижно обвисли. Даже птицы парили без каких-либо усилий, словно падающие листья, подколотые к безоблачному небу.
Он услышал отдаленный смех, эхом отозвавшийся в тишине. Вздрогнув, он оглянулся. Звенящий звук напомнил ему смех его дочери. Внезапно ее лицо материализовалось перед его глазами. Мимолетный образ, бестелесный, плывущий в каком-то слабом свете; ее лицо, казалось, было окружено нимбом.
Быстрыми, резкими движениями, словно стараясь стереть наваждение, Гвидо Микони замахал своей шляпой.
Возможно, что Канделярия на самом деле родилась ведьмой, — размышлял он, — может ли ребенок действительно быть причиной его нерешительности с отъездом? — спрашивал он самого себя. Была ли она причиной его неспособности вспомнить лица жены и детей, оставшихся в Италии, как бы сильно он ни желал этого?
Гвидо Микони встал и обвел глазами горизонт. На секунду он подумал, что спит и видит огромный корабль, который появился словно мираж в дрожащем мареве раскаленного воздуха. Судно подходило все ближе и ближе, направляясь в гавань. Несмотря на расстояние, он ясно различал белую, красную и зеленую трубы.
— Итальянское судно! — закричал он, подбросив свою шляпу в воздух. Он был уверен, что теперь его наконец оставят чары Венесуэлы, Рорэмы и Канделярии, этих суеверных созданий, которые читают приметы по полету птиц, движению теней, направлению ветра. Он счастливо улыбнулся. Это судно, входящее в гавань, было прекрасным чудом, было его освобождением.
В волнении он несколько раз оступился, сбегая вниз по кривым ступенькам. Он помчался мимо старых колониальных домов. Не останавливаясь, он мельком услышал плеск воды в фонтанах, пение птиц в клетках, вывешенных у открытых окон и дверей. Он бежал в контору судоходства. Он бежал, чтобы купить билет в этот же день.
Его резко остановил детский голос, назвавший его полное имя.
Преодолевая внезапное головокружение, он закрыл глаза и прислонился к стене. Кто-то схватил его за руку. Он открыл глаза, но увидел лишь черное пятно, маячившее перед ним. Он снова услышал голос ребенка, который звал его по имени.
Понемногу головокружение прекратилось. Все еще рассеянным взором он посмотрел на взволнованное лицо мистера Гилкема, голландца из конторы судоходства, — я не знаю, как здесь оказался, но мне надо поговорить с тобой, — заикаясь, проговорил Гвидо Микони, — с холма я увидел входящее в гавань итальянское судно. Я хочу немедленно купить билет на родину.
Мистер Гилкем недоверчиво покачал головой, — ты уверен в этом? — спросил он.
— Я хочу взять билет на родину, — по-детски настаивал Микони, — прямо сейчас! — под пристальным взглядом мистера Гилкема, красноречивым по смыслу, он добавил: — я в конце концов нарушу это заклятие!
— Конечно, ты сделаешь это, — мистер Гилкем одобряюще похлопал его по плечу, а затем направил к кассиру.
Подняв глаза, Гвидо Микони посмотрел на высокого худощавого голландца, который важно сидел за прилавком. Как обычно, мистер Гилкем был одет в белый льняной костюм и черные матерчатые сандалии. Челка седых волос, проросшая на одной стороне его головы, была аккуратно зачесана и распределена по его голому черепу. Его лицо постарело от безжалостного солнца и, конечно же, от выпитого рома.
Мистер Гилкем вынул тяжелый гроссбух и шумно опустил его на прилавок.
Он пододвинул стул, сел и начал писать, — есть некоторые люди, которые решили остаться здесь, — сказал он. Затем поднял свою ручку и указал ею на Микони, — и ты, мой друг, никогда не вернешься в Италию.
Гвидо Микони, совершенно не зная, что ему ответить, укусил свою губу.
Мистер Гилкем издал громкий хохот, который, зародившись в глубине его брюха, прорвался грохочущим болезненным звуком. Но когда он заговорил, его голос странно смягчился, — я просто пошутил. Я возьму тебя с собой на судно.
Мистер Гилкем сходил с ним в отель и помог собрать его вещи.
Уверившись, что он получил каюту, какую просил, и расплатившись, Микони распрощался с голландцем.
Немного обалдев, он озирался, заинтригованный тем, что на палубе итальянского судна, стоящего на якоре у девятого пирса, никого не было. Он поставил стул рядом со столиком на палубе, сел на него верхом и опустил лоб на деревянную спинку. Нет, он не сошел с ума. Он был на итальянском судне, повторял он сам себе, надеясь рассеять страх того, что вокруг никого не было. Сейчас, отдохнув немного, он спустится на другую палубу и докажет себе, что команда и остальные пассажиры находятся на корабле. Эта мысль вернула ему уверенность.
Гвидо Микони встал со стула и, опираясь на перила, посмотрел на пирс.
Он увидел мистера Гилкема, который замахал ему рукой, увидев его.
— Микони! — кричал голландец, — судно поднимает якорь. Ты уверен, что хочешь уехать?
Гвидо Микони прошиб холодный пот. Неизмеримый страх овладел им. Он очень хотел спокойной жизни рядом с семьей, — я не хочу уезжать, — закричал он в ответ.
— У тебя нет времени, чтобы вернуть свой багаж. Трап уже убрали.
Прыгай немедленно. Тебя поймают в воде. Если ты не прыгнешь сейчас, ты не сделаешь этого никогда.
Гвидо Микони колебался всего секунду. В его чемодане лежали драгоценности, которые он собирал годами, работая почти с нечеловеческим упорством. И все это будет утрачено? Он решил, что у него есть еще достаточно сил, чтобы начать все с начала, и прыгнул с перил.
Все слилось. Он собрался перед ударом о воду. Он не волновался, так как был хорошим пловцом. Но удара так и не последовало. Он услышал голос мистера Гилкема, громко сказавшего: — я думаю, этот человек в обмороке.
Автобус не поедет, пока мы не выведем его. Эй, кто-нибудь, подайте его чемодан.
Гвидо Микони открыл свои глаза. Он увидел черную тень на белой церковной стене. Он не знал, что заставило его подумать о ведьме. Он чувствовал, что его подняли и вынесли из автобуса. Потом пришло разрушительное понимание.
— Я никогда не смогу уехать. Я никогда не уезжал. Это был сон, — повторял он. Его мысли вернулись к драгоценностям в чемодане. Он был уверен, что тот, кто схватил чемодан, украл его. Но драгоценности больше не имели для него значения. Он уже потерял их на судне.
10.
В моей последней поездке к дому Гвидо Микони меня сопровождала Мерседес Перальта. Когда в конце дня мы собрались вернуться в город, Рорэма обняла меня и повела сквозь заросли тростника узкой тропой к небольшой поляне, обсаженной кустами юкки, чьи цветы, прямые и белые, напоминали мне ряды свечей на алтаре.
— Как тебе это нравится? — спросила Рорэма, указывая на грядки, укрытые редким навесом из тонких и сухих ветвей, который по углам поддерживался раздвоенными на концах шестами.
— Прямо как на картинке! — воскликнула я, осматривая поле, покрытое перистыми ростками моркови, малюсенькими листьями салата, сходными по форме с сердечками, и кружевными завитками веточек петрушки.
Сияя восторгом, Рорэма прогуливалась туда и обратно вдоль опрятно вспаханных рядов смежного поля, собирая на свою длинную юбку массу сухих листьев и веточек. Каждый раз указывая место, где она посадила салат, редис или цветную капусту, Рорэма поворачивалась ко мне, ее рот изгибался в слабой воздушной улыбке, а хитрые глаза сверкали из-под полуприкрытых век, отражая огонек низкого послеполуденного солнца.
— Я знаю, что у меня есть прямое посредничество ведьмы, каким бы оно ни было, — внезапно воскликнула она, — и единственно хороший момент в этом то, что я знаю это.
Прежде чем я воспользовалась случаем расспросить ее подробнее, она подошла ко мне и обняла меня.
— Я надеюсь, ты не забудешь нас, — сказала она и отвела меня к джипу.
Мерседес Перальта крепко спала на переднем сидении.
В одном из окон второго этажа показался Гвидо Микони. Он сделал мне знак рукой, который был скорее манящим, чем прощальным.
Незадолго до того, как мы достигли Курмины, Мерседес Перальта зашевелилась. Она громко зевнула и рассеянно посмотрела в окно.
— Ты не знаешь, что на самом деле произошло с Гвидо Микони? — спросила она.
— Нет, — сказала я, — мне только известно, что Микони и Рорэма называют это вмешательством ведьмы.
Донья Мерседес захихикала, — это определенно было вмешательство ведьмы, — сказала она, — канделярия уже говорила тебе, что когда ведьмы вмешиваются во что-то, они говорят, что делают это своей тенью. Канделярия создала звено для своего отца; она создала ему жизнь во сне. Поскольку она ведьма, она вращала колесо случая.
Виктор Джулио тоже создал звено, и он тоже повернул колесо случая, но так как он не был магом, сон Октавио Канту — хотя он так же реален и нереален, как сон Микони — получился очень длинным и мучительным.
— Как Канделярия создала вмешательство?
— Некоторые дети, — объяснила донья Мерседес, — имеют силу желать чего-либо с огромной страстью долгий период времени, — она откинулась на свое сидение и закрыла глаза, — канделярия была таким ребенком. Она была рождена такой. Она желала возвращения своего отца, и желала этого, ни в чем не сомневаясь. Эта отдача, эта решимость и есть то, что ведьмы называют тенью. Это было той самой тенью, которая не могла позволить Микони уйти.
Мы проехали остаток пути в молчании. Мне хотелось переварить ее слова. Прежде, чем мы вошли в ее дом, я задала ей последний вопрос.
— Как мог Микони иметь такой подробный сон?
— Микони никогда не хотел уезжать, никогда, — ответила она, — поэтому он был открыт непоколебимому желанию Канделярии. Подробности сна сами по себе, однако, не являются частью вмешательства ведьмы, это было воображение Микони.
Часть третья.
11.
Когда что-то пощекотало мою щеку, я села и медленно подняла глаза к потолку, разыскивая гигантского мотылька. С тех пор, как я увидела его в рабочей комнате доньи Мерседес, я была одержима им. Каждую ночь мотылек размером в птицу появлялся в моих снах, трансформируясь в Мерседес Перальту. Когда я рассказала ей, что верю в свои сны, она высмеяла это, как плод моего воображения.
Я вновь опустилась на свою смятую подушку. Уже погружаясь в сон, я услышала шарканье Мерседес Перальты, проходящей мимо моей двери. Я вскочила, оделась и на цыпочках выбежала в темный коридор. Тихий смех донесся из ее рабочей комнаты. Янтарное зарево горящих свечей просачивалось сквозь открытую, небрежно задернутую портьеру. Непреодолимое любопытство заставило меня взглянуть внутрь. За столом сидела Мерседес Перальта и мужчина, лицо которого было скрыто шляпой.
— Ты не хочешь присоединиться к нам? — крикнула донья Мерседес, — я только что говорила нашему другу, что вскоре ты придешь взглянуть на меня.
— Лион Чирино! — воскликнула я, как только он повернулся ко мне и приподнял край шляпы в знак приветствия. Мы познакомились во время моего неудачного участия в сеансе. Именно он организовывал встречи спиритов. Ему было около семидесяти-восьмидесяти лет, но на его темном лице было всего несколько морщин. У него были большие черные глаза и искрящиеся белые зубы, которым следовало бы быть желтыми от сигар. На его подбородке торчала щетина, но его седые, коротко остриженные волосы были безупречно причесаны. Его темный костюм, помятый и мешковатый, выглядел так, будто он спал в нем.
— Он работал как сумасшедший, — сказала донья Мерседес, словно читая мои мысли.
Хотя меня больше не приглашали на сеансы, Мерседес Перальта одобряла мои поездки к Леону Чирино. Иногда она сопровождала меня, иногда я ездила одна. Он был плотник по профессии, но его знание различных шаманских традиций, практикуемых в Венесуэле, было изумительным. Его интересовали мои изыскания, он часами изучал мои записи, отслеживая в процедурах магов индейские и африканские корни. Он знал всех спиритуалистов, ведьм и знахарей Венесуэлы восемнадцатого и девятнадцатого веков. Он говорил о них с такой искренней фамильярностью, словно желал, чтобы у меня сложилось впечатление, будто он знает их лично.
Голос Мерседес Перальты бесцеремонно оборвал мои воспоминания, — ты не хотела бы поехать с нами, чтобы выполнить обещание? — спросила она.
Смущенная ее вопросом, я посмотрела сначала на нее, потом на него. Их лица мне ничего не сообщили.
— Мы уезжаем сейчас же, — сказала она мне, — у нас в запасе только ночь и день, — она встала и взяла меня за руку, — я подготовлю тебя для поездки.
Подготовка заключалась в следующем. Она спрятала мои волосы под тесную вязаную матросскую шапочку и вымазала мое лицо черной растительной пастой. Она заставила меня поклясться, что я ни с кем не заговорю и не буду задавать вопросов.
Игнорируя мое предложение воспользоваться джипом, Мерседес Перальта вскарабкалась на заднее сидение старого меркурия Леона Чирино. С мятыми бамперами и разбитой рамой, его машина выглядела так, словно ее вытащили со склада металлолома.
Прежде чем я рискнула спросить, куда мы едем, она велела мне залазить и присматривать за ее корзиной, наполненной лечебными травами, свечами и сигарами. Громко вздохнув, она перекрестилась и заснула.
Я не решалась заговорить с Леоном Чирино; вся его концентрация, казалось, шла на то, чтобы управлять машиной. Ближний свет едва освещал пятачок дороги перед нами. Слегка сгорбившись, он напряженно крутил баранку, словно этим как-то мог помочь машине пересекать темные холмы.
Когда она артачилась на крутых подъемах, он тихо уговаривал ее продолжать путь. Но под гору он выжимал из машины все, проходя повороты в темноте на безрассудной скорости, так что я заволновалась за наши жизни. Сумерки врывались сквозь неостекленные окна и щели в картоне, который скрывал ржавые дыры в полу.
Торжественно улыбаясь, он наконец резко остановился и погасил передние фары. Донья Мерседес зашевелилась на заднем сиденье.
— Мы приехали, — мягко сказал Леон Чирино.
Мы вышли из машины. Стояла темная безоблачная ночь. На небе не было ни одной звезды. Прямо перед нами что-то протянулось черной полосой. Я неловко шагнула и ухватилась за донью Мерседес, у которой, казалось, никаких проблем видеть в темноте не было.
Леон Чирино взял меня за руку и повел. Я услышала около себя приглушенный смех. Здесь явно были другие люди, которых я пока не могла видеть.
Наконец, кто-то зажег керосиновый фонарь. В слабом дрожащем свете я различила силуэты четырех мужчин и доньи Мерседес, сидящих кругом. Леон Чирино отвел меня на несколько шагов от группы. Я чувствовала полный упадок сил. Он помог мне сесть, прислонив меня к какой-то глыбе, торчащей из земли, затем подал фонарь и проинструктировал, как держать его и освещать то, что скажут. Затем он дал мне две солдатские кружки; та, что побольше, была наполнена водой, в другой был ром. Я должна была подавать их мужчинам по их просьбе.
Молча и без усилий двое мужчин начали копать мягкий грунт, аккуратно возводя у ямы кучу земли. Прошло по крайней мере полчаса, прежде чем они остановились и потребовали ром. Пока они пили и отдыхали, Леон Чирино и другой мужчина продолжали копать.
Так, сменяя друг друга, они работали, пили — кто ром, кто воду — и отдыхали. За час мужчины выкопали яму, в глубине которой спокойно мог спрятаться человек. Когда один из них ударил лопатой о что-то твердое, они перестали работать. Леон Чирино попросил меня посветить внутрь ямы, но не смотреть туда, — это он, — сказал один из мужчин, — теперь нам надо обкопать его, — он и его партнер присоединились к тем, кто находился в яме.
Я умирала от любопытства, но не смела нарушить своего обещания. Ах, если бы я только могла говорить с доньей Мерседес, которая сидела неподалеку от меня. Она была так неподвижна, что казалось, будто она в трансе.
Мужчины лихорадочно работали в яме. Прошло почти полчаса, прежде чем я услышала голос Леона Чирино, говорящего донье Мерседес, что они готовы открыть его.
— Музия, зажги сигару из моей корзины и дай ее мне, — приказала она.
— и принеси мне корзину.
Я зажгла сигару и уже хотела встать, чтобы принести ее ей, как Леон Чирино зашептал со дна ямы: — присядь, Музия! Присядь!
Я остановилась и передала сигару и корзину донье Мерседес.
— Не смотри в яму ни за что на свете! — шепнула она мне в ухо.
Я вернулась туда, где сидела, борясь с почти непреодолимым желанием посветить фонарем в яму. Я знала с абсолютной уверенностью, что они выкапывают сундук, полный золотых монет. Я даже могла слышать звук лопат, тупо ударяющих обо что-то, что казалось большим и тяжелым.
Очарованная, я смотрела, как донья Мерседес достала из своей корзины черную свечу и банку с черной пудрой. Она зажгла свечу, установила ее на землю возле ямы, затем приказала мне потушить фонарь.
Черная свеча источала жуткий свет. Донья Мерседес села у свечи.
Повинуясь какой-то непроизнесенной команде, мужчины по очереди высунули свои головы прямо перед ней. Каждый раз, когда возникала голова, она отсыпала небольшую порцию черного порошка в ладонь, а затем натирала им каждую голову. Вскоре, после того, как она управилась с головами, она намазала черным порошком руки мужчин.
Мое любопытство достигло предела, когда я услышала треск открываемой крышки.
— Мы достали ее, — сказал Леон Чирино, высунув свою руку из ямы.
Донья Мерседес подала ему банку с черным порошком, затем банку с чем-то белым, и после этого задула свечу.
Нас снова поглотила полнейшая тьма. Стоны и вздохи мужчин, вынимавших что-то из ямы, еще больше подчеркивали неестественную тишину. Я прижалась к донье Мерседес, но она оттолкнула меня.
— Все сделано, — прошептал Леон Чирино напряженным голосом.
Донья Мерседес вновь зажгла черную свечу. Я с трудом различила контуры трех мужчин, которые несли большой узел. Они положили его на кучу грунта. Я наблюдала за ними с такой увлеченностью, что чуть не упала в яму, услышав голос доньи Мерседес. Она приказала Леону Чирино, который все еще находился в яме, поскорее забить гвоздями то, что там было, и вылезать.
Леон Чирино появился сейчас же, и донья Мерседес массировала ему лицо и руки, в то время, как трое других мужчин, взяв лопаты, засыпали яму.
Когда они закончили работу, донья Мерседес поставила свечу в центр зарытой ямы. Леон Чирино бросил на нее последнюю лопату земли и погасил пламя.
Кто-то зажег керосиновый фонарь и мужчины немедленно продолжали свой труд; они утрамбовали землю так идеально, что никто не смог бы догадаться о произведенных раскопках. Я следила за ними все это время, но в последний миг все мое любопытство сфокусировалось на узле, завернутом в брезент.
— Теперь никто не узнает, — сказал один из мужчин и тихо засмеялся, — а сейчас надо уходить отсюда. Скоро начнет светать.
Мы подошли к узлу. Я освещала путь. Мне очень не терпелось узнать, что там такое. В попытках я налетела на узел, брезент соскользнул, приоткрыв часть женской ноги, одетой в черный ботинок.
Не в силах сдержать себя, я сдернула брезент и осветила раскрытый узел. В нем был труп женщины. Мой испуг и ошеломление достигли таких размеров, что я даже не закричала, хотя желала этого и прилагала к этому все силы. Все, что я смогла сделать, это каркнуть. Затем все в моих глазах потемнело.
Я залезла на заднее сидение машины Леона Чирино и уткнулась в колени доньи Мерседес. Она плотно прижала к моему носу платок, смоченный смесью нашатыря и розовой воды. Это было любимое средство доньи Мерседес. Она называла его духовной инъекцией.
— Я всегда знала, что ты трусиха, — отозвалась она и начала массировать мне виски.
Леон Чирино крутился вокруг, — ты очень смелая, Музия, — сказал он, — но у тебя еще нет сил, чтобы отступить. Тебе придется потерпеть. Несколько дней придется потерпеть.
Я не отзывалась. Мой испуг был слишком велик, чтобы можно было успокоиться. Я со злостью обругала их за то, что они не предупредили меня о своих действиях.
Донья Мерседес ответила, что все, сделанное ими, делалось преднамеренно, и частью их замысла была моя полная неосведомленность. Это давало им род защиты против осквернения могилы. Слабым местом оказался мой жадный интерес к тому, что было под брезентом.
— Я говорила тебе, что мы приехали выполнить обещание, — сказала мне донья Мерседес, — мы закончили первую часть — выкопали труп. Теперь мы должны похоронить его снова, — она закрыла свои глаза и заснула.
Я пересела на переднее сиденье.
Тихо напевая, Леон Чирино поехал по грунтовой дороге к побережью.
Было уже утро, когда мы достигли заброшенной кокосовой рощи.
Почувствовав запах морского бриза, Мерседес Перальта проснулась. Она громко зевнула и выпрямилась. Высунувшись в окно, она, казалось, вдыхала плеск дальних волн.
— Вот хорошее место для остановки, — заявил Леон Чирино, притормозив в нескольких шагах от пальмового дерева, прямее и выше которого я еще не встречала. Казалось, что тяжелые серебристые листья подметают облака на темно-синем небе.
— Здесь поблизости находится дом Лоренцо Паза, — продолжал болтать Леон Чирино, помогая донье Мерседес выйти из машины, — прогулка пойдет нам на пользу, — улыбаясь, он подал мне ее корзину.
Мы пошли проторенной дорогой через густые заросли высокого бамбука, обрамлявшего ручей. Здесь было прохладно и темно, а воздух наполнялся зеленой прозрачностью листьев. Леон Чирино шагал впереди нас, его соломенная шляпа была сдвинута на глаза так, чтобы ее не унес ветер.
Мы догнали его на узком мосту. Опираясь на балюстраду из свежесрезанных шестов, мы немного отдохнули, наблюдая за группой женщин, стиравших белье. Из чьих-то рук выскользнула рубашка, и юная девушка прыгнула в воду, чтобы поймать ее. Тонкое платье вздулось воздушным пузырем, затем облепило ее грудь, живот и мягкий изгиб бедер.
Прямая грунтовая дорога по ту сторону моста вела к маленькой деревушке, в которую мы так и не зашли. Свернув на заброшенное маисовое поле, мы пошли вдоль оросительной канавы. Затвердевшие початки жалко обвисали шелухой на засохших стеблях; при слабых дуновениях ветерка они издавали трескучее шуршание. Мы подошли к маленькому дому. Его стены были недавно покрашены, а черепичная крыша частично переделана. Банановые деревья, листья которых были почти прозрачны на солнечном свете, словно часовые стояли стеной перед дверью.
Дверь была приоткрыта. Без стука и отклика мы вошли в дом. На кирпичном полу, опираясь о стены, сидело несколько мужчин. Увидев нас, они в знак приветствия подняли наполовину наполненные ромом стаканы, а затем вновь продолжили беседу низкими, ленивыми голосами. В узкое окно врывался солнечный луч. Пыль, клубящаяся в нем, подчеркивала спертую духоту и острый запах керосина. В дальнем углу комнаты на двух упаковочных ящиках стоял открытый гроб.
Один из мужчин поднялся и, нежно взяв меня под локоть, подвел к гробу. Мужчина был небольшой, но крепко сложенный. Его седые волосы и морщинистое лицо указывали на ?????????? ???????? ??? Что-то моложавое было в изящном наклоне его скул и озорном выражении его красно-коричневых глаз.
— Взгляни на нее, — шепнул он, склоняясь над мертвой женщиной, лежавшей в грубом неокрашенном гробу, — видишь, как она еще красива.
Я едва сдержала крик. Это была та самая женщина, которую мы откопали прошлой ночью. Я подошла поближе и внимательно осмотрела ее. Несмотря на серо-зеленый цвет кожи, который не мог скрыть даже грим, в ней было что-то живое. Казалось, будто она улыбается своей собственной смерти. Ее тонкий нос венчали круглые очки без стекол. Яркие выкрашенные губы были полуоткрыты, обнажая прекрасные белые зубы. Ее длинное тело было завернуто в мантию, отделанную белым. На подставке лежала красно-черная деревянная маска дьявола, украшенная двумя угрожающе вывернутыми рогами барана.
— Она была очень красива и очень дорога для меня, — сказал мужчина, расправляя складку на мантии.
— Невероятно, как она еще красива, — согласилась я с ним. Боясь, что он перестанет говорить со мной, я не стала задавать ему вопросы.
С волнением продолжая расправлять красную мантию, он подробно рассказал мне о том, как они выкопали ее из могилы на кладбище вблизи Курмины и принесли в его дом.
Внезапно он взглянул на меня и понял, что я здесь посторонняя. Он осмотрел меня с любопытством.
— Ох, милая моя! Ну что я за хозяин? — воскликнул он, — я все говорю и говорю, а еще не предложил тебе ни еды, ни питья, — он взял меня за руку и представился: — я — Лоренцо Паз.
Я хотела сказать ему, что мне кусок в горло не полезет, но он быстро провел меня через узкий проход на кухню.
Здесь у керосиновой плиты хозяйничала Мерседес Перальта. Она размешивала какую-то стряпню из лекарственных растений, которые принесла с собой, — ты лучше похорони ее поскорее, Лоренцо, — сказала она, — не надо слишком долго держать ее над землей.
— Она еще хороша, — уверял ее мужчина, — я уверен, ее муж отвалил солидный куш тем, кто бальзамировал ее в Курмине. Для большей надежности я посыпал гроб негашеной известью, а ее тело обернул в ткань, пропитанную керосином и креозолом, — он умоляюще посмотрел на целительницу, — я должен быть уверен, что ее дух последует за нами.
Кивнув, донья Мерседес продолжала мешать свою стряпню.
Лоренцо Паз наполнил ромом две эмалированные кружки. Он подал одну мне, а другую — донье Мерседес, — мы похороним ее, как только она остынет, — пообещал он и вышел в другую комнату.
— Кем была эта мертвая женщина? — спросила я донью Мерседес и села на кипу сухих пальмовых листьев, сложенных у стены.
— Для тех, кто тратит большую часть своего времени на изучение людей, ты не очень наблюдательна, — заметила она, мягко улыбаясь, — я указывала тебе на нее несколько раз прежде. Она была женой фармацевта.
— Шведка? — ошеломлено спросила я, — но почему?., — конец моей фразы потонул в шумном хохоте мужчин в соседней комнате.
— Я думаю, они узнали, что ты была той, кто держал фонарь прошлой ночью, — сказала донья Мерседес и вышла в другую комнату посмеяться вместе с мужчинами.
Непривычная к спиртному, я почувствовала, что фактически засыпаю.
Голоса мужчин, их смех, а несколько позже ритмичный стук молотка доносились до меня как будто издалека.
12.
Ближе к вечеру мужчины ушли с гробом на кладбище, а я и донья Мерседес отправились в деревню.
— Интересно, где все люди? — спросила я. Кроме девчушки, стоявшей у дверей с голым карапузом на спине, и нескольких собак, лежавших в тени домов, на площади никого не было.
— На кладбище, — сказала донья Мерседес, направляясь через площадь к церкви, — сегодня день поминовения умерших. Люди приводят в порядок могилы своих покойных родственников и молятся за них.
Внутри церкви было прохладно и сумрачно. Последние нити солнечного света, дробясь цветными стеклами узких окон, падали вниз, освещая статуи святых в стенных нишах. Распятие в натуральную величину, с разорванной, вывернутой плотью и упавшей, кровоточащей головой, освещенной ярким светом, возвышалось на алтаре. Справа от распятия стояла статуя счастливой девы из Коромото, облаченной в голубую бархатную накидку с вышитыми звездами. Слева был косоглазый образ святого Иоанна, в узкополой шляпе и в красном фланелевом плаще, порванном и пыльном, небрежно наброшенном на его плечи.
Донья Мерседес потушила пламя семи свечей, горевших на алтаре, положила их в свою корзину и зажгла семь новых. Она закрыла глаза и, сложив руки, прочла длинную молитву.
Солнце едва мерцало за холмами, когда мы вышли из церкви. Малиновые и оранжевые облака, украшенные закатом, медленно тянулись к морю в золотистых сумерках. Когда мы пришли на кладбище, было уже темно.
Казалось, что здесь собралась вся деревня. Мужчины и женщины, присев возле могилы, молились тихими голосами, окруженные горящими свечами.
Мы прошли вдоль низкой кладбищенской стены к уединенному месту, где отдыхали Лоренцо Паз и его друзья. Они уже опустили гроб в землю и забросали его грунтом. Их лица, освещенные расположенными по кругу свечами, превратились в абстрактные маски, чьи призрачные формы скорее годились тем, кто был погребен под нами. Как только они заметили Мерседес Перальту, они ретиво бросились устанавливать крест в изголовье могилы.
Сделав это, они исчезли, быстро и беззвучно, как если бы их поглотила тьма.
— Сейчас мы вызовем сюда духа Бирджит Брицены, — сказала донья Мерседес, доставая из корзины семь свечей, которые взяла с церковного алтаря, и столько же сигар. Воткнув свечи в мягкий грунт на вершине могилы, она зажгла их и сунула в рот первую сигару, — следи внимательно, — шепнула она, передавая мне остальные сигары, — когда я выкурю ее, у тебя уже должна быть раскурена следующая.
Делая глубокие затяжки, она выпустила дым в четырех главных направлениях. Она сидела у могилы и непрерывно курила, шепча заклинания низким дребезжащим голосом.
Казалось, что табачный дым выходил не из ее рта, а прямо из-под земли. Тонко струясь, он окутывал нас облаком. Очарованная, я сидела возле нее, подавала сигару за сигарой и слушала ее мелодичное, но непонятное пение.
Когда она начала передвигать свою левую руку над могилой, я придвинулась к ней поближе. Мне казалось, что она встряхивает трещоткой, но в руке у нее ничего не было видно. Я только слышала трескучий звук зерен или, возможно, мелкой гальки, которую она быстро перекатывала в руке. Крошечные искры, словно светлячки, выскакивали между ее сжатых пальцев. Она начала насвистывать странный мотив, который стал вскоре неотличим от шуршащего шума.
Из дыма выплыла высокая фигура, облаченная в длинную мантию и колпак.
Я прижала руку ко рту, заглушая нервный смех. Я считала, что еще нахожусь под воздействием рома и принимаю участие в каком-то трюке, который, возможно, является частью дневного празднества в память умерших.
Полностью поглощенная, я следила за фигурой, вышедшей из дымного круга и бредущей к кладбищенской стене. Взгляд задержался на грустной улыбке призрака. Я услышала мягкий смех, такой тихий и нереальный, что, возможно, он был лишь частью пения Мерседес Перальты.
Но голос стал громче. Звук, казалось, исходил из четырех углов могилы, каждая сторона повторяла слова эхом. Дым рассеялся; он поднялся к пальмовым листьям и исчез в ночи. Некоторое время донья Мерседес продолжала сидеть у могилы, что-то тихо бормоча. Ее лицо едва виднелось в свете догоравших свечей.
Она повернулась ко мне, на ее губах промелькнула улыбка.
— Я заманила дух Бирджит Брицены сюда, но не к ее могиле, — сказала она. Взяв мою руку, она встала.
Я хотела спросить ее о странном видении, но что-то в пустом выражении ее глаз заставило меня замолчать. Лоренцо Паз, прислонясь к огромному валуну, ожидал нас за кладбищем. Ни слова не говоря, он встал и последовал за нами по узкой тропе, ведущей к пляжу. Полумесяц ярко сиял на выбеленном плавнике, разбросанном по широкой полосе песка.
Донья Мерседес приказала мне подождать ее у ствола вырванного с корнем дерева. Она и Лоренцо Паз ушли на берег. Он снял свою одежду, вошел в воду и исчез в волнистом фосфоресцирующем седом покрывале, обшитом серебристыми тенями.
Он показался несколько раз на волне, блеснув в лунном свете, затем его вынесло на берег.
Мерседес Перальта достала из корзины банку и посыпала ее содержимым распростертую на песке фигуру. Встав на колени рядом с ним, она положила свои руки ему на голову и забормотала заклинания. Она нежно массировала ее, ее пальцы едва касались тела, наконец вокруг него показалось слабое свечение. Быстрыми рывками она покатала его из стороны в сторону, ее рука описывала в воздухе округлое движение. Казалось, что она собирала тени и обматывала их вокруг него.
Немного позже она вернулась ко мне, — дух Бирджит Брицены прилип к нему, как вторая кожа, — сказала она, садясь рядом со мной на ствол дерева.
Вскоре Лоренцо Паз, одевшись, подошел к нам. Донья Мерседес движением своего подбородка приказала ему сесть перед ней на песок. Поджимая губы, она издала несколько громких шлепающих звуков и своими быстрыми, короткими выдохами заставила вибрировать горло в приглушенном рычании.
— Пройдет много времени, прежде чем призрак Бирджит Брицены будет забыт, — сказала она, — процесс умирания длится некоторое время и после того, как тело предано земле. Умерший очень медленно теряет память о себе.
Она повернулась ко мне и приказала сесть на песок рядом с Лоренцо Пазом. Его одежда пахла дымом свечей и розовой водой.
— Лоренцо, — обратилась она к нему, — мне хочется, чтобы ты рассказал Музии историю о том, как ты околдовал Бирджит Брицену.
Он озадаченно посмотрел на нее, затем обернулся и взглянул на море; его голова слегка склонилась, казалось, что он выслушивает тайное послание от волн, — почему ей нравится слушать нелепые истории стариков? — спросил он ее, не обращая внимания на меня, — у Музии есть свои собственные истории. Я уверен в этом.
— Но это же я прошу тебя рассказать ей твою историю, — сказала донья Мерседес, — она рассматривает пути и способы, посредством которых колесо случая может быть повернуто человеком. В твоем случае объект, который повернул колесо, это ты, Лоренцо.
— Колесо случая! — сказал он грустным голосом, — я помню это, словно все случилось только вчера, — по-видимому, размышляя о чем-то, он потыкал гальку кончиком своего ботинка и вытянулся плашмя на песке.
***
Со своего кресла позади прилавка в тусклом, прокуренном баре Лоренцо наблюдал за группой мужчин, склонившихся за бильярдным столом над партией корнера. Он перевел взгляд на часы у камина, отмечавшие каждый час стеклянным перезвоном. Почти рассвело. Он уже хотел подняться и напомнить мужчинам о позднем времени, когда услышал шаркающие шаги Пэтры. Он опять быстро уселся. Злая усмешка пробежала по его лицу. Пусть посетителями занимается его тетушка. Никто в городе еще не избежал ее порицаний. Их слушали, не считаясь с тем, какими бы мерзкими и возмутительными они ни были.
— Этот чертов стук бильярдных шаров не дает человеку заснуть, — пожаловалась она хриплым голосом, едва только вошла в комнату, — вы не подумали о том, что вас ждут жены? Вы не думаете, что вам надо завтра идти на работу, как и всем добрым христианам? — не давая мужчинам прийти в себя от неожиданности, она продолжала в той же негодующей манере, — я знаю, что делается с вами. Вы уже сожалеете о том, что принесли эти языческие рождественские деревья в свои дома, что разрешили своим детям играть в рождественские игры.
Она перекрестилась и набросилась на одного из мужчин, — вот ты, мэр.
Как же ты можешь позволять такое? Неужели вы все обратились в протестантов?
— Упаси бог, Пэтра, — сказал мэр, крестясь, — не делай из мухи слона.
Какой вред в деревьях и играх? Посмотри, как детям это нравится.
Проворчав что-то неразборчивое, она хотела было уйти, но вдруг остановилась: — мне стыдно за дона Серапио! Он более чужд нам, чем истинные иностранцы. Мне стыдно за то, что он более чужой нам, чем даже его жена. Благодаря им большинство детей в городе не получит подарков трех волхвов шестого января, как то полагается каждому доброму христианину, — она достала на прилавок пачку сигарет, — сейчас они собирают их на рождество, — продолжала она, — называя каких-то типов Санта Клаусами. Это позор!
Прислонясь к двери, она угрожающе рассматривала мэра, не замечая, что сигарета из ее рта давно упала на пол. Она потянулась к полуоткрытой бутылке рома рядом с бильярдным столом и пропустила стаканчик, шепча что-то про себя.
Улыбнувшись, Лоренцо ясно вспомнил тот день, когда грузовик, нагруженный необычными ароматными деревьями, приехал в город. Дон Серапио, фармацевт, назвал их рождественскими елками. Он заказал их в Каркасе вместе с украшениями и пластинками европейских рождественских песен.
Не желая уступать друг другу, друзья дона Серапио вскоре последовали его примеру и, уплатив кучу денег за хрупкие деревья, выставляли их так, чтобы они были заметны в их жилых комнатах.
К большому огорчению старых родственников, живущих в этих домах, деревья ставили рядом, а то и прямо в тех местах, которые по традиции отводились для рождественских сцен.
Открывая окна, чтобы каждый прохожий мог заглянуть и услышать незнакомые мотивы "тихой ночи" и "танненбаума", женщины украшали тощие веточки стеклянными шарами, бусами, золотой и серебряной мишурой и снегом из ваты.
Шорох дребезжащей занавеси рассеял воспоминания Лоренцо. Он помахал рукой мужчинам, покидавшим бар, а затем принялся расставлять бутылки на полках. Его взгляд остановился на маске, засунутой за дешевые статуэтки богородиц, святых и страдающего Христа. Фигурки дарили бедные клиенты, которые не в силах были оплатить спиртное. Он вытащил маску. Это была маска дьявола с огромными рогами. Ее оставил приезжий из Каркаса. Он не смог оплатить заказанный стакан рома.
Прислушиваясь к тому, как Пэтра гремит горшками и кастрюлями на кухне, он поставил маску обратно на полку. Вместо того, чтобы запереть бар, он вытащил свое кресло-качалку на тротуар. Широкие ветви древних деревьев на площади резко вырисовывались на бледном предрассветном небе.
Он неторопливо раскачивался взад и вперед. Сквозь полуприкрытые веки он следил за стариками, которые, наверное, никогда не спали на рассвете.
Они сидели у своих дверей, беседуя и вспоминая поминутно детали прожитых дней с какой-то все возрастающей живостью.
Сквозь тишину плыла мелодия. Через улицу прямо на Лоренцо смотрела Бирджит Брицена, жена фармацевта. Это звучало ее радио. Ему стало интересно, проснулась ли она только что или тоже еще не ложилась.
Ее лицо было безупречно овальным. Уголки ее маленького, чувственного, прекрасного рта выражали вызов и нахальство. Ее желтые волосы оплетали голову косой, а холодные голубые глаза, казалось, блеснули, когда она улыбнулась ему.
Он кивнул ей в знак безмолвного приветствия. Он всегда немел в ее присутствии. С первого дня, как он увидел ее, она была для него идеалом красоты, — это из-за нее я прожил до сорока лет, так и не женившись, — подумал он. Для него все женщины были привлекательны и неотразимы, но Бирджит Брицена была более чем неотразима, она была действительно недосягаема.
— Почему ты не зашел к нам вечером на рождественские игры? Сегодня вечером будет рождество Евы, — прокричала она через улицу.
Старики, дремавшие у своих дверей, внезапно оживились и повернули головы к владельцу бара. Нетерпеливо усмехаясь, они ждали его ответа.
До сих пор Лоренцо постоянно отказывался от приглашений дона Серапио.
Он не мог терпеть важного вида фармацевта. Ему претила его неуступчивость в попытках убедить всех знакомых и близких в том, что он самый влиятельный человек в городе, и что только он может служить примером цивилизованного человека.
Но каким несносным ни казался ему этот мужчина, Лоренцо не мог сопротивляться приглашению его жены. Громким голосом он пообещал Бирджит Брицене, что придет этим вечером. Он затащил в дом свое кресло и отправился спать в заднюю часть дома, довольный и уверенный в себе.
Одетый в белый льняной костюм, Лоренцо вышагивал по своей спальне, испытывая новые лакированные туфли. Это была большая комната, заставленная тяжелой витой мебелью из красного дерева. Она стояла прежде в гостиной, но отец перестроил ее несколько лет назад в небольшой бар. Лоренцо сел на постель, снял туфли и носки и надел матерчатые сандалии.
— Я рада, что ты не зря старался, — отозвалась Пэтра, входя в комнату, — нет ничего хуже, чем неудобная обувь. Она делает человека абсолютно ненадежным.
Ее небольшие темные глаза одобрительно засияли, когда она осмотрела его костюм, — и все же ты никогда не заманишь Бирджит Брицену обычными средствами, — заявила она, поймав его взгляд в зеркале, — эта иностранка отзовется лишь на хитрости ведьмы.
— Неужели? — пробормотал Лоренцо, пожимая плечами с напускным безразличием.
— Не в этом ли причина того, что ты хотел увидеться с ведьмой?
Попросить приворотное зелье для Музии? — подзадоривала она его, скрестив тонкие руки на плоской груди. Понимая, что он не посмеет ответить, она добавила: — ладно, но почему ты не следуешь совету ведьмы?
Лоренцо усмехнулся и внимательно посмотрел на свою тетку. Она жутким образом знала все, что было в его мыслях, а ее оценка всегда была точна.
Пэтра поселилась в доме после смерти отца. Ему было тогда десять лет.
Она не только присматривала за ним все эти годы, но и заведовала баром до тех пор, пока он не вырос и не стал справляться с этим самостоятельно.
— Бирджит Брицена ответит только на уловку ведьмы, — угрюмо повторила Пэтра.
Лоренцо осмотрел себя в зеркале. Он был слишком мал и приземист, чтобы выглядеть достойно. У него чересчур сильно выступали скулы, рот был тонким, а нос большим. Однако он без смущения любил женщин и знал, что женщины любят мужчин такого образа поведения. Но любить Бирджит Брицену — что можно желать более? И он желал ее больше всего на свете.
Он никогда не сомневался в силе ремесла ведьм. Рекомендации ведьмы в том, как соблазнить иностранку, однако, были слишком необычными, — приворотное зелье готовят для людей, не имеющих силу идти прямо к душе вещей, — говорила она ему, — любая исполнит твое желание, твое самое серьезное желание, если у тебя имеется достаточно силы, чтобы желать прямо в душу вещей. У тебя есть маска дьявола. Попроси маску соблазнить Бирджит Брицену, — он решил, что все это слишком неясно. Он был очень практичен и мог полагаться только на что-то конкретное.
— Ты знаешь? — спросил он, взглянув на свою тетку, — бирджит Брицена сама пригласила меня к себе в дом.
— Она наверное пригласила полгорода, — цинично ответила Пэтра, — а не приглашенная половина тоже будет там, — она встала, но прежде чем оставить комнату, добавила: — я не предлагаю тебе — не ходить к Бирджит Брицене. Но запомни мои слова. У тебя ничего не получится с помощью обычных средств.
Он отбросил совет ведьмы из-за того, что больше не хотел соблазнять шведку; он хотел, чтобы она любила его, пусть даже на мгновение. В этот миг эйфории он подумал, что до встречи осталось менее часа.
Парадная дверь и окна дома Брицены были открыты настежь. Даже с площади можно было увидеть высокую ель в гостиной, которая пылала бесчисленными яркими огнями во всем своем великолепии.
Лоренцо вошел в дом. Что-то здесь напоминало железнодорожный вокзал.
В патио на возвышающейся платформе были расставлены ряды стульев. Из гостиной вместе с мебелью из ивы вынесли кожаные кресла, диваны и сафьяновые табуретки. Мальчишки и девчонки носились босиком, таща на буксире своих матерей, которые на ходу пытались поправить их костюмчики.
— Лоренцо! — закричал дон Серапио, увидев его в широко открытых дверях гостиной. Он был высок и худощав, к тому же обладал приличным брюшком. Поправив свои толстые роговые очки, дон Серапио радушно похлопал Лоренцо по плечу, — мы подаем кофе, — сказал он, сопровождая его к гостям, элите города. Здесь были доктор, мэр, парикмахер, директор школы и священник. Увидев Лоренцо в доме дона Серапио, они пришли в полное недоумение.
Фармацевт, казалось, искренне радовался тому, что заполучил неуловимого владельца бара к себе в гости.
Лоренцо поздоровался с каждым и, отходя от двери, едва не столкнулся с Бирджит Бриценой, которая в этот миг входила в комнату.
— Отлично! — воскликнула она, улыбаясь гостям, — дети уже начинают игру. Но сначала идите и помогите вашим женам приготовить печенье и кофе.
— взяв под руку мужа, она прошла в столовую.
Лоренцо не сводил с нее глаз. Она была высока и прекрасно сложена, однако, подумал он, было что-то беззащитное, почти хрупкое в ее длинной шее, нежных руках и ступнях.
Почувствовав, что ее оценивают, она взглянула на него. Секунду подумав, она налила кофе в две маленькие чашки в золотой оправе и понесла их туда, где стоял он, — здесь есть еще и ром, — сказала она, задумчиво посматривая на бутылку в конце стола, — который предназначен только для мужчин.
— Я позабочусь о нем без промедлений, — воскликнул Лоренцо, одним глотком приканчивая кофе. Он взял бутылку, наполнил свою чашку ромом и непринужденно обменял ее пустую чашку на свою.
Усмехаясь, она взяла печенье, немного откусила и элегантно выпила ром маленькими глотками, — со мной всегда происходят странные истории, — прошептала она, ее глаза вдруг заблестели, а щеки раскраснелись.
Лоренцо не замечал вокруг себя ничего — только ее. Все, о чем говорил гостям дон Серапио, пролетало мимо его ушей, пока она, досадливо отмахиваясь, не сказала: — я лучше вернусь к детям.
А фармацевт медлительно и педантично разоблачал традиции рождественских гуляк Венесуэлы, которые каждую ночь проводят в пении импровизированных колядок, исступленно играя на своих барабанах. Это так надоедливо, подчеркивал он, слушать непрерывный бой барабанов. Ему казалось просто возмутительным видеть молодежь, шатавшуюся по улицам от рома, которым их обпаивали в награду за пение.
Лоренцо вспомнил последний визит к ведьме. Выражение озорства и злорадства озарило его лицо.
— Я не верю в то, о чем ты мне говоришь, — кричал он, — потому что я не знаю, кто сможет дать мне такое монументальное желание.
— Доверься мне, — ответила она, — нет способа узнать, кто дает такое желание. Но оно случается, когда ты меньше всего этого ожидаешь, — она настаивала на том, что у него уже есть предмет, который позволит ему наслать заклятие на Бирджит Брицену — дьявольская маска, — и еще добавлю.
Ты должен надеть маску в момент торжества, и она удовлетворит твое желание.
Ведьма объяснила ему, что требовалось выбирать лучшее время, так как магическая маска могла сработать только один раз.
И то, что маска попалась ему этим утром на глаза, было более чем совпадение. Лоренцо бесцеремонно вышел во двор, уверенный в том, что никто не видит его. Он перебежал улицу и незаметно проскользнул в тыльную дверь своего дома.
Он вошел на цыпочках в бар, зажег свечу и достал маску с полки.
Нерешительно провел пальцами по красно-черной поверхности. Резчик вложил в свое творение что-то адское, подумал Лоренцо. У него было странное чувство, что глазные щели, прикрытые густыми бровями, обвиняли его за пренебрежение. Рот, с длинными клыками в уголках, дьявольски скривился в усмешке, подбивая его на танец с маской.
Он одел ее на свое лицо. Его глаза, нос и рот так хорошо подходили к маске, что он почти поверил, будто маска сделана для него. Лишь скулы слегка терлись о гладкую поверхность. Он связал сыромятные ремешки на затылке и прикрыл их волосами из пакли, окрашенными в фиолетовый, зеленый и черный цвета. Волосы свисали на его спину.
Лоренцо не слышал, как в комнату вошла Пэтра. Испугавшись, он подпрыгнул, когда она заговорила.
— Ты должен переодеться, — заявила она, подавая ему брюки и залатанную рубашку, — сними сандалии, дьявол ходит босиком, — она оглянулась, боясь, что кто-то может подслушать, затем добавила: — помни, дьявол приказывает, не произнося слов.
Тихо, той же дорогой, какой пришел, Лоренцо выскользнул через заднюю дверь. Секунду он колебался, размышляя, каким путем вернуться. И вдруг увидел группу гуляк, игравших на своих барабанах в конце улицы. Укрываясь в тени, он пошел вдоль стены к ним.
— Дьявол! — закричал один из них, увидев Лоренцо, затем бросился вприпрыжку по улице, крича, что в город пришел дьявол.
Четверо юношей отделились от группы и окружили дьявола, продолжая бить в свои барабаны. Один из них запел импровизированные стихи о том, что они будут этой ночью под началом дьявола.
Лоренцо почувствовал, как дрожь пробежала по его позвоночнику. Она наполнила его нетерпением, которое он не мог контролировать. Он медленно поднял свои мускулистые руки, его ноги задвигались по собственной воле под ритм барабанов.
На их пути открывались окна и двери. Они шествовали по улице к площади, а сзади их сопровождала растущая толпа. Вдруг словно по велению дьявола освещение на площади и в окрестных домах погасло на три-четыре секунды. Музыка оборвалась. И в этот момент парализованная толпа глазела на то, как дьявол входит в дом Брицены.
Он вспрыгнул на платформу патио, и ракеты, пущенные кем-то снаружи, взвились в воздух. Красные, голубые, зеленые и белые огни расползлись по небу, а затем головокружительно понеслись на землю ливнем слабых золотых искр.
Прикованные к месту, ошеломленные гости смотрели на дьявола и барабанщиков, которые следовали за ним. Словно прислушиваясь к какой-то безмолвной музыке, он кружился среди умолкших барабанщиков. Его тело слегка горбилось, а рога были угрожающе направлены в небо.
Словно гром, взорвались барабаны, превратив затянувшуюся тишину в грохот, который заползал в каждый уголок дома.
Дьявол, увидев у дверей столовой Бирджит Брицену, спрыгнул с платформы, схватил бутылку рома со стола и подал ей.
Улыбаясь, она взяла бутылку и, запрокинув ее, выпила до капли.
Уверенный в своей силе, дьявол кружился вокруг нее, двигаясь с изумительной грацией.
Вытянув руки и восторженно улыбаясь, Бирджит Брицена раскачивалась в такт барабанам, словно была в трансе.
Дон Серапио сжался в комочек на кресле, которое вдруг оказалось слишком широким для него. В его глазах под толстыми роговыми очками был ужас.
Гости, смешавшись с толпой, нахлынувшей с площади, начали танцевать.
Скромно покачивая бедрами, они старались сдерживать свои движения.
Лоренцо был окружен все увеличивающимся числом танцующих женщин, которые хотели коснуться его, прижаться к нему, удостовериться, что он из плоти и крови. Он потерял из виду Бирджит Брицену. Без усилий разорвав нить нетерпеливых женских рук, он скрылся за дверью. Уверенный, что его не будут преследовать, он бросился в заднюю часть дома, заглядывая в каждую комнату.
Радостный смех настиг его на полпути. У арки, отделявшей прачечную от заднего двора, стояла высокая тучная фигура, одетая в черные сапоги, длинную красную мантию, отделанную белым, и красный фригийский колпак поверх кудрявого парика.
Лоренцо приблизился к странно одетой персоне, — бирджит Брицена, — прошептал он вполголоса, глядя в ее ясные, нахальные глаза, обрамленные очками в проволочной оправе без стекол.
— Санта Клаус! — поправила она; широкая усмешка тронула ее губы, скрытые лохматой бородой и усами. Она потянулась за джутовым мешком, набитым пакетами.
— Я ждала двенадцати часов, чтобы раздать детям рождественские подарки, — объяснила она, — но теперь не могу пройти мимо такой возможности, — она хитро улыбнулась, — ты пойдешь со мной? — спросила она, и ее глаза хищно блеснули, когда она согнулась, заглядывая в щели его маски.
Лоренцо кивнул ей, затем поднял джутовый мешок, взвалил его на плечо и движением руки приказал ей следовать за ним.
Через задний двор они вышли на улицу, ведущую к площади, где несколько стариков, женщин и детей собрались посмотреть на праздник в доме Брицены.
— Там дьявол! — завизжала маленькая девочка. Позвав других детей за собой, она побежала на середину площади. Дети резко остановились. Их глаза расширились от ужаса и любопытства.
— Это дьявол, — сказала маленькая девочка, указывая на Лоренцо, — а ты кто? — спросила она высокую фигуру, — почему ты так одет?
— Я Санта Клаус, и я принес подарки, — сказала Бирджит Брицена, вытаскивая из мешка пакеты. Смеясь, она раздавала их детям.
— А нам ты принес подарки? — кричали другие дети, танцуя вокруг нее.
Громко хохоча, Бирджит Брицена ложила пакеты в их жадные маленькие ручки.
Растерянная малышка, прижимая завязанную коробку к груди, возбужденно кричала: — Санта Клаус и дьявол пришли к нам танцевать!
Восторженный визг детей в один миг привлек толпу. Несколько музыкантов заиграли на своих инструментах, снова загремели барабаны.
— Давай танцевать подальше от твоего дома, — шепнул Лоренцо в ухо Бирджит Брицены, — а когда мы войдем в переулок, то улизнем от них.
Лоренцо обвязал вокруг ее талии цветастый платок и крепко держал его концы. Их тела сплетались и дрожали в пламенных, ритмичных объятиях.
Боясь выпустить из рук концы платка, он напрочь игнорировал явные приглашения других женщин, которым тоже хотелось потанцевать с ним.
Несмотря на свою полную увлеченность танцем, он вдруг услышал другую группу музыкантов, идущих в конце улицы. На глазах у всех он схватил вскрикнувшую Бирджит Брицену на руки и вытащил ее из толпы. Прежде чем кто-либо понял, что случилось, дьявол и Санта Клаус исчезли.
Они бежали, пока было дыхание. А когда услышали гул толпы за углом, Лоренцо поднял Бирджит Брицену на руки и вошел в парадную дверь дома одного из своих друзей. Он увидел его в гостиной с небольшой группой людей. Лоренцо и в голову не приходило, что он может помешать семейному торжеству. Все, о чем он думал, было тем, как он убедит своего друга дать ему на время машину.
— Какая ночь, — вздохнула Бирджит Брицена. Радостная улыбка озарила ее лицо, — эта толпа почти настигла нас, — она сняла парик, бороду, усы и выбросила их в окно, затем вытащила подушку из-под мантии и кинула ее на заднее сидение, — куда мы едем? — спросила она, всматриваясь в темноту.
Лоренцо сбросил свою маску и продолжал гнать к небольшому домику у моря.
Хихикнув, она откинулась на своем сидении, — я чувствую запах морского ветра, — резко прошептала она, глубоко вздохнув, — люди моей нации всегда хоронят своих умерших близких у моря, и единственное, о чем я жалею, что не буду похоронена у моря. Серапио уже купил участок на городском кладбище.
Озадаченный ее странным замечанием, он остановил машину.
— Сможет ли маска дьявола исполнить мое желание быть похороненной у моря? — спросила она так серьезно и решительно, что он только кивнул в знак согласия.
— Обещание, подобное этому, священно, — сказала она. Взгляд ее глаз выражал понимание какой-то тайны. Она была спокойна, но странная, почти озорная улыбка играла на ее устах, — и я, на этом месте, обещаю любить владельца исполняющей желания маски всю эту ночь, — прошептала она.
Он отчаянно торопил мгновения любви. А потом была ночь — как вечность.
13.
Весь конец дня я размышляла над смыслом историй, которые услышала. Я думала, что понимаю то, что означает звено или тень ведьмы или колесо случая, но я все же еще нуждалась в пояснениях доньи Мерседес или Канделярии.
Я приняла за исходный пункт то, что не могу истолковать свои переживания с точки зрения моей академической подготовки, однако мне не хотелось переводить их на язык того, чему я научилась в мире нагваля.
Флоринда объясняла это с точки зрения намерения: универсальной абстрактной силы, ответственной за формирование всего, что есть в мире, где мы живем. Наличие абстрактной силы, ее формирующая способность обычно находятся за пределами досягаемости человека, однако при некоторых обстоятельствах ими можно манипулировать. И это дает нам ложное впечатление того, что люди и вещи исполняют наши желания.
По сравнению с Флориндой — а я не могла удержаться от сравнения — донья Мерседес и Канделярия не имели общего законченного понимания своих действий. Они понимали лишь то, что делали как медиумы, ведьмы и целители, на уровне отдельных, конкретных событий, свободно связанных друг с другом.
К примеру, донья Мерседес дала мне конкретный образец способа манипулировать чем-то неизвестным. Акт манипуляции им она называла тенью ведьмы. Результат этой манипуляции она называла звеном, непрерывностью, поворотом колеса случая.
— Конечно, это маска исполняла желания Лоренцо, — сказала донья Мерседес с абсолютной убежденностью, — я знаю другие, очень похожие примеры вещей, исполнявших желания.
— Но скажи мне, донья Мерседес, какой фактор важнее — вещь сама по себе или личность, которая имеет желание?
— Вещь сама по себе, — ответила она, — если бы Лоренцо не имел этой маски, он бы всю жизнь вздыхал о Бирджит Брицене; и это было бы всем, что дало бы ему его желание. Ведьма должна сказать, что маска, а не Лоренцо, создала звено.
— Почему ты называешь это тенью ведьмы? Разве здесь вовлекалось влияние ведьмы?
— Тень ведьмы — это только название. Все мы имеем в себе кусочек ведьмы. Лоренцо безусловно не был ни спиритом, ни целителем, однако он имел определенную силу очарования. Я думаю, недостаточно создать звено и передвинуть колесо случая. С помощью маски получается совсем другая история.
Часть четвертая.
14.
Меня испугал слабый шум. Я попробовала передвинуться, но моя левая рука, которую я отлежала, затвердела и не слушалась меня. Я заснула в комнате Мерседес Перальты, изнуренная проведением инвентаризации ее лекарственных растений.
Услышав голос, звавший меня по имени, я повернула голову, — донья Мерседес? — прошептала я. Кроме скрипа узлов гамака о металлические кольца, я ничего не услышала в ответ. Я прошла на цыпочках в угол. В гамаке никого не было. Но я имела четкое ощущение, что она только что была в комнате, какое-то присутствие ее еще было здесь.
Застигнутая необъяснимой тревогой, я открыла дверь и выбежала в темный пустой коридор; я прошла через патио на кухню, затем во двор. Здесь в гамаке отдыхала донья Мерседес, окутанная табачным дымом.
Ее лицо медленно показалось из дымного облака. Оно больше походило на образ во сне. Ее глаза сверкали странной глубиной.
— Я только что думала о тебе, — сказала она, — о том, что ты здесь делаешь, — она вытянула свои ноги и выпрыгнула из гамака.
Я рассказала ей, что уснула в ее комнате и была напугана звуком ее пустого гамака.
Она молча слушала с тревожным выражением на лице, — музия, — сказала она строго, — сколько раз я советовала тебе не спать в комнате ведьмы? Мы очень уязвимы, пока спим.
Неожиданно она хихикнула и прикрыла рот рукой, словно сказала слишком много. Она сделала мне знак подойти ближе и сесть на землю у края гамака.
Затем начала массировать мне голову. Ее пальцы скользили волнообразными движениями вниз по моему лицу.
Успокоительное оцепенение распространилось по лицу. Кожа, мускулы и кости, казалось, растворились под ее ловкими пальцами. Полностью расслабленная и успокоенная, я чувствовала себя находящейся в дремоте, которая, однако, не была и сном. Я полусознавала ее мягкие прикосновения и наконец легла лицом вверх вблизи от цементной плиты.
Донья Мерседес молча стояла надо мной, — смотри, Музия, — внезапно крикнула она, указывая на полную луну, бегущую сквозь облака. То скрываясь, то появляясь вновь, луна, казалось, в спешке рвала облака, — смотри, — крикнула она снова, подбросив горсть золотых медалей, связанных длинной золотой цепочкой, над своей головой, — когда ты увидишь цепочку еще раз, ты вернешься в Каркас.
На миг темная горсть, казалось, была подвешена к луне, показавшейся среди облаков. Я не видела ее падения. Я была слишком озабочена тем, что побудило ее упомянуть о моем возвращении в Каркас. Я спросила ее об этом; она заметила, что для меня было бы глупо предполагать, что я останусь в Курмине навсегда.
15.
Настойчивый, резкий треск цикад на ветвях над моей головой был больше похож на колебания, разрывавшие тишину жаркой и влажной ночи. Я лежала лицом вниз на циновке и ожидала женщину, которая являлась ко мне каждую ночь на этом самом месте.
Донья Мерседес, дремавшая в гамаке поблизости, решила составить мне этой ночью компанию и, похоже, нарушила своим присутствием всю исключительность таких появлений. Она с самого начала установила, что поскольку еще никто не был свидетелем моих встреч с духом, они могли оказаться чисто личным событием. Но если кто-то еще будет присутствовать при этом, все станет, как говорится, общественным достоянием.
Я уже приобрела некоторый опыт в курении сигар. Сначала я жаловалась донье Мерседес на раздражающее действие горячего дыма на нежные ткани внутри рта. Она смеялась над моими страхами, уверяя меня, что дым ритуальных сигар на самом деле прохладен и успокоителен.
Потренировавшись немного, я согласилась с ней; дым действительно был прохладным; казалось, что табак ментолизирован.
Решение доньи Мерседес сопровождать меня этой ночью было вызвано сомнениями Канделярии в том, что я достаточно сильна для самостоятельного проведения сеанса. По ее словам, полный сеанс означал то, что в некоторый момент медиум абсолютно оставлял весь контроль над своей личностью и дух мог выражать себя посредством тела медиума.
Днем раньше донья Мерседес объяснила мне, что мое присутствие в ее доме не могло длиться слишком долго. Не потому, что она или Канделярия были как-то против меня, но потому, что она не могла дать мне ничего ценного. Она уверяла меня, что и Канделярия и она сама не чувствовали ничего другого ко мне, кроме глубокой любви. Если бы я ей меньше нравилась, она бы удовлетворилась тем, что разрешила мне наблюдать ее лечение больных, и делала бы вид, что я являюсь ее помощницей. Но любовь ко мне вынуждала ее быть правдивой. Мне нужно было звено, а она не могла мне его дать. Она создавала его для Канделярии. Однако, поскольку дух выбрал меня как посредника, а возможно даже как настоящего медиума, она уважала этот выбор. Пока она помогала мне только косвенно при ночных контактах с призраком.
— Тот факт, что дух моего предка избрал тебя, — говорила она, — делает тебя, Канделярию и меня в некотором роде родственницами.
Канделярия потом мне рассказала, что у нее был контакт с тем же духом еще в детстве. Но, следуя традиции медиумов хранить все в глубочайшей тайне, она не могла рассказать мне об этом.
Донья Мерседес пошевелилась в гамаке и скрестила свои руки за головой, — музия, ты лучше садись и начинай курить, — сказала она тихим, расслабленным голосом.
Я зажгла сигару и часто запыхтела ею, шепча заклинания, которым она меня научила. Дым и звук были обязательными средствами для вызова призрака. Я услышала тихий шелест. Донья Мерседес тоже услышала его, она повернулась в том же направлении, что и я. В нескольких шагах от нас, между гигантскими терракотовыми цветочными горшками, сидела женщина.
Донья Мерседес присела рядом со мной и взяла сигару из моих губ. Она запыхтела ею, шепча заклинания, отличные от моих. Я почувствовала дрожь в теле; невидимая рука сжала мое горло. Я услышала, что испускаю свистящий, булькающий шум. К моему изумлению он звучал как слова, сказанные кем-то еще с помощью моих собственных голосовых связок. Я мгновенно узнала — хотя и не понимала слов — что это было другое заклинание. Призрак парил над моей головой, затем он исчез.
Я обнаружила себя в доме вместе с доньей Мерседес и Канделярией. Я насквозь пропотела и чувствовала себя физически истощенной. А тут были две женщины. Однако мое истощение не изнуряло. Я чувствовала удивительную легкость и оживление.
— Как я очутилась здесь? — спросила я.
Канделярия взглянула вопросительно на донью Мерседес и сказала: — у тебя был полный сеанс.
— Это меняет все, — воскликнула донья Мерседес слабым голосом, — дух моего предка даст звено для тебя. Поэтому ты должна остаться здесь, пока дух не позволит тебе уйти.
— Но почему дух избрал меня? — спросила я, — я же иностранка.
— Для духов не существует иностранцев, — ответила Канделярия, — духи имеют дело только с медиумами.
16.
Мерседес Перальта сидела сгорбившись у алтаря, бормоча заклинания.
Голодная и утомленная, я наблюдала за ней со своего места. Было почти шесть часов вечера. Я пылко желала о том, чтобы крупная женщина, сидевшая за столом, оказалась последней пациенткой доньи Мерседес в этот день.
Обычно она принимала не более двух больных, но последние четыре субботы донья Мерседес осматривала более двенадцати пациентов за день.
Большей частью это были женщины из соседних деревень, которые, совершая еженедельную поездку на рынок, задерживались, чтобы пройти осмотр у целительницы. Некоторые из них искали помощи от таких недугов, как головные боли, простуды и женские расстройства. Большинство посетителей, однако, приходило решать свои эмоциональные проблемы. Безответная любовь, семейные затруднения, конфликты с родней и подросшими детьми, проблемы на работе и в обществе были наиболее частыми темами бесед. Поседевшие волосы, отсутствие волос, появление морщин и полоса неудач были самыми легкомысленными жалобами. Донья Мерседес лечила каждого, независимо от его или ее проблемы, с одинаково искренним интересом и эффективностью.
Сначала она определяла недуг, применяя морской компас или истолковывая узор пепла сигары на тарелке. Если отсутствие целостности человека было вызвано физиологическим смятением — она называла его духовным — она накладывала молитвы-заклятия и делала массаж. Если человек страдал физическим недугом, она прописывала лекарственные растения.
Ее изумительное владение языком и великолепная чувствительность к каждой мельчайшей перемене в настроении человека побуждали сопротивляющихся мужчин и женщин раскрываться и откровенно говорить о своих интимных делах.
Голос Мерседес Перальты испугал меня, — в этот раз ты действительно испортила все дело, — отчитывала она крупную женщину, которая сидела перед ней за столом. Недоверчиво встряхнув головой, она еще раз осмотрела пепел сигары, который собрала на металлическую тарелку, — ты дурачишь меня, — заявила она, поднеся тарелку к лицу женщины и призывая ее узнать в мягком, серо-зеленом порошке природу своего недуга, — на этот раз ты действительно в беде.
Покраснев от волнения, женщина суетливо озиралась, словно пытаясь найти путь к отступлению. Она надула губы совсем как ребенок.
Донья Мерседес поднялась и подошла ко мне, произнеся официальным голосом: — я прошу тебя подробно записать методы лечения этой пациентки.
Как обычно, я сначала выслушивала названия прописанных трав и цветочных эссенций и диетические ограничения. Затем я записывала подробный отчет о том, при каких обстоятельствах пациент должен принимать отвар из трав или очищающие ванны. По указанию доньи Мерседес я никогда не делала копий для себя. И наконец, по ее просьбе я несколько раз перечитывала то, что написала. Я была уверена, что донья Мерседес не только убеждает себя в том, что я правильно поняла ее, но главным образом учитывает возможность того, что пациент будет неграмотен.
С инструкцией в руке женщина встала и повернулась к алтарю. Она положила несколько банкнот под статуэтку девы, затем торжественно пообещала, что будет следовать инструкциям доньи Мерседес.
Донья Мерседес подошла к алтарю, зажгла свечу и, встав на колени, помолилась святым о том, чтобы ее мнение оказалось правильным.
Я упомянула, что знаю докторов, которые тоже очень часто молятся.
— Единственное, что объединяет хороших докторов и целителей, это терпеливое уважение к своим пациентам, — объяснила она, — они доверяются великой силе, которая ведет их. Они могут вызвать эту силу с помощью молитвы, заклинаний, табачного дыма, лекарств или хирургического скальпеля.
Она взяла копии инструкций, которые я написала в этот день и сосчитала листы, — я в самом деле осмотрела сегодня столько людей? — спросила она, по-видимому, совершенно не интересуясь моим ответом. Слабая улыбка тронула ее губы, когда она закрыла глаза и откинулась на спинку своего неказистого стула, — иди и принеси мне все твои записи о моих клиентах, кроме тех, кто рассказал тебе свою историю. Я хочу посмотреть, сколько людей я вылечила за то время, как ты появилась здесь, — она встала и прошла со мной до двери, — принеси все в патио. Я хочу, чтобы Канделярия помогла мне, — добавила она.
Почти час я собирала все мои материалы. За исключением нескольких дневников я принесла все в патио, где донья Мерседес и Канделярия уже поджидали меня.
— Это оно и есть? — спросила донья Мерседес, разглядывая стопку бумаг, которую я положила на землю перед ней.
Не ожидая моего ответа, она приказала Канделярии сложить бумаги и каталоги у металлической бочки, которая стояла в дальнем конце патио.
Сделав это, Канделярия снова села рядом со мной на циновку. Мы сидели перед доньей Мерседес, которая лежала в своем гамаке.
— Я уже говорила тебе, что ты находишься под покровительством духа моего предка, — сказала мне донья Мерседес, — прошлой ночью дух избрал тебя как медиума. А медиумы не держат записей о целительстве. Подобная мысль отвратительна.
Она встала и подошла к стопке моих бумаг. Только сейчас меня осенило, что она намерена сделать. Она разрезала бечевку переплета ножом и бросила пригоршню листьев в металлический бак. Раньше я не заметила, что внутри него горит огонь.
Пытаясь спасти хотя бы часть моей работы, я вскочила. Слова Канделярии остановили меня.
— Если ты сделаешь это, ты должна будешь уехать сейчас же, — она улыбнулась и похлопала по циновке рядом с собой.
В этот момент я поняла все. Я просто ничего не могла здесь сделать.
17.
Проработав целый день, донья Мерседес крепко заснула на своем стуле.
Я начала перебирать различные флаконы, банки и коробочки в ее стеклянном буфете. Когда я проходила на цыпочках мимо нее, она вдруг открыла глаза, медленно повернула голову, прислушиваясь к чему-то, ее ноздри затрепетали, словно нюхая воздух.
— Чуть не забыла, — сказала она, — приведи его сейчас же.
— Но там никого нет, — ответила я с абсолютной уверенностью.
Она подняла руки в беспомощном жесте, — делай то, что тебе говорят.
Не сомневаясь, что на этот раз она ошибается, я вышла из комнаты.
Было почти темно. Никого не было. С торжествующей улыбкой я уже собиралась вернуться, когда услышала слабый кашель.
Словно вызванный по велению доньи Мерседес, из сумрачного коридора вышел аккуратно одетый мужчина. У него были непропорционально длинные ноги. Плечи же, по контрасту, казались маленькими и выглядели слабыми и хрупкими. Мгновение он колебался, затем в знак приветствия поднял гроздь зеленых кокосов. В другой руке он держал мачете, — мерседес Перальта у себя? — спросил он низким, скрипучим голосом, прерванным резким кашлем.
— Она ждет тебя, — сказала я и отодвинула занавес в сторону.
У него были короткие, жесткие, вьющиеся волосы, пространство между бровями измято глубокими складками, а темное угловатое лицо приковывало к себе внимание неприступной суровостью, свирепым и безжалостным выражением глаз. Лишь кое-где в уголках его рта проступала некоторая мягкость.
Слабая улыбка медленно пробежала по его лицу, когда он приблизился к донье Мерседес. Опустив кокосы на землю и поправив на коленях брюки, он присел перед ее стулом. Он выбрал самый крупный кокос и тремя искусными ударами острого мачете срезал макушку, — они как раз такие, как тебе нравится, — сказал он, — еще мягкие и очень сладкие.
Донья Мерседес пригубила фрукт и, делая шумные глотки, заметила, как прекрасно молоко, — дай мне немного внутренности, — потребовала она, возвращая фрукт ему.
Одним ловким ударом он разделил кокос пополам, а затем отрезал сладкую желатиновую мякоть от макушки.
— Дай Музии другую половину, — сказала донья Мерседес.
Он строго посмотрел на меня, потом без слов соскоблил оставшуюся половину кокоса с той же самой тщательностью и подал ее мне. Я поблагодарила его.
— Что привело тебя сюда сегодня? — спросила донья Мерседес, прерывая неловкое молчание, — тебе нужна моя помощь?
— Да, — сказал он, доставая портсигар из своего кармана. Прикурив от зажигалки, он сделал долгую затяжку и сунул портсигар обратно в карман, — дух был прав. Проклятый кашель стал еще сильнее. Он не дает мне заснуть. У меня от него болит голова. Он не дает мне работать.
Она пригласила его сесть, но не напротив нее, где обычно сидели ее клиенты, а на стул у алтаря. Она зажгла три свечи перед девой, затем небрежно спросила о кокосовых плантациях, которыми он владел где-то на побережье.
Он медленно оглянулся и посмотрел в ее глаза. Она успокоила его кивком головы, — эта Музия помогает мне, — сказала она ему, — ты можешь говорить все, словно ее тут нет.
Его взгляд на миг остановился на мне, — мое имя Бенито Сантос, — сказал он и быстро взглянул на донью Мерседес, — как ее зовут?
— Она говорит, что ее имя Флоринда, — ответила донья Мерседес, прежде чем я смогла вставить словечко, — но я зову ее Музия.
Она внимательно осмотрела его и встала ему за спину. Медленными легкими движениями она растирала мазь на его груди и на шее почти полчаса.
— Бенито Сантос, — сказала она, поворачиваясь ко мне, — очень крепкий человек. Он приезжает время от времени повидаться со мной, причем всегда или с головной болью, или с простудой, или с кашлем. Я излечу его за пять встреч. У меня для него есть особо приготовленная мазь и молитва к духу моря.
Она вновь массировала его длительное время, — ушла головная боль? — спросила она, положив руки на плечи Бенито Сантоса.
Казалось, он не слышал ее вопроса. Его невидящий взор был направлен на мигающие свечи. Он начал говорить о море и о том, каким зловещим оно бывает на рассвете, когда солнце встает из тусклой, потерявшей блеск воды.
Монотонным шепотом он говорил о своих повседневных полуденных экскурсиях в море.
— Пеликаны кружились вокруг меня, — говорил он, — иногда они пролетали очень низко и смотрели прямо мне в глаза. Я уверен, они хотели знать, не иссякла ли моя сила.
Опустив голову он замолчал на длительное время, а потом перешел на низкий, почти неразборчивый шепот.
— В сумерки, когда солнце садится за дальние холмы и его лучи больше не ласкают воду, я слышу голос моря. Он говорит мне, что в такой-то день он умрет, но пока он жив, он неумолим. А потом я знаю, что люблю море.
Мерседес Перальта сдавила ладонями его виски, ее пальцы оплели его голову, — бенито Сантос, — сказала она, — это мужчина, который преодолел свою вину. Он стар и утомлен. Но даже сейчас он такой же безжалостный, как и море.
Бенито Сантос приходил к донье Мерседес пять дней подряд. Окончив ежедневный лечебный сеанс, она просила его рассказать мне свою историю. Он ничего не говорил в ответ, полностью игнорируя меня, — твой джип на улице?
— Спросил он, и тут же добавил, не дав мне времени на ответ: — отвези меня, пожалуйста, на кокосовую плантацию.
Мы ехали в молчании. Уже достигнув побережья, я попыталась заверить его, что он может и не выполнять просьбу доньи Мерседес.
Он решительно замотал головой, — все, о чем бы она ни просила, священно для меня, — сухо произнес он, — я просто не знаю, что говорить, вернее, как говорить об этом.
Под предлогом доставки кокосов для доньи Мерседес я посетила Бенито Сантоса много раз. Мы долго беседовали друг с другом, но он так и не потеплел ко мне. Он всегда вызывающе сверлил меня взглядом, пока я не отводила глаза. Он совершенно ясно давал мне понять, что говорит со мной только потому, что об этом его попросила Мерседес Перальта. Он, конечно же, был таким, как она и описала его, строгим и безжалостным.
***
Яростно сжимая в руке мачете, Бенито Сантос неподвижно стоял под палящим полуденным солнцем. Оно обжигало его спину, изрезанную тростником.
Сдвинув край шляпы, он пристально следил за группой усталых мужчин, бредущих в город по пустым, убранным полям сахарного тростника.
Последние день и ночь все работали без отдыха. Это был последний урожай сахарного тростника. Теперь эту землю выровняют трактора, а затем ее распродадут по частям. Владелец этих полей не выдержал. Как и все другие плантаторы, он был вынужден продать свои владения Каркасской строительной компании.
Долина превращалась в индустриальный центр. Немцы и американцы строили свои фармацевтические лаборатории. Итальянцы привезли на строительство обувной фабрики своих собственных рабочих.
— Проклятые иностранцы, — ругнулся Бенито Сантос, сплюнув на землю.
Он не мог ни писать, ни читать, у него не было профессии. Он был рубщиком сахарного тростника и знал только, как обращаться с мачете. Обтерев длинное лезвие о землю, он вошел во внутренний двор гасиенды, свернув к небольшому бунгало, где был расположен кабинет мастера. Толпа рабочих, сидящих в тени крыши, подозрительно смотрела ему вслед, когда он входил в контору.
— Что тебе надо? — спросил его маленький толстопузый мастер, сидящий за серым металлическим столом, — хочешь получить расчет? — добавил он нетерпеливо, вытирая потную шею аккуратно сложенным белым платком.
Бенито Сантос кивнул. Он был неразговорчив и большей частью груб.
Услышав, что с ним заговорили, он спросил любезно: — я слышал, что сахарный тростник повезут на фабрику в город, — пробормотал он, уставившись на массивную шею мастера, которая как тесто выпирала на воротник его накрахмаленной рубашки, — я однажды ходил на фабрику. Скажи, ты можешь нанять меня туда?
Откинувшись на стуле, мастер смотрел на Бенито Сантоса сквозь прикрытые веки, — ты живешь где-то здесь, не так ли? Как ты будешь добираться до города? До него, пожалуй, больше пятнадцати миль.
— На автобусе, — буркнул Бенито Сантос, глядя украдкой ему в глаза.
— На автобусе! — презрительно захохотал мастер, приглаживая тонкие, аккуратно подрезанные усы, — ты прекрасно знаешь, что автобус отходит только тогда, когда он полный. Ты никогда не уедешь раньше полудня.
— Уеду, — отчаянно возразил Бенито Сантос, — если ты дашь мне работу, я всегда буду приезжать вовремя. Я прошу тебя.
— Слушай, — прошипел мастер, — я нанимаю любого, кто может рубить тростник, несмотря ни на возраст, ни на опыт. Но я устанавливаю им срок. И это известно каждому, кто работает у меня шестидневку. На заводе и так людей больше, чем надо, — мастер начал перебирать бумаги на столе, — не отвлекай меня больше. Я занятый человек.
Бенито Сантос шагнул во внутренний двор, стараясь не наступать на траву, проросшую между камней. Мельница в конце двора выглядела опустевшей. Он знал, что никогда больше не увидит долину такой.
Громкий гудок грузовика отрезвил его. Он быстро шагнул в сторону, поднимая руку в просьбе подвезти его в город. Его окутало облако пыли.
— Эй, Бенито, пройдись пешком, — крикнул кто-то из машины.
Пыль осела, а он еще слышал крики и смех рабочих на грузовике. Его пальцы сдавили рукоятку мачете. Он натянул шляпу на брови, прикрыв глаза от яркого солнца и слепящей голубизны неба.
Он не пошел в город по широкой дороге. Бенито Сантос шагал по пустынным полям, узкой пыльной тропой, ведущей к южной окраине города, где находился субботний открытый рынок.
Он медленно брел по тропе, ощущая в одном башмаке дыру, а в другом хлопающую подошву, поднимавшую пыль перед ним. Время от времени он отдыхал в прохладной тени манговых деревьев, удрученно рассматривая мимолетные зеленые очертания ящериц, которые стремительно носились взад и вперед между кустов.
Было послеобеденное время, когда он наконец добрался до рынка.
Площадь бурлила людьми. Торговцы, с уже охрипшими голосами, расхваливали товар с тем же энтузиазмом, какой они проявляли и рано утром. Покупатели, в основном женщины, бесстыдно торговались за цену. Бенито Сантос проходил мимо лотков португальских фермеров, которые ломились под увядающими овощами; мимо мясных и рыбных рядов, вокруг которых роились мухи, а шелудивые собаки с бесконечным терпением дожидались кусочка мяса, упавшего на землю. Он улыбнулся, увидев наемных мальчишек, стоявших за фруктовыми лотками. Они потихоньку подкладывали гнилые фрукты в бумажные пакеты вместо тех, что выбрал покупатель.
Он позвенел монетами в своем кармане, своей шестидневной зарплатой, размышляя, купить ли ему продуктов для жены Альтаграции сейчас или немного позже, — позже, — сказал он вслух. Имелась возможность сторговаться повыгоднее под конец распродажи.
— Покупай продукты, пока у тебя еще есть деньги, — крикнула ему старая женщина, которая немного знала его, — бобы и рис не станут дешевле.
— Только женщины ждут послеобеденной торговли, — поддразнил его продавец, делая непристойный жест своим тазом.
Бенито Сантос яростно оглядел смеющиеся лица разносчиков лебанессы, стоявших за броскими лотками с рекламой дешевой одежды, поддельных драгоценностей и духов. Гнев вздул жилы на его висках, мышцы на шее напряглись. В уме вновь возник унизительный инцидент в кабинете мастера. В ушах зазвенел презрительный смех рабочих на грузовике. Мачете сверкнул в его руке. С огромным усилием он повернулся и зашагал прочь.
Холодный пот выступил на теле. Во рту было сухо. В желудке возникла неприятная дрожь, хотя он не был голоден. Надо сейчас же достать ром, решил он. Не дожидаясь прихода домой. Ему был нужен ром, чтобы рассеять гнев, рассеять его уныние, его подавленность.
Он целеустремленно направился к центральному выходу рынка, где грузовики и вьючные обозы ожидали разгрузки продуктов. Он пересек улицу и, войдя в небольшой темный магазин на углу, купил три поллитровые бутылки дешевого рома.
Он сел в тени дерева, разглядывая грузовики и ослов, стараясь не упустить момент, когда торговцы начнут расходиться. Довольно вздохнув, он прислонился к дереву и, сняв шляпу, вытер рукавом пот и пыль с изможденного лица.
Открыв бутылку, он опустошил ее одним долгим глотком. Мало-помалу ром притупил напряжение в его желудке, успокаивая боль в натруженной спине и усталых ногах. Он улыбнулся. Смутное чувство благополучия зашумело в голове. Да, задумался он, лучше сидеть здесь, наслаждаясь ромом, чем идти домой и слушать непрерывные придирки Альтаграции. Пусть он немного успокоился, но это будет больше, чем он сможет вынести.
Сквозь усталые веки Бенито Сантос разглядывал людей, собравшихся в круг возле ворот рынка. Это была толпа, которая каждую субботу приходила сюда из ближайших деревень биться об заклад на петушиных боях. Его сонный взгляд остановился на двух мужчинах, которые сидели под деревом прямо напротив него. Он совершенно не интересовался петушиными боями, однако его внимание привлекли два петуха в руках мужчин. Они отскакивали, взлетая и опускаясь, поминутно приседая на своих крепких ногах.
Странным мягким жестом мужчина взъерошил перья птиц и толкнул их друг к другу, возбуждая их боевой дух.
— Эта птица прекрасно выглядит, — сказал Бенито Сантос человеку, который держал темного петуха с золотистыми перьями.
— Так оно и есть, — охотно согласился мужчина, — после обеда ты увидишь ее в последней драке. Лучших птиц берегут для последнего боя, — гордо добавил он, разглаживая перья петуха, — ты можешь смело ставить на него. Сегодня он будет победителем.
— Ты уверен? — небрежно спросил Бенито Сантос, вынимая другую бутылку из своего бумажного пакета. Он сделал долгий глоток, затем пробрался сквозь толпу возбужденных мужчин, сидящих вокруг песочной ямы. Они отодвигались, не глядя на него. Их глаза были направлены в центр арены, где птицы сцепились в смертельной схватке.
— Ваши ставки! Джентльмены, ваши ставки! — крикнул мужчина, и его голос на миг успокоил шум толпы, — ваши ставки на последнюю драку! На настоящую драку!
Мужчина жадно меняли свои грязные банкноты на цветные фишки, которые обозначали сумму ставок.
— Ты уверен, что твой петух сегодня выиграет? — спросил Бенито Сантос владельца птицы с золотистыми перьями.
— Он уверен! — воскликнул мужчина, восторженно целуя алый гребешок.
— Боишься поставить на кон, Бенито Сантос? — спросил его один из парней, который работал с ним эту неделю, — лучше иди и купи еду для своей старухи, если не хочешь скандала сегодня вечером, — насмешливо добавил он.
Бенито Сантос сгреб фишки и без колебаний поставил все свои заработанные деньги на петуха с золотистыми перьями. Он верил, что удвоит свой капитал. Тогда он купит не только рис, но и мясо, и даже ром. А может быть даже хватит денег на то, чтобы купить сыну его первую пару башмаков.
Бенито захлестнуло волнение зрителей, он, как и все, одобрительно закричал, когда владельцы подняли своих птиц высоко над головами. Они сосали острые, смертельные шпоры на ногах петухов, доказывая, что они не отравлены. Мужчины бормотали что-то ласковое своим птицам, а затем по команде судьи положили их в центр песочной ямы.
Бойцы гневно оглядывали друг друга, но от боя пока воздерживались. На них опустили плетеные клетки. Толпа кричала, возбужденно подбадривая птиц на драку. Петухи дрожали от ярости, их оперение под бритыми, налитыми кровью шеями, распустилось.
Клетки подняли. Петухи прыгнули друг на друга, умело избегая ударов клювами и крыльями. Но вскоре они сцепились в смертельном взрыве бешеных взмахов крыльев, ударов головой и ногами. Белые перья петухов покраснели от крови из своих ран и глубоких порезов на шеях противников.
Бенито Сантос молчаливо молился за птицу, на которую он поставил. По сигналу судьи из ямы убрали петухов с открытыми клювами и тяжелым дыханием. С нарастающей тревогой Бенито Сантос смотрел на владельца птицы с золотистыми крыльями, который дул на раны. Он что-то говорил, успокаивая петуха.
По команде судьи птиц вновь поставили в центр круга. Белокрылая птица тут же совершила прицельный прыжок, запустив шпоры в шею своего противника. Ликующий крик петуха нарушил безмолвие зрителей. Петух с золотистым оперением упал замертво.
Бенито Сантос горько улыбнулся, затем захохотал, стараясь сдержать свои слезы, — по крайней мере у меня остался ром, — прошептал он, допивая остатки второй бутылки. Дрожащими пальцами он вытер подбородок и, выйдя из толпы, направился к холмам. Пустые тростниковые поля тянулись вдаль, сверкая в ярком послеполуденном солнечном свете. Желтая пыль на дороге, поднятая его башмаками, прекрасным золотым порошком оседала на его руки.
Он медленно взбирался на крутой холм. Где бы ни было дерево, он сворачивал с пути и отдыхал в его тени.
Он откупорил последнюю бутылку и сделал глоток. Ему не хотелось видеть свою жену. Он не выносил взгляда ее обвиняющих глаз. Бенито обвел глазами холмы вокруг себя, его взор остановился на зеленом откосе по другую сторону дороги. Там была ферма генерала высшего ранга из правительства.
Бенито Сантос глотнул еще. Ром наполнил его смутной надеждой.
Возможно, ему дадут работу на ферме. Он мог бы подрезать сочную, зеленую люцерну, которая выращивалась специально для лошадей. Черт! У него хватит умения! Подумал он. Бенито Сантос — рубщик тростника. Резать тростник или люцерну — какая разница. Он может даже попросить аванс. Совсем немного.
Лишь бы купить риса и бобов.
Он взбежал на холм и по недавно проложенной дороге направился к генеральской ферме. Он был так возбужден возможностью получить работу, что даже не заметил двух солдат у широко открытых ворот.
— Ты думаешь, куда идешь? — остановил его один из них, указывая винтовкой на знак у дороги, — читать умеешь? Тебе нельзя пересекать эту линию. Это частная дорога.
У Бенито Сантоса с каждым вдохом в горле росла обида. Он переводил взгляд с одного солдата на другого, затем обратился ко второму, который прислонился к крупному валуну около знака. Он выглядел постарше и казался более дружелюбным, — я отчаянно ищу работу, — прошептал он.
Солдат молча кивнул головой, его глаза остановились на жестких черных волосах Бенито Сантоса, которые вылезли сквозь порванную соломенную шляпу. Его поношенные подвернутые брюки и рубашка цвета хаки влажно липли к его высокому, исхудавшему телу, — здесь ты не получишь работы, — дружелюбно сказал он, — во всяком случае, здесь нет никого, кто мог бы нанять тебя.
— Но кто-то же должен был остаться с лошадьми, — настаивал Бенито Сантос, — я мог бы помогать ему. Хотя бы пару часов в день.
Часовые переглянулись, а затем, пожав плечами, проказливо улыбнулись.
— попроси Германа, он отвечает за лошадей, — сказал мужчина помоложе, — возможно, он поможет тебе.
На миг Бенито Сантосу показалось, что солдаты смеются над ним. Но он чувствовал себя слишком признательным за их заботу о нем. Боясь, что они могут изменить решение и прогнать его, он поспешил к холму по прямой мощеной дороге.
Он резко остановился перед генеральским домом, нерешительно рассматривая двухэтажное здание. Оно было ослепительно белым, с длинным балконом на массивных колоннах. Вместо того, чтобы окликнуть кого-нибудь, он на цыпочках подкрался к одному из окон нижнего этажа. Оно было открыто и ветерок ласково шевелил ажурную занавеску. Ему захотелось хотя бы одним глазом посмотреть на то, что было внутри. Он слышал, что роскошную мебель сюда привезли из Европы.
— Что ты здесь делаешь? — громко крикнул кто-то за его спиной.
Вздрогнув, Бенито Сантос едва не выронил бутылку. Он удивленно оглядел жилистого мужчину среднего возраста, с белокурыми, тщательно подстриженными волосами. Это наверное Герман, которого солдаты советовали повидать, подумал он, заглядывая в беспокойные глаза мужчины. Они были голубы, как небо, и свирепо сияли под нависшими бровями.
— Дай мне работу, — попросил Бенито Сантос, — какую угодно работу, — мужчина подошел поближе к Бенито Сантосу и угрожающе взглянул на него, — как ты посмел прийти сюда, пьяница? — презрительно закричал он, — убирайся прочь, пока я не спустил на тебя собак.
Взгляд Бенито Сантоса дрогнул, веки непроизвольно затрепетали. Он чувствовал себя, как нищий. Он не выносил просить о милости. Он всегда был честным тружеником. Его язык отяжелел, — хотя бы на пару часов, — он протянул свою руку так, чтобы мужчина мог видеть трещины и мозоли на его ладони, — я хороший работник. Я рубщик тростника. Я могу резать траву для лошадей.
— Пошел прочь, — закричал Герман, — ты пьян.
***
Бенито Сантос медленно брел по дороге, волоча конец мачете по земле.
Путь казался длиннее, чем обычно, протягиваясь вдаль, словно нарочно пытаясь задержать его приход домой. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить.
Монотонное жужжание насекомых создавало чувство еще большего одиночества.
Он шел вдоль сухого оврага к своей лачуге. На миг он остановился, глубоко вдыхая вечернюю свежесть и позволив ласковому ветерку остудить его покрасневшее лицо.
Сутулясь, он вошел в хижину. Здесь не было окон, лишь отверстия спереди и сзади, которые он закрывал на ночь кусками картона, подпирая их палками.
Внутри стояла удушливая жара. Его раздражали звуки трущихся о дерево веревок гамака и неровное дыхание Альтаграции. Он знал, что она кипит от гнева. Он обернулся, взглянув на сына, спящего на земле. Его прикрывали грязные лохмотья, которые едва закрывали маленькую грудь. Бенито Сантос не мог вспомнить, было ли ребенку два года или три.
Альтаграция вылезла из гамака, ее взгляд устремился к пакету в его руках. Она опустилась перед ним на колени и спросила резким, визгливым голосом: — где еда? Бенито?
— Когда я пришел туда, рынок уже закрылся, — пробормотал Бенито Сантос, перейдя от детской кровати в угол лачуги. Крепко сжимая в руке бумажный пакет, он добавил: — Мне кажется, у нас еще осталось немного бобов и риса.
— Ты прекрасно знаешь, что у нас ничего нет, — сказала Альтаграция, пытаясь схватить пакет, — у тебя хватило времени, чтобы напиться, — ее лицо с желтоватой, обвисшей кожей покраснело. Ввалившиеся, обычно безжизненные глаза засверкали в гневе и отчаянии.
Он ясно почувствовал ускоренное биение ее сердца. Ему не было перед ней оправдания. Он ничего не мог объяснить ей.
— Заткнись, женщина, — крикнул он. Он достал бутылку рома и выпил остатки, не переводя дыхание, — всю ночь я работал, рубя тростник. Я устал, — он бросил пустую бутылку в отверстие хижины, — сейчас я хочу немного тишины и покоя. Я не позволю, чтобы женщина кричала на меня.
Забери ребенка и убирайся отсюда ко всем чертям.
Альтаграция схватила его за руку, прежде чем он опустился на детскую кроватку, — дай мне денег. Я сама куплю еду. Ребенок хочет есть, — она вывернула его карман, — где деньги? — повторяла она в смятении, непонимающе разглядывая его, — ты не получил сегодня заработок? Не мог же ты пропить все деньги, полученные за шесть дней, — непристойно ругаясь, она вцепилась ему в волосы и заколотила сжатыми кулаками по его спине и груди.
Он почувствовал себя пьяным, но не от рома, а от бешенства и безнадежности. Проблеск ужаса мелькнул в ее глазах, когда он поднял свой мачете. Ее крик наполнил воздух, затем наступила тишина. Он взглянул на ее распростертую фигуру, на ее спутанную копну волос, намокшую от крови.
Кто-то дергал его за штаны. Маленький сын вцепился в его ногу с такой силой, что ему подумалось страшное. Он никогда не сможет освободиться от его объятий. Одержимый необъяснимым страхом, он попробовал освободить его хватку, но ничего не вышло. Глаза ребенка, направленные на мать, были темны, а глубоко в них бушевало все то же обвинение. Под неумолимым взором ребенка у него застучало в висках. В слепом неистовстве он поднял мачете еще раз.
Никогда в жизни он не чувствовал такого мучительного одиночества.
Никогда прежде у него не было такого ясного ума. Словно совсем из другой жизни, более многозначительной — жизни с высокой целью — он вглядывался сейчас в кошмар, которым стало его существование. Он намочил несколько тряпок в стоявшей поблизости канистре с керосином и поджег свою хижину.
Он бежал, сколько мог, затем остановился. Он неподвижно рассматривал опустошенные поля у подножия холма и далекие горы. По утрам у этих гор цвет надежды. За ними море. Он никогда не видел моря. Он только слышал, что оно огромно.
Бенито Сантос подождал, пока горы, холмы и деревья не превратились в тени. Тени, словно воспоминания о детстве. Он чувствовал, что снова шагает со своей матерью по узким улочкам деревушки среди толпы верующих за какой-то процессией в сумерках, со свечами, мигающими в темноте, — святая Мария, матерь божья, молись за наших грешников сейчас и в час их смерти.
Аминь, — его голос, подхваченный ветром, тысячью маленьких звуков окутал холмы. Он съежился от страха и вновь понесся в диком беге. Он бежал до тех пор, пока не прервалось дыхание. Он чувствовал себя втоптанным в мягкую землю. Почва поглощала его, успокаивала своей чернотой. И Бенито Сантос знал, что это последний день его бесполезной жизни. Он наконец умрет.
Он открыл глаза на звук женского плача. Это был ночной бриз, посвистывающий вокруг него. Как он хотел остаться навсегда в этой тьме! Но он знал, что теперь ничто не достанется ему легко. Он встал, поднял свой мачете и зашагал по дороге, которая вела к горам. Ясный свет струился с небес. Он струился вокруг него, он делал воздух тоньше и легче для дыхания.
Он шел в никуда. Ни на что не глядя. У него не было никаких эмоций.
Было только смутное ощущение, смутная надежда на то, что он может увидеть море.
18.
— Пришло время уезжать, — сказала мне Канделярия, — ты не должна работать по воскресеньям, — она спустила в туалет мои записанные ленты.
В это время на кухню вошла донья Мерседес. Она нахмурилась, заметив, что я еще в своем халате, — почему ты не готова? — спросила она меня.
— Я знаю, почему, — вмешалась Канделярия. Ее голос был любопытно мягким, а в глазах сверкали шаловливые блестки, — она не хочет больше забирать кокосы у Бенито Сантоса. Она боится его.
Прежде чем я успела опровергнуть ее обвинение, она вышла из комнаты.
— Это правда, Музия? — спросила донья Мерседес, наливая себе в чашку кофе, — я не замечала раньше, что ты имеешь к нему какую-то неприязнь.
Я заверила ее, что не имею. Однако я ничего не могла поделать с ощущением, что Бенито Сантос поступил со своей женой и ребенком ужасно мерзко.
— Не смотри на его историю с позиции морали и справедливости, — перебила она меня, — это история о яростном, отчаявшемся человеке.
Я запротестовала, так как была глубоко против того, чтобы рассматривать его только самого по себе. Я почти истерично заговорила об отчаянии и безнадежности женщины и ребенка.
— Брось это, Музия, — она ткнула меня своим пальцем в грудь около ключицы. Мне показалось, что она толкнула меня железным наконечником, — не давай своему ложному чувству распоряжаться собой. Не будь Музией, которая приехала из дальних стран искать здесь недостатки; пусть другие обижаются на Бенито Сантоса и на промах, который я пытаюсь показать тебе. Я хочу подставить тебя в тень тех людей, которых я выбрала для того, чтобы они рассказали тебе свои истории.
История последнего дня бесполезной жизни Бенито Сантоса подводит итог всему его существованию. Я попросила его рассказать тебе все детали, какие он вспомнит. Я также заставила тебя увидеть его кокосовую рощу у моря, чтобы ты могла проверить, как повернулось колесо случая.
Мне было трудно объяснить донье Мерседес мои чувства, не используя моральных категорий. Я не только не хотела, но и не могла помочь в этом себе. Она одарила меня все понимающей улыбкой.
— Ценность его истории, — внезапно сказала она, — заключается в том, что он без какой-либо подготовки создал для себя звено; он повернул колесо случая.
Ведьма сказала бы, что иногда одно-единственное действие может создать такое звено.
Донья Мерседес приподнялась со стула, на котором сидела и, взяв твердо мою руку, пошла из кухни в свою комнату.
У дверей она остановилась и взглянула на меня, — бенито Сантос убил свою жену и сына. Это действие повернуло колесо случая; но то, что заставило его оказаться там, где он сейчас находится — было его желание увидеть море.
Он должен был рассказать тебе, что это было смутное чувство, смутное желание, но оно было единственной вещью, которую он имел после совершения поступка, проявившегося в таком насилии и финале. Поэтому желание захватило его и повело.
Вот почему он остается верным этому желанию, оно спасло его. Он любит море. Он приезжает ко мне для того, чтобы я помогла ему сохранить его непоколебимый курс.
Я могу сделать это, ты же знаешь. Мы можем создавать свои собственные звенья одним-единственным действием. Оно не обязательно должно быть таким отчаянным и насильственным, как поступок Бенито Сантоса, но оно может стать последним. Если за этим действием следует желание огромной силы, мы иногда, подобно Бенито Сантосу, можем быть вынесены за основы морали.
Часть пятая.
19.
Наступил вечер. Донья Мерседес и я вышли из дома и пошли по улице к дому Леона Чирино. Мы неторопливо проходили мимо старых колониальных домов вблизи рыночной площади, заглядывая в открытые окна. В комнатах было темно, и все же мы могли различить тени старых женщин, которые перебирали бусинки четок, читая свои безмолвные молитвы.
Мы вышли на площадь и отдохнули на скамье в окружении стариков, сидящих на грубых деревянных стульях. Мы сидели с ними, ожидая, когда солнце исчезнет за холмами и вечерний бриз охладит воздух.
Леон Чирино жил на другой стороне города у подножия холма, усеянного хижинами. Его дом, сделанный из неоштукатуренных цементных блоков, имел большой двор и был окружен высокой стеной.
Маленькая деревянная калитка в стене была открыта, так же как и передняя дверь. Без стука и оклика мы прошли через большую гостиную и направились прямо в заднюю часть патио, которая была превращена в мастерскую.
В свете одинокой лампочки Леон Чирино шлифовал кусок дерева. Он сделал широкий жест, приглашая нас присесть на скамью недалеко от его рабочего стола.
— Я догадался, время собираться, — сказал он, отряхивая опилки со своих курчавых волос и одежды.
Я вопросительно взглянула на донью Мерседес, но она просто кивнула головой. Таинственный огонек блеснул в ее глазах, когда она обернулась к Леону Чирино. Ни слова не говоря, она встала и пошла по коридору в заднюю часть патио.
Я последовала за ней, но Леон Чирино резко остановил меня, — тебе лучше пойти со мной, — сказал он, выключая свет. Он сплюнул сквозь зубы, метко попав в цветочный горшочек в углу.
— Куда пошла донья Мерседес? — спросила я.
Он нетерпеливо пожал плечами и повел меня в противоположном направлении к узкой нише, которая отделяла гостиную от кухни. У одной из стен небольшой конторки стояла глиняная посуда с процеженной водой, около другой — холодильник.
— Хочешь одну? — он указал на бутылку с пепси.
Не дожидаясь моего ответа, он открыл ее и небрежно добавил: — донья Мерседес уверяла, что сигар будет достаточно.
— Здесь будет сеанс? — спросила я, принимая от него бутылку.
Леон Чирино включил свет в гостиной и прошел к высокому окну, выходящему на улицу. Он достал деревянный щиток и вставил его в оконную раму. Затем оглянулся через плечо. Его глаза блестели. Одна рука поглаживала подбородок. Его улыбка, слегка перекошенная, была дьявольской.
— Здесь безусловно что-то будет, — сказал он.
Потягивая пепси, я села на кушетку у окна. Отсутствие мебели делало комнату гораздо большей, чем она была на самом деле. Кроме кушетки, здесь был еще высокий шкаф, набитый книгами, снимками, бутылками, банками, чашками и стаканами. У стен рядами стояли стулья.
Что-то неразборчиво прошептав, Леон Чирино выключил свет и зажег свечи, который стояли на вырезанных полочках под образами святых, индейских вождей и черных лидеров. Стены комнаты были выкрашены охрой, — я хочу, чтобы ты сидела здесь, — попросил он, поставив два стула в центр комнаты.
— А на котором?
— На любом, который ты предпочтешь, — широко улыбаясь, он отстегнул мои ручные часы и спрятал их в карман, затем подошел к шкафу и вынул оттуда небольшую банку. Она была наполовину наполнена ртутью. В его темных руках она казалось гигантским зрачком живого чудовища.
— Я так понял, что ты вполне оперившийся медиум, — сказал он, положив банку на мои колени, — ртуть удержит духа от притяжения к тебе. Мы не хотим, чтобы он приближался к тебе. Это слишком опасно для тебя, — он подмигнул и надел на мою шею серебряное ожерелье с медалью девы, — эта медаль гарантирует покровительство, — заверил он меня.
Прикрыв глаза, он сложил свои руки в молитве. Закончив ее, он предупредил меня, что нет способа узнать, чей дух посетит нас во время сеанса, — смотри не урони банку, и ни в коем случае не снимай ожерелье, — предостерег он, устанавливая в круг стулья в центре комнаты. Он погасил все свечи, оставив только одну, ту, что горела под образом Эла Негро Мигуэля — знаменитого лидера черных, который повел рабов на первое восстание в Венесуэле. Леон Чирино прочел небольшую молитву и молча покинул комнату.
Когда он вернулся, свеча почти догорела. Посоветовав мне смотреть только на банку, он сел рядом со мной. Не в силах преодолеть любопытство, я все же несколько раз осмотрелась, особенно когда услышала шаги входящих в комнату людей и скрип стульев. В неясном свете я не могла разглядеть отдельных лиц.
Мерседес Перальта была последней, кто вошел в комнату. Она сняла свечу с полки и раздала самодельные сигары, — ни с кем не разговаривай ни до, ни после сеанса, — прошептала она в мое ухо, поднося мигающее пламя к моей сигаре, — никто, кроме Леона Чирино, не знает, что ты медиум. Медиумы очень уязвимы.
Она села напротив меня. Я закрыла глаза, раскуривая сигару так, как делала это неоднократно в патио доньи Мерседес. Я так углубилась в это действие, что потеряла счет времени. Тихий стон раздался из дымной темноты. Я открыла глаза и увидела женщину, которая материализовалась в центре круга из стульев. Это была туманная фигура. Красноватый свет медленно распространялся по ней, пока она не запылала огненным вихрем.
Манера, в которой она вела себя, ее одежда — черная юбка и блуза — знакомый наклон головы набок — все это заставило меня подумать, что передо мной стояла Мерседес Перальта. Однако чем дольше я за ней наблюдала, тем меньше была уверена в этом.
Меня заинтересовало это необъяснимое видение, которое я уже наблюдала однажды. Я взяла в руки банку с ртутью и встала со стула. Но женщина стала прозрачной. Я остановилась, прикованная к месту. В ее прозрачности не было ничего пугающего. Я просто приняла, что сквозь нее можно видеть.
Неожиданно женщина распласталась не земле темной кучей. Свет внутри нее погас. Я полностью поняла, что это не призрак, когда она вытащила платок и высморкалась.
Устав, я опустилась на свой стул. Леон Чирино, сидящий слева, подтолкнул меня локтем, показывая на центр комнаты. Там в кругу стульев, где только что находилась призрачная женщина, стояла старуха, по-видимому, иностранка. Она пристально смотрела на меня, ее голубые глаза были широко открыты, они пугали и приводили меня в замешательство. Ее голова дернулась взад, потом вперед. Но прежде чем у меня появилось какое-либо чувство относительно видения, оно угасло. Не очень быстро она растворилась в воздухе.
В комнате было так тихо, что я подумала на миг о том, что все ушли. Я потихоньку осмотрелась. Все, что я увидела, было огнями сигар. Но это были не те сигары, которые раздавала донья Мерседес, подумала я. Когда я наклонилась вперед, чтобы привлечь к себе внимание Леона Чирино, кто-то положил руку на мое плечо.
— Донья Мерседес, — воскликнула я, узнав ее прикосновение. Все еще склонив голову, я ждала, что она скажет мне что-то. Но она молчала. Я осмотрелась еще раз. Никого вокруг не было. Я была одна в комнате. Все уже ушли. Испугавшись, я вскочила и бросилась к двери, но меня остановил Леон Чирино.
— Дух Фриды Герцог бродит вокруг, — сказал он, — она умерла на ступенях этого холма.
Он подошел к окну и открыл деревянную панель. Словно призрачное видение, дым забурлил, выходя из комнаты и растворяясь в ночном воздухе.
Леон Чирино обернулся ко мне и вновь повторил, что Фрида Герцог умерла на ступенях этого холма. Он прошелся по комнате, тщательно проверяя затемненные углы; возможно, он думал, что в комнате кто-то спрятался.
— Фрида Герцог — это та старуха, которую я видела? — спросил я, — ты тоже видел ее?
Он кивнул, затем еще раз прошептал, что ее дух бродит вокруг. Он несколько раз обтер лоб рукой, будто пытаясь избавить себя от мысли или, возможно, образа устрашающей старухи.
Тишина в комнате стала невыносимой, — я лучше догоню донью Мерседес, — тихо сказала я и открыла дверь.
— Подожди! — Леон Чирино бросился вперед и схватил меня за руку. Он снял с меня серебряное ожерелье и взял из моей руки банку с ртутью, — во время сеанса хронологическое время прекращается, — прошептал он медленно и устало, — спиритуальное время — это время равновесия, это и не действительность, и не сон. Но это время существует в пространстве, — он намекнул, что я была отброшена в событие, которое произошло много лет назад, — прошлое — это не последовательность событий во времени, — продолжал он, — сегодняшний день может стать днем вчерашним или событием давно минувших лет, — он застегнул на моем запястье часы, — но лучше не говорить о таких вещах. То, что случается, является неопределенным и неуловимым, и
|
|
Комментарии
|
|
|
|
Новости
Мужчины в первую очередь ценят в женщинах:
|
| |
Внешние данные |
  -» 45.64%
(335)
-» 45.64%
(335)
|
 |
| |
Личностные качества |
  -» 24.39%
(179)
-» 24.39%
(179)
|
 |
| |
Согласие на секс |
  -» 16.89%
(124)
-» 16.89%
(124)
|
 |
| |
Ум |
  -» 9.67%
(71)
-» 9.67%
(71)
|
 |
| |
Деловые качества |
  -» 3.41%
(25)
-» 3.41%
(25)
|
 |
|
|
Всего проголосовало:
734
|
|
Другие опросы
|
|
|
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.