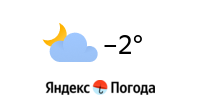БЫТИЕ-В-МИРЕ
Автор: Л. Бинсвангер
Л. Бинсвангер БЫТИЕ-В-МИРЕ
Избранные статьи с приложением Я. Нидлмена
КРИТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНЕ
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ
Л. БИНСВАНГЕРА
Рефл-Бук
Ваклер
1999
УДК 159.9.019
Ответственный редактор — С.Н. Иващенко Научный редактор — канд.псих.наук Н.Ф. Калина
Перевод —
В. Хомик, канд. фил. наук М.А. Собуцкий (греч., лат., фр.)
В оформлении обложки использована
картина A.B. Блудова "Знаки", 1993
Перепечатка отдельных глав и произведения в целом
без письменного разрешения издательств «Рефл-бук» или «Ваклер» запрещена и преследуется по закону.
ISBN 5-87983-027-6, серия © Оформление, серия, издательство
ISBN 5-87983-079-9 («Рефл-бук») «Рефл-бук», 1999 ISBN 966-543-047-5 («Ваклер») © Перевод, издательство «Ваклер»,
1999
Содержание
Н. Ф. Калина. Первая книга о dasein-анализе_______________7
Я. Нидлмен. Введение__________________________________11
ЛЮДВИГ БИНСВАНГЕР. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ__________17
Фрейд и его концепция человека в свете антропологии________19
Идея Homo Natura_______________________________________20
Развитие идеи Homo Natura в естественнонаучную теорию и ее значение для медицинской психологии__________________________________________________25
Идея Homo natura в свете антропологии________________________36
Фрейд и Великая хартия клинической психиатрии_________________53
Аналитика существования Хаидеггера и ее значение для психиатрии__79
Сновидение и существование____________________________________95
Шизофрения: введение__________________________________________121
История болезни Лолы Восс______________________________________137
Экзистенциальный анализ_________________________________________153
Клинический анализ психопатологии_______________________________193
Экстравагантность (Verstiegenheit)__________________________________211
Я. НИДЕЛМЕН. КРИТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ
ЛЮДВИГА БИНСВАНГЕРА_______________________________________221
Предисловие
Понятие экзистенциального а prior______________________________994
Систематическое объяснение и наука психоанализа________________243
Символ в психоанализе и dasein-анализе__________________________264
Бессознательное__________________________________________983
Психопатология__________________________________________987
Dasein в качестве конститутивного:
Бинсвангер, Хайдеггер, Сартр______________________________312
Заключение________________________________________________397
Первая книга о dasein-анализе
Можно не только радоваться, но даже и привыкать к тому, что пространство психотерапии в нашей стране все время расширяется. Особенно бурно прогрессирует знакомство отечественных психологов с трудами классиков — только за три последних года вышли переводы работ А.Адлера, Р.Мэя, Ж.Лакана, К.Хорни, А.Лоуэна, Г.С.Салливана, А.Брилла, Э.Ноймана, Дж.Хиллмана, Я.Кемпинского, В.Райха и многих других. Большинство авторов представлены не одной, а двумя-тремя книгами, что позволяет составить достаточно подробное представление об их теориях и методах практической работы.
В этом ряду, наконец, появилась книга основоположника Dasein-анализа Людвига Бинсвангера (1881 —1966). До сих пор представление об этом крупнейшем психологе и мыслителе XX столетия можно было почерпнуть всего из нескольких публикаций (см., например, статью О.Никифорова в журнале "Логос" № 3 за 1992 г., там же — переписку Бинсвангера с С.Л.Франком, а также "Логос" №1 за 1998 г.), справочников и учебных пособий. И вот перед нами книга, включающая, помимо статей самого основоположника экзистенциальной психиатрии, теоретический анализ его концепции, выполненный Якобом Нидлменом. Предмет, о котором пишет Нидлмен, — это, главным образом, бинсвангеровская метапсихология, оказавшая определяющее влияние на практику психологической помощи, называемую Ј)ада/и-аналитикой.
Неординарная по своим задачам и результатам попытка соотнести бинсвангеровские представления о человеческом существовании с идеями классической рациональности (Кант, Гегель), психоанализа (Фрейд) и экзистенциализма (Сартр) позволяет читателю более четко представить себе место Dase/я-анализа в ряду родственных и альтернативных ему психотерапевтических концепций. Кроме того, поскольку /)а5е/«-анализ Бинсвангера в наиболее общем смысле можно рассматривать как применение Dase/я-аналитики Хайдеггера к проблемам психиатрической теории и терапии, Я.Нидлмен анализирует принципы феноменологического подхода к исследованию явлений душевной и духовной жизни человека.
Понимая жизнь как целостный конкретный феномен в единстве прошлого, настоящего и будущего (Dasein, здесь-бытие, бытие-в-мире), Бинсвангер описывает исследуемые явления в их уникальном и полном личностном содержании и внутреннем контексте. Допуская, что рассудок конституирует объекты опыта даже в случае глубокого эмоционального переживания, он задается вопросом: как человек в целом относится в этот момент к объектам, конституируемым таким образом? Чувство для Бинсвангера является таким же подлинным опытом, как и все другое, и не в том смысле, что любовь к кому-то —это объективный и истинный опыт любви, но скорее, что любовь к кому-то — это подлинный опыт того человека, которого любишь. Видение Бога —это истинный опыт; таковым же является и страх скорой смерти; таковым же является параноидальный страх преследования со стороны населения целого города.
Такая точка зрения позволяет сформулировать принципиально новое понимание психических расстройств (неврозов и психозов). Для экзистенциальной психиатрии лечение болезни неотделимо от ее понимания, а понять сущность, феномен, идею или опыт, по Бинсвангеру — значит "подойти к объекту понимания на его языке, увидеть в нем структуры, возникающие из него самого, а не из нас. Понять объект —значит участвовать в нем, пока он не откроет свою сущность понимающему". Непосредственность и неизбежность экзистенциальной ситуации присутствует в Dasein -анализе каждого из конкретных случаев, составляющих, может быть, самую интересную часть этой книги..
Читая их, убеждаешься в том, что бинсвангеровская психиатрия прежде всего — один из видов аналитической терапии. Dasein-анапиз расширяет "смысловой горизонт" личности, благодаря чему возможно осознание вытесненного. В этом его существенное отличие от классической парадигмы, основанной на многократных интерпретациях и их проработке. Интерпретации аналитика сопровождаются и дополняются расширением субъективного смыслового пространства пациента, поэтому понимание в Ztoe/w-анализе часто оказывается более полным, а терапевтических эффект — более глубоким. Кроме того, понятие бессознательного у Бинсвангера —часть структуры мира, как он представляется самому индивиду, поскольку у бессознательного нет мира.
Важная в Dasein-анализе категория экзистенциального a priori фиксирует представление о бытийной основе трансцендентального горизонта опыта индивида. У Бинсвангера это — фундамент, на котором зиждется субъективная реальность индивидуального жизненного мира. "Экзистенциальное a priori делает возможным воздействие прошлого на настоящее; отношение личности в настоящем к своему прошлому само по себе определяется не прошлым, но горизонтом, внутри которого происходит опыт и настоящего, и прошлого" —пишет ученый. Необычным для психиатрии в целом и отечественной традиции клинической психологии является то, что .Осие/й-анализ видит свою задачу в исследовании личности и ее мира еще до всякого разделения на болезнь и здоровье. Бинсвангер рассматривает любою форму психических нарушений как своеобразное "сужение", мира, в котором осуществляется экзистенция личности. Психическое заболевание возникает как модификация фундаментальной или сущностной структуры Dasein, как метаморфоза бытия-в-мире. При неврозе или психозе, говорит он, "экзистенция руководствуется только одной или несколькими категориями. В значении-матрице, внутри которой феномены возникают и соотносятся с Dasein, внутри которой конституируются самость и мир, преобладает (в крайних случаях) только одна тема. Это можно выразить, сказав, что здесь есть только одно экзистенциальное a priori".
Психическое заболевание — вид ловушки, которая возникает вследствие экзистенциальной несвободы личности При этом Dasein не может свободно позволить миру быть, и человек все больше попадает под влияние единичного мироустройства, которое владеет им и подавляет его. Бинсвангер называет такое состояние заброшенностью, используя его как технический термин для патологического чувства "бытия-под-влиянием". Главным Dasein-аналитическим критерием психического заболевания является степень, в которой свобода Dasein подчинена власти чего-то еще. У психотика такое подчинение практически тотально, а невротик чувствует себя пойманным в сеть, спутанным по рукам и ногам и неспособным освободиться. Бинсвангер пишет: "Dasein больше не распространяется в будущее, не опережает себя, он скорее вращается по узкому кругу, в который он заброшен, в бессмысленном, а значит в без-будущном и бесплодном повторении самого себя".
Из работ Бинсвангера читатель может почерпнуть не только представления о патологии психического развития и личностного роста, но и неортодоксальное понимание того, что принято называть нормой и здоровьем. Здоровое существование основано
на множестве экзистенциальных а priori, экзистенциальной свободе выбора способа жизнеосуществления. Разнообразное сплетение значений здоровья представляет свободу и силу Dasein, создает условия для приобретения нового опыта и переживания смысла и ценности бытия-в-мире —как своего собственного, так и других людей. Безусловно, перевод и издание настоящей книги очень своевременны. В современном постсоветском обществе и государстве Dцse/я-анализ — хорошее подспорье для всех, кто, подобно всем нам, посетил сей мир в его минуты роковые
Н.Ф.Кашна
Якоб Нидлмен Введение
В работе "Фрейд и Великая хартия клинической психиатрии" Людвиг Бинсвангер пишет:
Сентябрьским утром 1927 года, вырвавшись с заседания конгресса немецких невропатологов и психиатров, проходившего в Вене, я поспешил к Фрейду, поселившемуся близ Земмеринга, чтобы наконец-то ответить на его незабываемый визит ко мне в трудный период моей жизни. Когда я уже собирался уходить, мы заговорили о былых временах. Вскоре, однако, разговор перешел к тому, что двадцатью годами ранее свело и, несмотря на значительные расхождения во взглядах, сблизило нас — к делу всей его жизни, к его "великой идее".
Взяв в качестве конкретного клинического примера случай тяжелого обсессивного невроза, который весьма занимал нас обоих, я поднял вопрос о том, как следует понимать неспособность таких пациентов предпринять последний решительный шаг к психоаналитическому инсайту, которого от них ожидает врач, вместо чего они продолжают упорствовать в своих страданиях, вопреки всем усилиям и уже достигнутому прогрессу. Пытаясь ответить на этот вопрос, я предположил, что такую неспособность можно истолковать как следствие того, что иначе как "отсутствием духа" не назовешь, то есть следствие неспособности пациента подняться до уровня "духовного общения" с врачом. Я заметил, что лишь на основе такого общения они могут постичь то самое "бессознательное инстинктивное побуждение", о котором идет речь, а значит — предпринять последний решительный шаг к достижению самообладания. Услышав слова Фрейда: "Да, дух — это все", — я едва поверил своим ушам и подумал, что под духом Фрейд подразумевает что-то вроде разума. Но он продолжал: " Человечество всегда знало, что обладает духом; я должен был показать ему, что существуют еще и инстинкты. Но людям свойственна постоянная неудовлетворенность, они не могут ждать, они всегда хотят все целиком и в готовом виде; однако каждому человеку приходится с чего-то начинать и лишь постепенно продвигаться вперед". Воодушевленный этими словами я решился на большее и объяснил, что оказался перед необходимостью признать в человеке нечто, подобное базисной религиозной категории; во всяком случае, допущение насчет того, что "религиозное" — это явление, производное от чего-то другого, для меня неприемлемо. (Конечно же, я имел в виду не происхождение какой-нибудь конкретной религии и даже не религию в целом, а то, что я впоследствии стал называть религиозными отношением "я—ты".)
Но я зашел слишком далеко и почувствовал, что здесь наши взгляды расходятся. "Религия берет начало в беспомощности и тревоге детства и юности. И не иначе", — резко возразил Фрейд. С этими словами он подошел к своему письменному столу и сказал: "Пришло время показать вам кое-что". Он положил передо мной законченную рукопись, озаглавленную "Будущее одной иллюзии", и взглянул на меня с улыбкой, таящей вопрос. Из общей направленности нашей беседы я легко догадался, что означает заглавие рукописи. Подошло время уходить. Фрейд провел меня до двери. И напоследок, тонко и слегка иронично улыбаясь, сказал: "Сожалею, что не могу удовлетворить ваши религиозные потребности"1.
Это воспоминание Бинсвангера заслуживает внимания не только потому, что указывает на расхождения в отношении к религии Фрейда и Бинсвангера. Более примечательно то, что оно выражает ориентацию на человека в психиатрии, а это и было тем решающим фактором, который провел черту между Dasein -анализом и психоанализом. В том же 1927 году выходит "Бытие и время" Хайдеггера —именно эта книга стала для Бинсвангера источником терминологии и концептуальных методов, необходимых для артикуляции его подхода к психиатрии. Его первая большая работа, испытавшая на себе влияние Хайдеггера, появилась как серия статей под заглавием "О полете идей" ("Ьber Ideenilucht") в Швейцарском архиве неврологии и психиатрии в период с 1931 по 1933 год. Сказанные Фрейдом слова: "Человечество всегда знало, что обладает духом; я должен был показать ему, что существуют еще и инстинкты," без сомнения, имели прямое отношение к написанному Бинсвангером заключению к серии статей:
Дух (в самом широком понимании, не в смысле только религиозности, этики или эстетики) и инстинкт — это ограниченные понятия —ввиду того, что "инстинкты" остаются в качестве осадка, когда человек рассматривается как лишенный духа, и дух остается, когда человек полностью девитализируется. Но бытие человека никогда не происходит только как дух или инстинкт —это всегда и то, и другое. Только теоретически или абстрактно можно разъединить дух и инстинкт... Если Ницше и психоанализ показали, что инстинктивность, особенно в форме сексуальности, распространяет свое влияние до высочайших вершин человеческой духовности, то мы пытаемся показать, в какой степени духовность простирается до глубин "витальности". Иначе говоря, мы хотим продемонстрировать, как должно говорить о религиозной, моральной и эстетической жизни в тех сферах человеческого бытия, в которых, как нам казалось до сих пор, доминирует витальная или инстинктивная жизнь. Мы говорим о религиозности, моральности и эстетике не только там, где человек достиг чистого само-осознания устойчивой независимой самости, но во всех тех случаях, где самость — постоянная, устойчивая или любая другая — интендирует объект (Gegenstand), который противопоставлен ей. Разве этого недостаточно для прояснения такого термина, как "бессознательный" дух?2
Хотя Бинсвангер оценивал это упрощение как необходимую плату за силу научного объяснения, в то же самое время он считал, что научная психология и психиатрия должны основываться на дисциплине, рассматривающей онтологическую проблему бытия человека вообще. Лишь тогда исследуемый предмет может сохранить свою целостность, а наука будет продвигаться вперед.
В 1936 году Бинсвангер написал работу, посвященную 80-й годовщине со дня рождения Фрейда. Эта работа, озаглавленная "Фрейд и его концепция человека в свете антропологии", описывает то, в какой степени психоанализ как учение о homo natura*, упрощает и сужает всю реальность жизни человека.
Бинсвангер послал копию текста лекции Фрейду —тот ответил теплым и занимательным подтверждением собственной позиции:
Дорогой друг!
Каким приятным сюрпризом стала для меня Ваша лекция!
Читая ее, я наслаждался Вашей прекрасной прозой, Вашей эрудицией, широтой Ваших горизонтов, Вашей тактичностью при расхождении во мнениях. Действительно, она выше всякой похвалы.
Но я, конечно же, не верю ни одному слову, сказанному Вами. Я всегда жил только в партере и подвале дома. Вы утверждаете, что, сменив точку обзора, человек может увидеть и верхний этаж, вмещающий таких высоких гостей, как религия, искусство и т.п. Вы не одиноки в своих взглядах, большая часть образованных представителей homo natura верят в это. В этом Вы консерватор, а я революционер. Если бы в моем распоряжении была еще одна жизнь для работы, то я, вне всякого сом-
* Человек природный (лат.). — Прим. ред.
нения, смог бы отыскать место для этих благородных гостей в своем маленьком подземном домике3.
Если бы Фрейд был жив сегодня и мог воочию наблюдать развитие Dasein-анализа Бинсвангера, то у него, несомненно, нашлись бы более веские возражения против этого религиозного движения назад к "духу". Но оправданно ли было бы с его стороны отвергать как реакционную ту школу мысли, что искренне признает его открытия и без них не смогла бы даже возникнуть? Dasein-анализ, несомненно, пытается восстановить дух в психиатрической науке, но такое понимание духа могло появиться только после Фрейда. "Присущая человеку свобода" больше уже не представляется обособленной от его соучастия в материи и теле; наука уже не борется против свободы и духа. Скорее, наука воспринимается духом как движение духа, а инстинктивность, обнаруживаемая наукой в человеке, одобряется как человеческая инстинктивность. Бинсвангер не ищет сфер человеческого существования, которые оспаривали бы способность психоанализа объяснять. Он просто задает кантианский вопрос: "Что в человеке позволяет психоанализу объяснить его существование?" Поэтому, когда Бинсвангер жалуется на редукционизм естественной науки применительно к человеку, он не ставит под сомнение способность науки объяснять — скорее, он побуждает к тому, чтобы поясняемое учитывалось во всей полноте его феноменологической реальности. Он не говорит науке: "Ты не можешь объяснить дух человека"; он говорит: "Будь уверена, ты объясняешь дух человека!"
Называем ли мы этим "духом" сознание, свободу или разум, в науке о духе всегда наступает момент, когда мы оказываемся перед противоречием или несоответствием. К примеру, вопрос о происхождении сознания, как у человечества, так и у младенца, имеет два возможных ответа, ни один из которых не является удовлетворительным. При приближении к сознанию нас как бы заставляют выбирать между непостижимым прыжком в природу и низведением сознания до уровня органической природы, когда с нечистой совестью нам приходится утверждать, что "ничего по-настоящему нового" не появилось. Здесь, как и в случае кантианских противоречий, первая альтернатива "слишком широка", а вторая — "слишком узка". Возможно, тут необходима новая коперниканская революция, которая, не занимая сторону ни одной из альтернатив, подрывала бы законность самого вопроса.
Противоречия, парадоксы, дилеммы и тупики, вытекающие из разделения сознания и его мира, в психологии впервые были отмечены современником Фрейда —философом Францем Брен-тано. Его доктрину интенциональности как определяющей сущность сознания можно считать первым шагом в новой коперникан-ской революции. Главный ученик Брентано, Эдмунд Гуссерль, расширил и развил представления своего учителя, заложив основу нового метода философии. Сознание теперь понималось как сознание чего-то, как чистое отношение к чему-то. Оно уже не считалось странной и беспрецедентной вещью или процессом, течение которого до некоторой степени озадачивало больше, чем таковое соседствующих с ним объектов, вещей этого мира. Не было оно и отдаленным наблюдателем, посторонним и самодостаточным, существующим на земле, подобно призраку. Сознание стало "тем, чем намеревалось быть", оно стало "направляющимся к чему-то". Гуссерль пишет:
"Мы должны убедиться в том, что, в психологическом смысле, психическое в целом, психические формы личности, психические свойства, переживания или состояния представляют собой эмпирические единицы и поэтому, как реалии всевозможного рода и степени, являются простыми единицами интенциональной "конституции" — истинно существующими в их собственном смысле [Wahrhaft seiend]: интуитивно постижимыми, переживаемыми и научно определимыми на эмпирической основе —и вместе с тем "просто интенционалъ-ными" и поэтому лишь "относительными"4.
Это был всего лишь шаг —с точки зрения Гуссерля, возможно, необоснованный — от представления о сознании как интенциональности к концепции Хайдеггера о существенно человеческом бытии-в-мире {Dasein). Хайдеггер говорит не о сознании, а о человеческом сознании; более того, не изолированном от всего остального человеческого, а о человеческом бытии. Так же, как сознание для Гуссерля было его интенцией, таким же является и человек в своем мире. Хайдеггер стремится вернуть человека из картезианского ухода в свой мир, демонстрируя, каким образом он (человек) в контексте заботы формирует бытие своего мира и свое я. Гуссерль говорил, что "все бытие мира заключается в определенном 'значении', предполагающем абсолютное сознание как сферу, из которой выводится это значение..."5 Однако он добавлял: "Но мы должны отметить, что не намеревались представлять детальную теорию такого трансцендентального построения и составлять в ее рамках набросок новой Теории Познания сфер действительности, сформированных подобным образом..."6 Но с Хайдеггером новая коперниканская революция завершилась. Отодвинув гуссерлевский груз "в рамках" феноменологических границ назад, Хайдеггер попытался найти новую онтологию, основанную на том, что человек представляет собой бытие-в-мире. Так же, как Кант разместил источник очевидной истины в человеке, так Хайдеггер расположил в человеке начало значения в целом, а, следовательно, и Бытия.
Бинсвангер использовал хайдеггеровский анализ структуры человеческого бытия, которое по существу является бытием-в-мире и формирует посредством этого мир и личность, как инструмент для понимания существования своих пациентов. Он видел, что наука как человеческое устремление формирует свой мир так, как она понимает его. К тому же, он видел, что, когда психология как наука сосредоточивает свои методы на собственном источнике, человеческом существовании, она навлекает на свою голову все парадоксы разделения субъекта и объекта, сознания и вещи, человека и мира. Заявляя, что каждый индивид представляет собой собственный уникальный мир, он требовал вхождения в него без всяких допущений в качестве предварительного условия для объяснения. Утверждая, что продемонстрированный Фрейдом мир и человеческая реальность, которые удерживают человеческий дух в своей власти, сами зависят от этого духа, Бинсвангер указал путь к просвещенному антропоцентризму, основывающемуся у Фрейда на сдерживающем осознании пределов и ограниченности.
ПРИМЕЧАНИЯ
Избранные статьи Людвига Бинсвангера
1 Binswanger, Ausgewдhlte Vortrдge und Aufsдtze, Bd. II (Bern, 1955), S. 81-82.
2 Binswanger, "Ober Ideenflucht", Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie, Bd. 30 (1932 —1933), S. 75-76.
3 Ludwig Binswanger, Erinnerungen an Sigmund Freud (Bern, 1956), S. 115.
4 Edmund Husserl, Ideas, trans, by W.R.Boyce Gibson (London, 1952), pp. 167-168.
5 Ibid., p. 169.
6 Loc. dt.
Фрейд и его концепция человека в свете антропологии*
Чтобы за короткое время понять сущность научной работы, проведенной на протяжении долгой жизни, полной усилий и труда, необходимо углубиться в ее истоки, во вдохновившую ее Идею. Идея, стоящая за научной работой, сочетает в себе единственные в своем роде личностно-психологические и культурно-исторические условия, которые сделали ее возможной вместе с той непреходящей миссией, какую она должна выполнить в мире и для мира, а именно: служение Истине. Секрет продуктивности заключается в идее. Ее задачей является не что иное, как (если обратиться к глубочайшему высказыванию Гете) выполнение божественной миссии быть продуктивной.
* Касательно использования Бинсвангером термина "антропология": в Existence (R.May et al„ eds., p. 191) отмечалось, что "Бинсвангер употребляет это слово не в его обычном американском значении, которому отвечает культурная антропология, сравнительное изучение рас, обычаев и т.п., а скорее в его более строгом этимологическом смысле, то есть антропология как наука о человеке и особенно... как наука об основном смысле и отличительный чертах бытия человеком". Вероятно, наилучшую характеристику того, что Бинсвангер понимает под этим словом, дает Хайдеггер: "'Антропология' — это наука о человеке. Она охватывает всю информацию, которая может быть получена о природе человека как состоящего из тела, души и духа. Сфера антропологии включает не только определенные, поддающиеся проверке свойства, отличающие человека от растений и животных, но и его скрытые способности, расовые и половые отличия и особенности характера. И поскольку человек — это не только естественное существо (homo naьira), но и существо, которое действует и создает, антропология должна стремиться узнать, как человек в качестве активного существа должен "понимать себя". Его способности и обязательства в конечном итоге зависят от некоторых фундаментальных установок, которые человек как таковой всегда способен усвоить. Эти установки называются Weltanschauungen, и их "психология" включает всю науку о человеке. Так как антропология должна рассматривать человека в его соматическом, биологическом и психологическом аспектах, то и ней должны сводиться воедино результаты таких дисциплин, как: характерология, психоанализ, этнология, педагогическая психология, морфология культуры и типология Weltanschauungen"'. (М.Хайдеггер, "Кант и проблемы метафизики"). Хайдеггер предполагает, что антропология, как он себе ее представляет, должна основываться на онтологии. Бинсвангер, конечно, с этим соглашается и его антропология сама основывается на онтологии Хайдеггера. — Прим. изд.
Идея Homo Natura
Идея, определявшая неиссякаемую производительность человека, вспоминаемая сейчас нами с уважением и благодарностью, идея, в реализации которой он видел свою миссию, возникла из концепции человека, концепции диаметрально противоположной тысячелетней традиции. Сущность человека для Фрейда — это не homo aeternus или coelestis, и не "универсальный" исторический человек, homo universalis; как раз наоборот. В действительности современная онтолого-антропологическая концепция человека как, в полном смысле, существа исторического, homo existentialis*, в равной мере противоположна точке зрения Фрейда. Фрейд скорее предполагает научную концепцию homo natura, человека как естества.
Продуктивная идея отражает свою божественную миссию в том, что ею движет особая вера, вера в способность открыть нечто, касающееся реальности существования, и соответствующим образом формировать мир. Свою силу в этой вере черпают не только религиозные, художественные и моральные идеи, но и сама идея о том, что жизнь —это нечто, требующее обдумывания, требующее, чтобы его выстояли и выстрадали ради него самого. Ученый, как правило, склонен отрицать, что крылья его идеям придает вера, но Фрейд является исключением. Свой символ веры он излагает в одном из тех многочисленных мест в своих работах, которые обязаны явной силой мощи и выразительности его Идее: "Мы верим, — говорит он в "Будущем одной иллюзии", — что научное устремление может прийти к знанию чего-то из реальности мира, чего-то, способного увеличить нашу силу, чему мы соответственно можем посвящать свои жизни"1. Каждая поистине продуктивная вера содержит mysterium tremen-dum, элемент благоговейного изумления, даже ужаса, перед необъятным неизвестным. Я говорю о том неизвестном, что связывает homo natura Фрейда с первичным источником всей жизни и что более, чем какая-либо другая биологическая концепция человека, выделяет и характеризует Фрейда, то есть об инстинктах. "Мы всегда чувствовали, —все еще продолжает писать он в свои семьдесят шесть лет, — что за этими многочисленными маленькими инстинктами скрывается нечто серьезное и могущественное, нечто, к чему следует подходить с осторожностью. Теория инстинктов является нашей мифологией; инстинкты —
* Человек существующий (лат.). — Прим. ред.
это удивительно туманные мифические сущности. В своей работе мы ни на мгновение не можем отвести от них взгляда, и в то же самое время никогда не видим их отчетливо"2.
Здесь мы наблюдаем благоговейный трепет естествоиспытателя перед серьезностью и силой жизни и неминуемой смертью, благоговейный трепет перед жизнью, в которой, как считал Фрейд, "мы все тяжело страдаем"3. Эти страдания не влекут за собой ни возмещения, ни утешения: терпимость по отношению к ним остается "первейшим долгом всех живых существ"*.
Исполнить этот долг можно, только подготовив себя к смерти: "Si vis vitam, para mortem", ибо жизнь становится "менее невыносимой" лишь в том случае, если мы придаем правдивости больший вес, особенно правдивости перед лицом смерти: "То, что мучительно, может быть правдой"4. В правдивости Фрейд видел истинное осознание человеком своего положения. Ничто в человеке — будь то друг, враг или даже человечество в целом — не вызывало в нем большего раздражения, чем жизнь не по средствам в "психологическом" смысле5, превращающая психическую нужду в психическую роскошь, фактический недостаток в кажущуюся добродетель. В этом Фрейд, подобно Ницше, видел проявления индивидуального и культурного лицемерия. Свою уникальную миссию он выполнял не менее радикально и страстно, чем Ницше, но вместо убийственных, афористичных выпадов он систематически, эмпирически и научно разрабатывал гигантскую структуру своей методики срывания маски и первым сорвал покров с загадки сфинкса, известной как невроз. На вопрос: "Что это?" — он дает неизменный ответ: человек. Таким образом, к главной теме Фрейда "жизни и смерти" добавляется и даже рождается из нее тема "истинного и ложного" как олицетворение главной темы самого человечества, темы "добра и зла". Для Фрейда — это противоположные полюса, скорее модифицирующие, чем исключающие друг друга. То, о чем Фрейд говорит в работе "По ту сторону принципа удовольствия" как о прочном и тесном союзе жизни и смерти, означает (несомненно, с известной оговоркой) единение добра и зла. Он видел зло как необходимую предпосылку существования добра; в желании "садиста" уничтожать он видел необходимую предпо-
* S.Freud, Gesammelte Schriften, X, 345 f. Ср.: XII, 114: "Поэтому я не отваживаюсь стать перед своими собратьями в качестве пророка, а склоняюсь перед упреком в том, что не могу предложить никакого утешения. Ибо по сути дела именно этого все требуют — самые пылкие революционеры не менее страстно, чем самые благочестивые верующие".
сылку альтруизма и культуры; в ненависти — предпосылку любви; во враждебности — дружбы; в печали — радости и т.п. Но его доктрина никогда не допускает изменения этого отношения на обратное.
Относительно положительного значения зла, зла, рассматривающегося как активная онтологическая сила, позиция Фрейда прямо противоположна таковой Августина и Фихте, которые понимают зло только как ограничивающее и негативное. В своих взглядах он ближе к Якобу Беме, Францу фон Баадеру и Шеллингу (вспоминается также "Мефистофель" Гете и Ницше). В действительности работу Фрейда можно должным образом оценить только после сравнения ее с теми доктринами, что проповедуют двойственность жизненных принципов и вытекающую из нее борьбу между развитием и его ограничением. Тогда становится ясно, что, при всем их сходстве в точке зрения относительно фундаментального соучастия человека в антагонистических силах креативности, идея homo natura Фрейда обнаруживает принципиальное расхождение. Я имею в виду не просто различие в методе, например, между философскими дедукциями Шеллинга из метафизических потенций и научным умозаключением Фрейда из жизненного опыта — двумя интеллектуальными ориентациями, которые, более того, согласно интуициям Гераклита по поводу пути вверх и пути вниз, в конечном итоге должны вести к гармоничному схождению. Скорее я думаю о том, каким образом эти философы видят добро и зло как действенные онтологические силы, о том, чего ^никогда не скажешь о Фрейде.
Здесь мы оказываемся перед фактом огромнейшего значения: доктрина Фрейда диаметрально противоположна учениям Августина и Фихте в том, что в ней "добро", нравственное —это лишь негативная, то есть ограничивающая, сужающая, обвинительная и угнетающая сила, не имеющая никакой позитивной, то есть освобождающей или творческой действенности*.
* Согласно Фрейду, примитивные инстинктивные импульсы "сами по себе не являются ни плохими, ни хорошими". Однако ему приходится признать, что все импульсы, осуждаемые обществом как дурные, относятся к этому примитивному типу. В добавок, многие инстинктивные импульсы почти с самого начала находят выражение в парах противоположностей, и человек редко бывает полностью "хорошим" или "плохим". Во всяком случае, опыт показывает, что "предшествование мощных "плохих" импульсов в раннем детстве часто служит фактическим условием для очевидной склонности к "хорошим" в зрелом возрасте". S.Freud, Gesammelte Schriften (Vienna, 1924 — 1934), X, 323 f.
Все "превращения эгоистичных инстинктов в социальные", а следовательно, все изменения дурных побуждений в хорошие побуждения и наклонности происходят, согласно Фрейду, по принуждению. "Первоначально, то есть в человеческой истории [такие трансформации происходили] только в условиях внешнего принуждения, но они [происходили] благодаря привнесению в мир наследственной предрасположенности к таким трансформациям, а также благодаря их сохранению и укреплению "в течение жизни отдельного индивида""6. Действительно, все это "развитие" принимает направленность, в которой интро-ецируется внешнее принуждение, полностью усвоенное в случае суперэго. Как мы знаем, эта трансформация происходит "посредством добавления эротических компонентов": "мы узнаем, что быть любимым — это преимущество, благодаря которому мы можем обойтись без других преимуществ"7. Таким образом, "посредством самоотречения от инстинктивных удовлетворений, при содействии каждого нового совершенствования, служащего целям этого самоотречения"8, развивается культура.
Все это характеризует чистый образчик homo natura: соматические инстинкты, получение удовольствия (жертвование меньшим ради большего), сдерживание по причине принуждения или давления со стороны общества (прототипом является семья), эволюционная история в смысле онтогенетических и филогенетических трансформаций внешних требований во внутренние и наследование этих трансформаций. (Здесь я вынужден обойти вниманием некоторые детали этой теории, такие как постулат наследования приобретенных особенностей и понятие интроекции внешнего принуждения. Подобные умозаключения минуют проблемы этики и морали, не разрешая их, поднимают сложные вопросы сведения историчности к естественной истории и заменяют, что отчасти сомнительно, эмпирические и биографические факты человеческого развития непременными и априорными человеческими потенциальными возможностями.) В этой теории мы должны различать homo natura, в смысле примитивного "естественного" человека в истории, и homo natura, в смысле примитивного естественного человека в истории индивида, новорожденного младенца. Так же, как первичное растение Гете —это не реальное растение, а —как отметил Шиллер в своем известном разговоре с изумленным Гете — скорее идея, так и первичный человек Фрейда — это не реальный человек, а идея. Она, несомненно, не является результатом отдельного интуитивного проникновения в сущность природы, а скорее
возникает из трезвого дискурсивного изучения механики природы. Этот первичный человек не служит началом или источником человеческой истории, скорее он —необходимое условие естественнонаучных исследований.
То же самое верно для homo natura, в смысле новорожденного младенца. И здесь мы имеем не реального человека, а идею; не фактическое начало, а необходимое требование научного биологического размышления и обработки информации. Обе биологические идеи относятся к человеку — что касается его подлинной историчности, его способности в области этики, культуры, религии, искусства —как к tabula rasa. Единственной оговоркой по поводу понятия tabula rasa выступает то, что в новорожденном младенце уже есть определенный биологический оттиск на этой доске, отпечаток, согласно которому осуществляется последующее культурное развитие. Однако мы должны осознавать, что научное знание говорит о tabula rasa только тогда, когда оказывается перед неким рубежом. Это верно в случае Локка и в случае Фрейда*. Понятие tabula rasa никогда первым
* Параллель между Локком и Фрейдом крайне поучительна. Там, где Локк спрашивает, как далеко простирается способность человека к знаниям, Фрейд ставит вопрос: как далеко простирается человеческая способность в области культуры и цивилизации? Там, где Локк ищет метод точного познания, Фрейд ищет правильный образ жизни, соответствующий цивилизации. Там, где Локк отталкивается от сомнения в отношении достижимости цели всеобъемлющего знания, Фрейд исходит из сомнения в достижимости цели всеохватывающей способности человека в области культуры. Метод обоих —это подход к сложному как к возникающему из простого, к общему как к производному от частного. Для обоих психическая жизнь выступает "движением", протекающим согласно законам ее простейших элементов (образов —для Локка; инстинктов —для Фрейда). Оба начинают (или скорее заканчивают) с символа tabula rasa. Оба являются строгими психологическими эмпириками и уходят корнями к Декарту. Оба отвергают метафизические гипотезы как пагубные. Оба преимущественно ориентируются на сенсуализм и номинализм и т.п. Существуют, конечно же, и значительные расхождения, особенно обусловленные тем фактом, что Фрейд, будучи ученым-естественником, был исключительно эмпириком, тогда как Локк был не только эмпирическим, но и критическим философом. Параллель между ними мы можем подытожить следующим образом: там, где Локк говорит: "Нет ничего в разуме, чего не было бы в ощущениях", Фрейд говорит: "Нет ничего в культуре, чего не было бы в природе человека". Как в отношении утверждения, обобщающего Локка, мы должны учитывать дополнение Лейбница "nisi intellectus ipse" [за исключением разума (лат.). — Прим. ред.], так и к нашей формулировке, обобщающей Фрейда, мы должны добавить: "nisi homo ipse" [ за исключением человека (лат.). — Прим. ред.]. Таким образом, она будет звучать: "Nihil est in homine cultura, quod non feivrit in homine natura, nisi homo cultura ipse"[HeT ничего в человеческой культуре, чего бы не было уже в человеческой натуре, за исключением [самого] человека (лат.). — Прим. ред.]. Но это "homo cultura ipse" является олицетворением всех априорных культурных форм человеческого бытия, так же как "intellectus ipse" выступает олицетворением всех априорных форм когнитивного разума.
не появляется в научном мышлении, оно всегда приходит последним. Именно конечный результат научной диалектики ограничивает и сужает всю совокупность человеческого восприятия до одного частного вида восприятия. Диалектически это понятие служит указанием на столкновение познания с рубежом, который оно не в состоянии перейти. Таким образом, с выигрышной позиции всей совокупности человеческого жизненного опыта tabula rasa выступает символом особого отрицания, выражением диалектической пограничной линии.
Теперь, если мы воплотим этот символ в реальность и будем принимать за реальное начало человеческой истории, то станем свидетелями высоко поучительного зрелища полной перестановки связей природы, истории и мифа. Там, где в самый ранний период человеческой истории мы обнаруживаем миф, где мы видим, как из шелухи священных и мифических преданий и жизнеописания появляется история, и наблюдаем, как поздно в этой истории зарождается наука о природе, сейчас мы обнаруживаем, что естественная наука коренным образом все изменила. Она поместила продукт своей собственной конструкции — идею homo natura — в самое начало, превращая его "биологическое, природное развитие" в историю и затем принимая эту историю и эту природу за основу для "объяснения" мифа и религии. Таким образом, существенно важное значение идеи homo natura заключается в том, что она закрепляет человека между инстинктом и иллюзией. А из напряжения, возникающего между двумя этими силами, рождаются искусство, миф и
религия.
Когда я говорю о homo natura Фрейда только как об идее, не следует считать это недооценкой. В конце концов наука, как правило, манипулирует только идеями. Там, где, к примеру, идея первичного растения раскрывает "растительные" творения природы и разъясняет отдельные растения в свете этого откровения — оставляя обеспечение последующей детальной эмпирической верификации исследованию — с гипотезой homo natura можно работать не только научно, но и практически. То есть, используя эту идею, можно что-то сделать, например, сделать людей здоровыми.
Развитие идеи Homo Natura в естественнонаучную теорию и ее значение для медицинской психологии
Редукционная диалектика, использованная Фрейдом для построения теории человека, до последней детали естественнонаучна. В ней находит должную поддержку вера в то, что он открывает нечто о реальности мира, вместе с тем, чувство благоговения перед загадкой и силой жизни неустанно побуждает его к дальнейшей работе. Фрейд не был человеком, ограничивающим свой интерес только непосредственным объектом исследований без одновременного глубокого осознания того интеллектуального инструмента, каковым являлся его метод. Он сам предоставил нам превосходное описание наиболее существенных предварительных условий. Он говорит о поиске тождественности, стоящей за различиями. Психоаналитические исследования показывают, "что глубочайшей сущностью человека является инстинктивный импульс, элементарная природа которого одинакова у всех людей. Именно этот импульс влечет человека к удовлетворению определенных первичных потребностей"9. "... Самым важным и самым неясным элементом психологического исследования [выступают] "инстинкты" организма"10. Он говорит "химически" о больших качественных различиях между субстанциями, "причина которых прослеживается к количественным вариациям пропорций, в которых эти самые элементы сочетаются"11. Под элементами Фрейд подразумевает отдельные инстинкты и инстинктивные компоненты. Он признает: "...все, что мы имеем, — это только научные гипотезы", которые не могут "дать окончательный ответ на эти неясные проблемы", а "предоставляют только надлежащие абстрактные идеи, применение которых к сырому материалу наблюдения позволяет появиться порядку и ясности"12. Но прежде всего мы обнаруживаем одно из утверждений Фрейда, которое наиболее точно выражает научный метод психоанализа: "В нашем методе наблюдаемые явления должны занимать второе место по отношению к силам, которые только лишь предполагаются" ("Die wahrgenommenen Phдnomene mьssen in unserer Auffassung gegen die nur angenommenen Strebungen zurьcktreten")13.
В этом заключен подлинный естественнонаучный дух. Естественная наука никогда не начинается исключительно с явлений; в действительности ее основная задача заключается в том, чтобы лишить явления их феноменологических черт как можно быстрее и полнее14. Это, как мы знаем, являлось основной причиной невозможности со стороны Гете признать и оценить по достоинству теорию света и цвета Ньютона. Естественная наука, подобно истории, изъясняется в совершенном наклонении. Но
там, где историк спрашивает, какими в действительности были вещи, естествоиспытатель задается вопросом: как вещи стали тем, чем они являются. Психология, с другой стороны, как самостоятельная наука в самом полном смысле слова, изъясняется главным образом в настоящем времени15, ибо психолог должен спрашивать только о том, чем вещь в действительности является, и это "является" вмещает в себя и сохраняет в "настоящем времени" полярность личности и мира, прошлого и будущего.
Когда Фрейд говорит о знании мира, о жизненном опыте, исследовании и здравом рассудке, он имеет в виду этот естественнонаучный вид знания. Он утверждает, что "нет другого источника познания вселенной, кроме интеллектуальной манипуляции тщательно проверенными наблюдениями —то есть того, что называется исследованием — и что никакие знания не могут быть добыты посредством откровения, интуиции или вдохновения"16. Таким образом, наука не стремится ни напугать, ни утешить17; она не признает никакой "тенденциозности" в себе18. Как таковая наука представляет собой непреодолимую силу19. "В конечном итоге ничто не может противостоять здравому рассудку и опыту"20. Фрейд прекрасно осознает, что это предполагает "позицию по отношению к миру". В одном из тех нескольких мест в своих работах, где им употребляется слово "дух", он пишет: "Научный дух порождает особую позицию по отношению к вещам этого мира"21.В действительности он заходит так далеко, что признает научные термины как относящиеся к "языку образов" и поэтому считает, что они никоим образом не способны прямо охватить и отразить реальность мира.
Теперь, сказав, что идея homo natura представляет собой подлинную естественнонаучную биопсихологическую идею, мы можем охарактеризовать ее более определенно. Это естественнонаучная конструкция, подобная физиологической идее организма, химической идее материи в качестве основы элементов и их сочетаний, физической идее света и т.д. Реальность феноменального, его уникальность и независимость вбирают в себя предполагаемые силы, побуждения и управляющие ими законы*.
Приведенные выше цитаты, несмотря на все ограничения относительно познания, согласуются с научным эпистемо-
* Homo natura Фрейда отличается от концепции Ницше не столько контрастом между эросом и стремлением к власти, сколько тем, что это строгая естественнонаучная эмпирическая конструкция. Именно это отделяет ее от homo natura Ж.Ж.Руссо, Новалиса и Клагеса.
логическим оптимизмом Фрейда; каким бы второстепенным и сдержанным этот оптимизм ни казался в сравнении с таковым его учителя, Майнерта. Это оптимизм естествоиспытателя второй половины девятнадцатого и начала нынешнего столетия. Именно этот научный эпистемологический оптимизм формирует защитную почву доктрины Фрейда, и именно ему эта доктрина обязана своей покоряющей мир силой. Homo natura — это научная проблема, в решении которой Фрейд доказал свою гениальность. Не противореча его гуманным и гуманистическим тенденциям — как раз наоборот, — идея homo natura высится как научное сооружение, с удивительной преданностью и энергией выстроенное Фрейдом из изменчивого материала человеческой жизни.
Следуя далее, зададимся вопросом: как толкование человека в качестве homo natura и принятие инстинктивных импульсов за основу этого толкования влияют на общее понимание человека?
Формально, как мы уже видели, эта интерпретация основана на равнозначностях среди классов и видов в естественнонаучном смысле; ее материальная основа — насущные человеческие потребности, названные сексуальными инстинктами и позднее известные как инстинкты жизни (эроса), и пути, посредством которых они могут быть удовлетворены, замещены или отвергнуты. "Сексуальность" для Фрейда всегда включала эротику. Тот факт, что она занимает такое выдающееся положение, обусловлен опытом работы Фрейда с неврозами, которые —и чем больше я сталкиваюсь с неврозами, тем больше вынужден согласиться с этим — уходят своими корнями в огромную "сомато-морфо-логическую" запутанность, сложность и, прежде всего, "историчность" сексуального инстинкта и его побочных продуктов. Об этом сомато-морфологическом значении сексуальности я буду говорить позднее. В том же, что касается ее историчности, я имею в виду не только исключительную сложность, характерную для биологического и физиологического развития сексуальности, что первым показал Фрейд. В первую очередь, я подразумеваю силу и значение сексуальности, которая, определяя наше отношение к другим людям, формирует и нашу внутреннюю историю жизни*. В этом смысле голод и жажда не властны формировать нашу биографию.
* Касательно этого термина см.: L.Binswanger, "Lebensfunktioii imd innere Lebensgesc-hichte" (Aisg.Vort. u. Aufs., Bd. I). Основное значение сексуальности и эротики для внутренней истории жизни в индивидуальных случаях легче понять, если принять во внимание конкретную связь сексуальности с восприятием пространства и вре-
Там, где голод влияет на "историю", он влияет на мировую историю, а не на отдельного человека (как, например, во время Французской революции или полярной экспедиции). Не имеет своей значимой истории и сам голод —по крайней мере, за пределами физиологической лаборатории. (В отношении жажды нам нет необходимости затрагивать те случаи, когда уже существует определенная "гармоничная" взаимосвязь между алкоголиком и "его" вином22.) В том, что касается остального, то именно голод Фрейд использовал для иллюстрации уравнивающей, сглаживающей силы инстинктов: "Предположим, что ряд совершенно отличных людей будет в равной мере испытывать голод. По мере того, как настоятельная потребность в еде будет расти, все индивидуальные отличия будут исчезать, а их место займут единообразные проявления неудовлетворенного инстинкта"23. Для Фрейда "физическое значение", или "величина" инстинкта быстро растет вместе с его неудовлетворенностью, но он не уверен, сопровождается ли удовлетворение инстинкта сопоставимым уменьшением его психического значения. Но в любом случае Фрейд считает необходимым принимать во внимание вероятность того, что "в природе самого сексуального инстинкта заложено нечто, мешающее достижению полного удовлетворения"24. Эта довольно правдоподобная гипотеза служит подтверждением мнения о том, что сексуальность играет большую роль, чем другие побуждения.
Как бы там ни было, для нас основным моментом выступает тенденция теории Фрейда уравнивать или сравнивать различные аспекты, составляющие сущность человеческого бытия, приводя их к уровню общих потребностей или нужд и психического значения этих потребностей. Как мы знаем, это телесный уровень или уровень жизненности, и homo natura Фрейда мы можем изобразить как и homo vita*. Руссо склонен видеть своего homo natura как ангельское создание, выпущенное из рук милостивой Природы в райскую утопию — так сказать, homo natura benignus et mirabilis**. У Новалиса понятие homo natura опирается на магическую идеализацию телесной сферы и магическое приземление духовности. Но homo natura Ницше и Клагеса занимает тот же уровень, что и у Фрейда. То есть тело наделяется безусловной
мени (продление и моментизация, расширение и сужение существования), с восприятием изменения и целостности, творческого и нового, повторения и точности, управляемости, с одной стороны, и намерения и решения — с другой и т.д.
* Человек живущий (лат.). — Прим. ред.
** Человек естественный, радушный и чудесный (лат.).— Прим. ред.
властью в определении необходимого бытия человека. "Несколько часов восхождения на гору, — говорит Ницше, и Клагес соглашается, — делают из святоши и негодяя одинаковых людей". Как справедливо замечает Лёвит25, перед восхождением святоша и негодяй в телесном отношении по существу ничем не отличались. Но здесь к настоятельности сексуальной и пищевой потребности добавляется еще физическая усталость и истощение. Каким бы глубоким и разнообразным физическое и психическое "значение" сексуальности ни было в сравнении с пищевой и вегетативной сферами — все же все они сходны своей обусловленностью потребностями тела.
Не следует, конечно же, упускать из виду значение и важность, придаваемые телу Платоном и философами высших стадий развития греческой цивилизации, значение, умаление которого началось с неоплатонизма и достигло кульминации с приходом христианства. Но если физическим потребностям отдать абсолютную полноту власти над человеческим бытием, тогда образ человека станет однобоко искаженным и онтологически фальсифицированным. Ибо тогда единственным, что можно увидеть, воспринять, ощутить, почувствовать в качестве недостающего и вынести в качестве реального и актуального, будет то, чем человек является как тело, то, что он ощущает "в" своем теле или "от" него, то, что он воспринимает телом и выражает "через" свое тело (Клагес). Все остальное неизбежно становится просто "надстройкой" — "выдумкой" (Ницше), тонкостью (сублимацией), иллюзией (Фрейд) или противником (Клагес)26. Для Кла-геса между телом и духом (волей), конечно же, стоит душа, как опыт для Ницше и психический аппарат для Фрейда. Но это не означает, что материальность в целом не рассматривается в понимании человека как мотивационная основа. Однако этим новым оригинальным догадкам еще необходимо найти место в общей совокупности знаний человека о самом себе — они требуют антропологического разъяснения. Сказанное особенно верно в отношении очень оригинального способа, которым гений Фрейда классифицировал и размежевал руководящее сексуальное побуждение. Я имею в виду зональные побуждения —оральное и анальное, фаллическое и вагинальное, глазное и мануальное, пекторальное и вентральное и т.д. Хотя некоторые великие умы от Платона до Франца фон Баадера, Шеллинга или Ницше — если назвать лишь немногих из них — осознавали, насколько соматоморфны даже тончайшие, в высшей степени духовные аспекты человеческой жизни, именно Фрейд первым дал подлин-
ную соматогарфию переживаний, основанную на естественнонаучных наблюдениях и концепциях. Это свершение, антропологическое значение которого трудно переоценить27.
Клагес рассматривает телесность с точки зрения претерпевания и экспрессии; Ницше видит ее в рамках конкретной ситуации (Befindlichkeit) (см. дефиницию выше); для обоих телесность зависит от полноты или бедности жизни. Для Фрейда телесность подконтрольна бессознательному или ид, неукротимому хаосу потребностей, аффектов, страстей —одним словом, принципу удовольствия. Homo natura Фрейда — это не только стремление к власти (хотя, бесспорно, и это!), скорее "стремление" к чему-то, и стремление к власти представляет только особый случай такого чего-то: стремление к удовольствию, к "жизни" и ее сохранности, сохранению "неизвестных, неуправляемых сил", которые ответственны за жизнь. Таким образом, основой человеческого бытия служит телесность; то есть человек является продуктом и пассивной игрушкой могущественных невидимых мифических существ, называемых инстинктами, которые выделяются на фоне непостижимого потока космической жизни.
Здесь миф о всеобщей жизни (силе) принимает форму очень сложной научной и эмпирически обоснованной теории индивидуальной жизни, "индивидуальных" человеческих существ, их онто-и филогенеза. В глубине индивидуальная жизнь также хаотична, непроницаема и недоступна и поддается описанию только в виде противопоставления или противоположности "организованному" эго. Она подобна "котлу кипящего возбуждения"; "где-то она соприкасается с соматическими процессами" и "принимает от них инстинктивные потребности и придает им ментальное выражение", хотя в каком субстрате этот контакт происходит, —мы сказать не можем. "Эти инстинкты наполняют его [ид] энергией, но оно не имеет никакой организации и никакого единого стремления, один лишь импульс добиться удовлетворения инстинктивных потребностей в соответствии с принципом удовольствия. Законы логики — и прежде всего законы противоречия — для протекающих в ид процессов недействительны. Противоположные импульсы существуют бок о бок, не отталкивая и не нейтрализуя друг друга; в лучшем случае под подавляющим экономическим понуждением разрядить свою энергию они объединяются в компромиссные формации. В ид нет ничего, что можно было бы сравнить с отрицанием..."28; нет там и ничего, что соответствовало бы понятию времени, и "никакого изменения психических процессов с течением времени". "Ид,
естественно, неведомы никакие ценности: ни добро, ни зло, ни мораль. Во всех его процессах доминирует экономический или, если хотите, количественный фактор, тесно связанный с принципом удовольствия. По нашему мнению, все, что есть в ид, — это ищущие разрядки инстинктивные катексисы. В действительности кажется, будто бы энергия этих импульсов организована отлично от той, что встречается в других частях психики. Она должна быть намного более подвижной и легче поддаваться разрядке, ибо в противном случае мы бы не имели тех смещений и конденсаций, которые так характерны для ид и совершенно независимы от качеств объекта (в эго мы бы назвали его идеей), с которым оно катектирует. За лучшее понимание этих вещей можно было бы отдать все, что угодно!"29. Таким образом, полностью раскрытое Фрейдом понятие ид вмещает в себя все те характеристики, которые в своих предшествующих формулировках он описал как относящиеся к "бессознательному", плюс некоторые дополнения. В добавок к этому, части эго и суперэго также были признаны как относящиеся к бессознательному.
Возможно, сейчас мы прояснили то, что имели в виду, говоря о том, что для Фрейда телесность подконтрольна ид. Это хаотичное вместилище инстинктов (фактически инстинкт представляет собой "концептуальную пограничную линию между соматическим и психическим" и всегда имеет свое "психическое представление" или значение), передающихся в психику. Здесь в равной мере можно сказать, что либо сома уже психически обусловлена, либо психика уже обусловлена соматически. Но сущность самого организма все еще остается не объясненной для Фрейда — это нечто большее, чем телесные функции или инстинктивность; она включает телосложение, особенно органы перцепции и движения. В противоположность ид, эти органы имеют теснейшую связь с "организованным", "персонифицированным" эго сознательной личности, которое в ходе цивилизации развилось из ид. Таким образом, телесные функции, или инстинктивность связаны с вегетативной сферой, а физическое тело — с животной сферой (эти термины употреблены в смысле, придаваемом им физиологом из Цюриха Гессом). Как только что указывалось, и то и другое передается психическому аппарату и тесно связано с ним. Таким образом, здесь появляется еще один аспект до-аналитического периода Фрейда: нейробиологический. О нем позвольте сказать только то, что он также играет свою роль в конструкции психического аппарата Фрейда. Разве он не говорит в "Толковании сновидений", что психический аппарат
"известен нам также в форме анатомического препарата"?30 Как бы сильно он ни предостерегал нас об искушении локализовать психологические функции анатомическим образом, его открытия в отношении речевых нарушений и опыт работы с языковым аппаратом, разработанным в связи с ними, направлены на подтверждение его теоретических размышлений.
Я не хочу вдаваться здесь в дальнейшее обсуждение деталей концепции психического аппарата Фрейда. Но на одну вещь необходимо обратить внимание: с первого взгляда представляется, что психический аппарат Фрейда сравним со схематическим представлением органа тела, со схемой, подобной тем, что используются пульмонологами и кардиологами для указания своих клинических находок. Но такому специалисту для схематического изображения органа нужны только бумага и карандаш. Фрейду же вначале пришлось концептуализировать сам орган на основе богатого опыта и тщательных размышлений, ибо там, где начинается психика, схемы заканчиваются. Поэтому психический аппарат является одновременно и органом, и клинической схемой, кратким выражением "топических" систем и образов, их динамического действия и экономических функций, с одной стороны, и схемой для изучения психической жизни и ее аномалий —с другой. Для Фрейда изучение или теоретическое исследование психического нарушения не заканчивалось до тех пор, пока не определялось его место во всей схеме. Примером служит его лечение тревоги31. Сказанное справедливо в отношении вытеснения, к которому он подходит не как к общей психологической концепции — что уже многие спорадическим или афористичным образом делали до него — а как к функции или механизму. Выяснение сложных механистических деталей вытеснения является одним из его значительных научных достижений. Любой человек, хоть немного знакомый с решаемыми проблемами, знает, какие тщательные исследования и огромная концентрация мысли требуются для того, чтобы на языке математических функциональных уравнений сформулировать хотя бы одно предложение, касающееся психической жизни человека.
Однажды Фрейд сказал, что утверждать, будто вытеснение не допускает в сознание никаких производных вытесненного, ошибочно. Ибо если они достаточно далеко отстоят от вытесненного инстинктивного представления —либо благодаря процессу искажения, либо по причине большого количества промежуточных ассоциаций — то имеют свободный доступ в сознание. Он
обобщает это утверждение следующей "математической" формулой: Представляется, что сопротивление сознания им ("производным ") является функцией* их удаленности от того, что первоначально было вытеснено*2, В сравнении с подобной математической формулой, которая является результатом сопоставления огромного количества эмпирических фактов (из области свободной ассоциации, сопротивления, символического выражения и т.д.), математическая формула Гербарта, касающаяся "динамики образов", кажется праздным времяпрепровождением. Формально дело всей жизни Фрейда можно выразить утверждением о том, что идея homo natura может привести к возможности выражения психических процессов математическим функциональным уравнением. Фрейду удалось показать, что во внешне независимых областях человеческого разума работает механизм, открывая этим возможность механического "восстановления" разума (с помощью психоаналитических методик выявления и аннулирования вытеснения и регрессии посредством механизма трансфера). Итак, немыслимым образом Фрейд подтвердил утверждение Лотце33 о безусловной универсальности механизма.
Весь механизм психического аппарата приводится в движение из самой глубины, из ид, с помощью психического представления всей инстинктивности, желания. Желание выступает единственным контекстом управляемости homo natura. Но даже это лишь поясняющая конструкция, вытекающая из общего разделения человеческого бытия, примитивного и иного. Ибо в действительности человек — и, несомненно, примитивный человек — не стремится к удовольствию как к таковому, а лишь к обладанию конкретной вещью, доставляющей ему удовольствие, или переживанию чего-то приятного. Поэтому здесь мы находимся в сфере значений и их частных определений. Рассматривать как пребывающее между инстинктом и иллюзией можно только существо, которое может исключительно желать. И наоборот, такие основные формы человеческого существования, как религиозное, нравственное и художественное можно объяснить как иллюзию или как берущие свое начало от потребности в иллюзии, только если мы будем исходить из такого существа. Желание —не главное для человечества как такового, каким бы определяющим оно на самом деле ни было для встроенного в homo natura психического аппарата.
Мне кажется, нет никакого сомнения в том, что это слово следует понимать не только в динамическом, но и в математическом смысле.
По сути дела, этот аппарат и его специфический механизм приводит в действие желание. Фрейд разработал свою концепцию с поразительной логичностью, особенно в отношении механизма работы сновидения. То, что работа сновидения (не манифестированное сновидение и не идеи латентного сновидения или отпечаток предшествующего дня) может быть запущена только посредством стимулов желания, представляет собой как необходимый постулат существования психического аппарата, так и подтверждаемый опытом факт. Если это кажется вам порочным кругом, тогда вы не поняли научный метод в целом. Подобно тому, как понятие психического аппарата служит теоретическим резюме реальности опыта, так и "опыт" выступает теоретической верификацией этого резюме. Примером этого круга служит естествознание. То, что это желание должно быть бессознательным, ясно из сказанного об ид. Этим однако подразумевается, что понятие бессознательного желания сновидения было придумано "ради теории". Напротив, теоретическая форма подхода к опыту состоит в том, что между теорией и опытом всегда существует открытое, взаимное соответствие. Фрейд правильно определил, что эта теория представляет собой его основной вклад в науку. Основное значение он придавал не "практической задаче" интерпретации символов, а скорее "теоретической" задаче объяснения предполагаемых "операций" отдельных форм функционирования психического аппарата. Конечно же, практическое и теоретическое требовалось "разрабатывать de novo"*, ибо одна задача немыслима без другой. Но особая гордость ученого за последнее очевидна и полностью оправданна. "Процесс работы сновидения, — читаем мы в 29-й Лекции, —это нечто новое и странное, подобного чему ранее не было известно". Но даже в "Истории психоаналитического движения" он сказал об анализе шизофрении в работах Юнга: "наиболее важным моментом была не столько возможность толкования симптомов, сколько психические механизмы заболевания "3?.
Различные ревизионистские психоаналитические течения, которые с легкостью отбросили теоретическое ядро психоанализа, лишились и своего права быть упомянутыми вместе с Фрейдом. Ибо доктрину Фрейда выделяет его попытка показать, что следует в качестве механического детерминизма из данных особенностей естественной организации человека и столкновения этих особенностей с факторами окружающей среды. Это то, что мы назы-
* Заново (лат.). — Прим. перев.
ваем открытием работающего механизма. Здесь детерминизм узурпирует место свободы, механистичность —место рефлексии и принятия решения. И с этим мы оказываемся в сфере медицины. "Как плохо в действительности пришлось бы нашему здоровью, — говорит Лотце в своем известном научном труде об инстинктах, — если бы его защитником была рефлексия, а не механика"36. То, что мы назвали теорией homo natura, может считать своей заслугой не только демонстрацию механизма, обеспечивающего и "оберегающего" нормальное течение психических явлений, но и демонстрацию именно тех механизмов, которые могут служить для объяснения того, каким образом психические нарушения "вытекают как механическая неизбежность из данных организационных особенностей" (механизмов неврозов и психозов). И наконец, ее заслугой является демонстрация тех механизмов (механизмов трансфера), которые используются для исправления патологии и защиты вновь приобретенного здоровья организма. Здесь мы стоим на твердой почве того, что называется медицинской психологией и психотерапией. Именно Фрейд завоевал всю эту территорию для естественной науки. После Фрейда ни один ученый не может работать в этой области, не сталкиваясь, тем или иным образом, с его теориями. Как бы сильно эти теории ни изменялись и ни развивались впоследствии, они всегда будут оставаться критерием нашей научной добросовестности и искушенности.
Но медицина, а также психиатрическая медицина, охватывает только одну сферу человеческой цивилизации, касающуюся защиты здоровья посредством биологических и психологических механизмов. Здоровье, несомненно, является одной из величайших ценностей человека, а его зашита — одной из благороднейших задач цивилизации. Но человек должен защищать даже нечто большее, чем свое физическое и психического здоровье. Многогранность его существа должна соответствовать многогранности его борьбы; естественнонаучному пониманию "безусловной универсальности" механизмов должно соответствовать антропологическое понимание ограниченности этого значения для всей совокупности человеческого бытия.
Идея Homo natura в свете антропологии
Основным результатом нашего исследования явилось установление того факта, что идея homo natura Фрейда представляет собой научную конструкцию, которая возможна, только если она
основывается на деструкции эмпирических знаний человека о самом себе — то есть на деструкции антропологического опыта. Как я пытался продемонстрировать в другом месте37, это верно и относительно homo natura в клинической психиатрии и психопатологии, как и во всякой, так называемой объективной психологии. Антропологические исследования и критицизм вполне уместны для всех этих идей homo natura: здесь подразумевается защита человеческого существования в целом, в противоположность чисто медицинской защите этого существования и естественнонаучному сохранению его связи с природой. Задача антропологии заключается в том, чтобы разбить подобные специализированные концепции человека, вернуть их во всю совокупность человеческого существования и определить в ней их "место" и значение.
Но антропология выплеснула бы и дитя вместе с водой, если бы в результате современных попыток определить и интерпретировать человека не как человека, а как природу, как жизнь, как желание, как дух (душу) и т.п., она полностью отбрасывала бы специализированные концепции человека. В равной мере опасны две крайности, как для специализированных наук о человеке, так и для антропологии. Поэтому мы попытаемся определить, по крайней мере, четыре момента значимости идеи homo natura Фрейда и ее научного развития для антропологии.
Первое: объясняющая человека на основе психологических механизмов теория homo natura Фрейда, помимо прочего, представляет собой крайне важный для антропологии методологический единый принцип. Она показывает, как, подчиняя все области человеческого бытия одному объединяющему организующему принципу, можно привнести в наши знания о человеке систему и порядок. С этим инструментом организации естестйоз-нание способно шагать вперед, далеко обгоняя антропологию, которая прежде всего основывается на многообразии, индивидуальности и существенной взаимосвязи "наблюдаемых" явлений и в связи с этим вынуждена принимать форму феноменологии. В этом отношении естествознание выполняет работу первооткрывателя, отмечая границы целых областей и размежевывая отдельные участки, исследуя и оценивая работу по отбору и предварительной классификации. Эта работа руководствуется принципом полезности и суровой, неукоснительной естественнонаучной необходимости. В научном отношении это ведет к выявлению и познанию абстрактных сил* и влияний, управля-
* "Силы не имеют никакого отношения к опыту, они выступают дополнением
ющих человеком, которые регулируют и приводят в действие механизм его жизни. Но в то же время мы всегда должны помнить, "что механизм, создающий образ явления, не тождественен значению образа"38, вследствие чего человек —это нечто большее, чем homo machine* в смысле Ламетри.
Второе: кроме того, механизм важнее для антропологии именно тем, что показывает человека как нечто большее, чем машина, ибо человек тем или иным образом может связать себя со своим механизмом. Обратной стороной абсолютного механизма, железного детерминизма, несомненно, выступает понятие абсолютной свободы. Чем более механистически мы интерпретируем человека, тем легче он представляется поднимающимся над механизмом. "La plus intime liberte, —пишет один известный французский современник, которому мы многим обязаны, —consiste dans la conduite d'un homme д l'egard de son caractere"**39.
В действительности в антропологическом плане эта функция механизмов наиболее важна. Без нее мы не смогли бы понять антропологического напряжения, существующего между "природой и духом", необходимостью и свободой, между жизнью (в пассивном смысле), подчиненной, управляемой и самопроизвольностью существования.
Третье: понимание механизма homo natura позволяет выявить "разрывы в ткани повседневной жизни" (Лёвит), этот процесс демаскировки обнаруживает, что психическое здоровье является конгломератом удовлетворенных потребностей. Идея homo natura и выяснение психологических механизмов служат наиболее надежными средствами, используя которые, человек может проверить и изучить свое экзистенциальное положение в мире. Механизм всегда говорит "Нет"; onus probandf** ответа "Да" находится на стороне свободы, на стороне существования. Там, где на сцену выходит механизм, должно проявиться существование, его противник. Ничто не может противостоять непреодолимой силе механизма, кроме таковой существования. Оно и только оно может подорвать механизм.
Четвертое: идея homo natura олицетворяет инстинктивность, то есть управляемость человеческого существования, управляемыми". R. Lotze, Kl. Sehr., I, 153. * Человек-машина (лат.). —Прим. перев. ** Наибольшая внутренняя свобода состоит в поведении человека в отношении
своего характера (фр.). —Прим. ред. *** Бремя доказательства; обязанность приводить доказательства (лат.). —Прим. ред.
мость, построенную согласно принципу механического детерминизма. Это общее понятие чистой жизненной силы имеет для антропологии значение единого "морфологического" или формального принципа точно так же, как лист выступает единым морфологическим принципом для ботаники. Инстинкт в представлении Фрейда —это первичная форма, лежащая в основе всех морфологических трансформаций. Гете считал, что в метаморфозе растения первичная форма листа исчезает в его модификациях, каковыми выступают цветок, тычинки и пестик, чашечка, семя и плод, и что первичная форма как таковая существует только как формальная идея. Фрейд, напротив, видит во всех человеческих превращениях и изменениях одну и ту же базисную форму инстинкта, сохраняющуюся в качестве неразрушимого вездесущего действующего фактора. В этом отношении доктрина Фрейда, в противоположность не только Гете, но и Ницше, не ведет к концепции подлинного изменения. Под утверждением Гете, что "весь наш подвиг состоит в том, чтобы отказаться от нашего существования ради того, чтоб существовать^0, — Фрейд не подписался бы никогда. В доктрине Фрейда основное ударение ставится не на существовании как перемене, а на том, что сохраняется и остается среди перемен, на инстинкте. Но антропология должна уделять внимание и единой первичной форме в перемене, и многообразию перемены как подлинного мета-мор-фоза. Ибо перемена в конце концов по своему существу требует meta morphose, trans transformatio* переправы от одного берега бытия на берег нового бытия.
С другой стороны, самому Гете принадлежит изречение, так сильно напоминающее "Тимея" Платона: "Если бы природа в своем неодушевленном начале не была по существу так стерео-метрична, то как бы в конечном итоге она смогла прийти к жизни во всей ее непредсказуемости и неизмеримости?"41 Здесь снова мы видим акцентирование неизменяемого принципа формы и, как в "Тимее", обнаруживаем подмеченный Гете стабильный принцип, стоящий за действиями природы.
Применительно к Фрейду это изречение можно перефразировать следующим образом: "Если бы человек в своем неодушевленном начале не был по существу таким инстинктивно-механическим, то как в конечном итоге он смог бы прийти к жизни разума во всей ее непредсказуемости и неизмеримости?' Здесь мы видим Фрейда как естествоиспытателя, даже как натурфилософа, пытающегося объяснить разнообразие жизни одним или (если
* Пре-образование (гр.), через -преобразование (лат.). —Прим. ред.
включать разрушающий форму принцип инстинкта смерти) двумя едиными принципами. Но, как уже отмечалось, человек — это не только механическая причинная обусловленность и организация, не просто мир или присутствие в мире. Его существование можно понять только как бытие-в-мире, как проекцию и раскрытие мира — что выразительно продемонстрировал Хай-деггер. В этой мере, его существование уже воплощает в себе принцип возможности разделения детерминизма и свободы, "закрытой" формы и "открытой" перемены, единства формальной структуры и отказа от нее с переходом в новую формальную структуру.
Однако вначале мы должны объяснить, что означает сказанное, и как мы пришли к противопоставлению механизма свободе, "homo natura" —существованию и естественной науки —антропологии.
Во всякой психологии, имеющей объектом исследования человека как такового — особенно в психологиях, основанных естествоиспытателями, такими как Фрейд, Блейлер, фон Мона-ков, Павлов42 — мы обнаруживаем трещину, брешь, сквозь которую видно, что научно изучается не целостный человек, не человеческое существо как целое. Повсюду мы встречаем нечто, выходящее за границы такой психологии и нарушающее их. (Это "нечто", не удостоенное даже мимолетного взгляда естественнонаучной психологии, является именно тем, что с точки зрения антропологии является наиболее существенным.) Ограничившись Фрейдом, нам стоит лишь наобум открыть одну из его работ, чтобы натолкнуться на это "нечто". Например43, он пишет о конструкции и функционировании нашего психического аппарата, о нашей психике как о том драгоценном инструменте, с помощью которого мы поддерживаем нашу жизнь; он пишет о нашей психической жизни, наших мыслях.
Все эти притяжательные местоимения говорят о том, что речь идет о бытии, которое заведомо полагается как не требующее доказательств и которое очевидно выделяется как наше существование. То же самое, конечно же, справедливо и относительно личных местоимений в таких фразах, как: "я думаю, я склонен, он провозглашает, он докладывает, он припоминает, он забыл, он противится, я спрашиваю его, он отвечает, мы установили, мы верим в будущее, мы пришли к соглашению" и т.п. Здесь также говорится о существовании как моем, его и так далее и об экзистенциальном общении, межчеловеческом или мы-взаимо-отношении, то есть взаимоотношении между человеком и кем-то
подобным ему, а именно: другим человеком. Когда это мое или наше, это я или он или мы выделяется, психология в результате становится "безличной" и "объективной", одновременно теряя научный характер подлинной психологии и превращаясь в естественную науку. Фрейд изучает людей с такой же "объективностью", с такой же экзистенциальной отдачей "объекту", какие характеризуют его исследования спинного мозга Ammocoetes-Petromyzon*44 в лаборатории Брюкке, с тем исключением, что вместо обостренного микроскопом зрения он использует обостренный своим неподкупным восприятием слух и естественную гениальность в отношении понимания "человеческих тревог"45. Вместо взаимного "личного" общения в рамках мы-взаимоотно-шения перед нами односторонняя, необратимая связь между доктором и пациентом и даже более безличное отношение между исследованием и объектом исследования. Переживание, соучастие и встреча людей лицом к лицу уступает "совершенному наклонению" теоретического исследования. Таким образом, Фрейд достиг своего потрясающего научного понимания человека как существа, разделенного в самом себе, страдающего, борющегося, прячущегося от самого себя и раскрывающего самого себя — понимания, благодаря которому он сделал больший вклад в (естественную) науку о человеке, чем кто-либо до него и, возможно, после.
Теперь нам известно, что естественная наука охватывает не все знания человека о человеке. Поскольку она выделяет нашу самость и общение и, как мы увидим, самость и значение —одним словом, поскольку она выделяет существование — она никогда не сможет просветить нас относительно того, почему человек берет на себя божественную миссию быть продуктивным в поисках научной истины, почему делает эту миссию душой и смыслом своего существования, почему борется и страдает во имя нее и видит в этом свой личный долг, который должен быть героически исполнен вопреки сопротивлению равнодушного мира.
Таким образом, то, что мы назвали трещиной или брешью, увеличилось. Кроме того, что естественнонаучная психология — contradictio in adjecto** — систематически игнорирует наиболее важный антропологический факт, состоящий в том, что Dasein всегда есть мое, твое или наше и что сами мы всегда*** связаны с
* Личинка миноги. —Прим. перев.
** Противоречие в терминах (лат.). —Прим. перев.
*** Касательно нашего отношения к "телу", то есть в антропологических терминах, к нашему существованию как физическому, к его пространственным и временным характеристикам, к его связи с забыванием, вытеснением и т.п., см. мою работу "Ьber Psychotherapie".
абстракцией души* она игнорирует и всю структуру онтологических проблем, окружающих вопрос о подлинном кто, таким образом связывающем себя, вопрос человеческой самости. Когда эта самость объективируется, изолируется и теоретизируется в эго или в ид, эго и суперэго, тем самым она выводится из своей подлинной сферы бытия, то есть существования, и удушается в онтологическом и антропологическом смысле. Вместо того, чтобы следовать за Гераклитом в поискав себя и за Св. Августином в возвращении к самому себе, Фрейд и все другие названные нами ученые обошли проблему самости, как будто она является слишком очевидной, чтобы заслуживать внимания. Но как раз в том, что касается этого вопроса, становится очевидным существование двух форм практикования психологии. Одна ведет прочь от нас самих к теоретическим определениям, то есть к перцепции, наблюдению и деструкции человека в его реальности с целью научного построения адекватной картины человека (аппарата, "механизма рефлекса", функционального целого и т.п.). Другая ведет "в нашу самость", но не путем аналитической психологии (которая снова бы сделала нас объектами), не характерологически (что объективировало бы нас относительно нашего индивидуального психологического "класса"). Второй путь —это путь антропологии, которая занимается условиями и потенциальными возможностями Dasein как нашего, кип —что одно и то же — возможными видами и способами нашего существования.
Здесь этот путь "в нашу самость", в первую очередь, относится к самости собственного, индивидуального существования ученого, к почве, на которой он стоит и которая доподлинно является его собственной. Он относится к Dasein, которое ученый считает своим собственным в мире труженика науки, искателя, ваятеля и глашатая научной истины в мире и для него. Все сказанное является само-очевидной пресуппозицией каждого ученого. Но на самом деле это наименее очевидно из всего прочего, и скорее именно на это посягает и ставит под сомнение всякая психология, которая не пытается быть просто естественной наукой, а представляет собой подлинную психо-лотшо.
Возможно то, что я имею в виду, станет понятнее, если, с позволения Фрейда, я процитирую отрывок из одного из его писем ко мне: "Мне всегда казалось, что безжалостность и заносчивая самоуверенность являются необходимым условием того, что в случае нашего успеха представляется нам как ве/тчие; кроме того, я
* Душа — это религиозная, метафизическая, естественнонаучная или, самое большее, объективно-психологическая концепция, но не истинно психологическая.
полагаю, что следует различать величие достижений и величие самости"47. Здесь Фрейд выражает именно то, что мы имеем в виду: существование общей человеческой потенциальной возможности бытия хозяином самому себе (своей самости) и существование уверенности в самом себе (потенциальная возможность, которая, конечно же, включает и прямую противоположность — отсутствие самостоятельности). Далее мы видим, что эта потенциальная возможность может быть очевидной или не очевидной. Здесь Фрейд более антропологичен, чем где-либо еще в своих научных воззрениях, ибо он описывает определенный способ человеческого существования, способ приятия и проживания своего Dasein в качестве самости.
Если ученому удается увидеть собственный способ существования или бытия в мире как свой тип индивидуальности, наряду с этим он не может не видеть возможности существования многих других видов индивидуальности, существующих фактически. Мы помним, что "научный дух порождает особую позицию по отношению к вещам этого мира". Но наряду с этим духом существуют и другие виды "духа", в такой же мере базисные и порождающие "позиции" иного рода по отношению к вещам этого мира. Тот же, однако, кто полностью проникся понятием первенства науки и научного духа, не увидит стоящей за этим истины.
Конечно же, науке и особенно естественной науке, не воспрещается освещать все области бытия, включая человеческое. Однако следует осознавать, что все формы человеческого существования и "опыта" автономны и —выражаясь словами Ранке — "близки к Богу". То есть: все формы человеческого существования и опыта исходят из того, что они постигают нечто из реальности бытия, в смысле истины, и действительно делают это в соответствии со своими собственными "типами логики", которые нельзя перевести в другие типы или заменить ими. Фрейд уверяет нас, что истина достижима только посредством научного размышления; Августин говорит: "Non intratur in veritatem, nisi per charitatem"*, и Паскаль соглашается с ним: "On n'entre dans la verite que par la charite" (постичь истину можно только через любовь). Платон (в "Федре") убежден, что путь к высшему добру должен пролегать через божественное безумие, манию, тогда как Ницше (Заратустра) использует применительно к истине дионисийскую метафору. Действительно, как демонстрируют три знаменитые критические работы Канта о разуме, современная критика исторических и мифологических форм рассуждения
* Нельзя проникнуть в истину, иначе чем через любовь (лат.)- — Прим. ред.
(Дильтей, Хайдеггер, Кассирер и др.), а также попытки Ницше и Клагеса относительно критики "жизни", любая форма, принимаемая мышлением, может быть подвергнута критике. Однако это уже задача философии.
Каждый из этих способов постижения бытия представляет отдельную форму человеческого существования. Когда одна из форм берет на себя роль судьи над всеми другими, тогда сущность человека сужается или нивелируется до одной плоскости. Поэтому, даже несмотря на то, что картина человека, рисуемая естественной наукой, охватывает все области человеческого бытия, она не способна предоставить непридуманное выражение интеллектуальных и лингвистических форм, присущих этим областям, а следовательно, не способна выразить образ жизни человека в каждой из этих областей. (Это задача антропологии, рассматриваемой как совокупность человеческого опыта в отношении самого себя во его формах существования.) Естественнонаучный метод, в котором наблюдаемые явления занимают второе место после предполагаемых побуждений, способствует этому процессу нивелирования. Таким образом, чем глубже идея homo natura пронизана научным мышлением, тем меньше остается места для идеи не только мифического, религиозного и человека искусства, но также и для научного человека, подобно тому как чисто религиозная идея оставляет мало места для того, что специфично в науке и искусстве. Сказанное справедливо в отношении художественной и научной или чисто этической идеи, а также в отношении этической и художественной идей и т.п. Но было бы большой ошибкой делать из этого вывод, что "все относительно". Подобное заключение упускает из виду основное, а именно: существование, выбравшее одну из этих форм (независимо от того, принимает ли оно данный конкретный способ существования как свою судьбу или одновременно желает придерживаться его как своего собственного). По отношению к этим "относительнос-тям" существование всегда абсолютно.
Эти типы мышления не подвешены в воздухе. Наука, искусство, этика, религия —это не абстракции. Они представляют собой типы существования Dasein, согласно которым оно понимает, интерпретирует и выражает себя. Тот факт, что все эти формы существования возможны, показывает нам историчность человеческого Dasein; их фактическая реализация открывает его историю. Поэтому подлинным антиподом представлений Фрейда выступает то, что пронизывает работу Гердера, Гете, В. фон Гумбольдта, Лотце, Дильтея и, в наше время, Хайдеггера или
Циглера: представление о том, что узнать, чем человек является, можно только из его истории. Еще в 1883г. Дильтей48 писал: "Человек, рассматриваемый как факт, предшествующий истории и обществу, является функцией генетического объяснения." "Индивид всегда воспринимает, думает и действует в рамках исторически обусловленной общественной сферы". Это лишь подтверждение уже известного нам, а именно: построение каждой научной картины человека должно начинаться с разрушения его историчности, то есть того, что человек как историческое Dasein в "структурном контексте" восприятия, выражения, понимания и значения может воплощать в себе.
Нигде это уничтожение не осуществляется более тщательно и основательно, чем в естественных науках. Так, естественнонаучная идея homo natura должна "уничтожить" человека до такой степени, чтобы его можно было принимать за живущего и доступного пониманию только в одной из его многочисленных матриц значения {Bedeutungsrichtungen). Она должна пробираться через естественнонаучную диалектику до тех пор, пока не останется продукт диалектической редукции, tabula rasa. В ходе этого процесса все, что делает человека человеком, а не животным, уничтожается. Более того, все, кто стремится "заниматься" человеком научно и практически, должны начинать и начинают именно с этого. Только когда человек, "и его образ жизни", таким образом уничтожен, можно начать создавать его согласно отдельному принципу или идее, будь то стремление к власти Ницше, несущее в себе возможность вновь наполнить смыслом его измученную жизнь, или принцип удовольствия Фрейда, способный поддерживать и упрочивать жизнь.
Все это соответствует методу естествознания в целом, который вначале упрощает мир до лишенного смысла события, чтобы впоследствии позволить человеку интерпретировать это искусственно объективное событие "субъективно" —даже несмотря на то, что встреча с миром (таким, каким он есть всегда) как с "обремененным смыслом" уже состоялась49. Так и "человек" упрощается до бессмысленного события, до существа, управляемого и подавленного слепыми силами, для того чтобы интерпретировать то, что в человеческой жизни выходит из сферы влияния этих сил — смысл, — как поэтический вымысел (Ницше) или иллюзию, утешение или красивую видимость. Считать возможным использование такого рода деструктивно-конструктивной процедуры с целью полной демаскировки веры всего человечества в смысл, —это одно. Такая позиция известна как нигилизм.
Совершенно иное — критиковать лицемерие отдельной культурной эпохи, группы людей или самости и фактически разоблачать их как живущих "не по средствам". Именно в этой последней роли Фрейд и Ницше продемонстрировали свою гениальность. Смешивать срывание личины с отдельного лицемерия с уничтожением исполненное™ смыслом человеческого существования — значит совершать серьезную ошибку интерпретации априорных или сущностных потенциальных возможностей человеческого существования как генетических эволюционных процессов, короче говоря, ошибку интерпретации существования как естественной истории. Это приводит к "объяснению" религиозного способа существования тревогой и беспомощностью в детстве и юности; веры в Бога —комплексом отца; нравственного способа существования — внешним принуждением и интроекцией художественного — наслаждением красивым подобием* и т.п.
Эта антропологическая критика, конечно же, направлена и на теорию сублимации. Здесь мы также наблюдаем смешение двух вещей. С одной стороны, перед нами бесспорный факт "перехода" инстинктивного импульса из нижней формы в высшую — или, другими словами, "переход" от направленности на "низшее" смысловое содержание к направленности на "высшее". Проблема в том, что данный факт путают с предположением "образования" высших форм с их собственными особыми смысловыми содержаниями из низших. Мы должны подчеркнуть, что из инстинкта или из принципа удовольствия как таковых нельзя вывести никакого критерия для определения формы как низшей или высшей. Ибо удовольствие в такой же мере абстракция, как и сила или власть.
Здесь мы можем лишь повторить написанное Лотце в его обзоре On the Higest Good Фехнера, ибо в этом контексте Фехнер также выступал научным прототипом Фрейда. Лотце критикует "максимум удовольствия" Фехнера как "бесформальный" и не несущий "в себе никакого дополнительного морфологического принципа". Он утверждает, что этот "максимум удовольствия" подразумевает "анонимное, безымянное удовольствие, не дающее никакого намека на качественное содержание", и что он "представляется вершиной аддитивной шкалы"**.
Относительно искусства Фрейд в этом плане заметно методичен и осторожен. См. его "Леонардо", его изучение Достоевского (Ges. Sein:, XII, 7 ff.) и исследование "'Моисея" Микеланджело (X, 286).
В этом Лотце предвосхитил критику атомистической психологии Эрвина Штрауса (Tilg Primary World).
Фрейд и его концепция человека в свете антропологии 47
Более того, это удовольствие отражает только "накопление и количество", вместо того, чтобы быть представленным "согласно своему смыслу". Подобное удовольствие представляет собой "абстракцию", "неадекватный жизненный принцип"; "его (удовольствия) истинная значимость всегда будет казаться нам зависящей от его объекта или содержания". "Правдивость, прилежание" и т.п. — это не просто средства для достижения наибольшего удовольствия, а скорее формы, "в рамках которых удовольствие может достичь высшей ступени", "средства, с помощью которых впервые может быть достигнут качественный пик удовольствия"50. (Курсив мой.)
Теперь мы можем говорить о "связи удовольствия с человеческим существованием". Необходимо лишь сделать объективный принцип и механизмы удовольствия антропологически ретроактивными, то есть вернуть в Dasein то, что фундаментально для него в феноменологическом плане. В результате мы видим, что Фрейд, следуя модели Фехнера, возвел до принципа удовольствия один и только один отдельный способ человеческого существования или бытия в мире. Именно этот способ выделил Гераклит и определил антропологически как существование человека в "/(/««¦"-космосе, как возврат к собственному миру51. Сон, сновидение, потакание страсти и чувственное удовольствие приводятся Гераклитом в качестве примеров этой формы бытия. Здесь мы имеем форму самости, в которой самостность в своей историчности еще не видна (см. понятие повторения Кьеркегора), а лишь "на мгновение" остановлена и захвачена. Иными словами, подразумевается форма бытия, которую можно характеризовать как бытие-побеж-денное или бытие-подавленное. Таким образом, это форма пассивности, пассивная отдача людей своему кратковременному бытию, "pathic долженствование" Клагеса. Это ни в коей мере не означает, что здесь нельзя говорить о человеческой самости. Ибо человеческая пассивность, человеческое "долженствование" — это не просто и не только реактивность, подверженность воздействию (Widerfahmis). По существу, это особый способ определения самостью своего положения, которое можно характеризовать как самодолженствование позволения одолеть себя. Вместо самости, основывающейся на самой себе, самодостаточной, самости, которая может созреть только через активную встречу с миром, здесь мы имеем самость не автономную, самость, увлекаемую за собой образами, желаниями и побуждениями. Фрейду удалось создать homo natura, обобщив этот один космос, один антропологический способ бытия в объективный
принцип и в абсолютную силу жизни и смерти. Кроме того, ему удалось обнаружить, что лицо homo natura вечно скрывается за homo cultura. Антропологический же смысл может быть лишь в том, что мы никогда не можем полностью отказаться от жизни или всецело подняться над жизнью в idios-космосе, собственном мире. Однако это означает только, что различные способы человеческого существования скорее имманентны относительно друг друга, а не просто взаимозаменяемы. Если это так, то сказанное должно быть справедливо для koinцs-космоса, для движения к духовно-исторической общности, к соучастию в здравомыслии, морали, искусстве и религии и к их разделению. Никогда ни в одном из этих cosmoi жизнь не может быть полностью отсутствующей, ибо человек в такой же мере существо общественное, как и индивидуальное; он правит своей жизнью между первым и вторым.
Если Фрейд неоднократно находит, что человечество, подобно индивиду, "живет не по средствам", — это не означает, что принцип удовольствия всецело господствует в человеческой жизни, а значит лишь то, что человек в его повседневной жизни слишком легко относится к своему существованию, что Dasein недооценивает себя. Эта несерьезность, это увиливание от трудностей проявляется, как показал человечеству Фрейд, в неврозах, в тех зрелых формах инфантильной, то есть зависимой жизни, которые цепляются и продолжают цепляться за данный момент, не понимая этого. Фактическим способом такого существования, определяемого и ограничивающегося моментом, выступает желание, желание, "выходящее за рамки" реальной судьбы: безрассудная фантазия. Этому противостоит жизнь истинная, истинные деяния и высказывания —примером чему служит собственная жизнь Фрейда. "Западный императив действовать", о котором говорил Томас Манн, в действительности представляет собой веление искать и провозглашать научную и художественную истину. Эта команда впервые была произнесена и услышана в греческий период; во второй раз она прозвучала более резко и повелительно во времена первых естествоиспытателей; но наиболее пронзительно, наиболее настоятельно и отчаянно —в наш собственный век, век научной технологии.
Но западный человек не живет в доме, в построение которого он вложил столько усилий; он не находит ни дома, ни осознаваемой цели. Вместо этого, чем больше он следует приказанию действовать, тем больше его несет по воле волн. "Начиная с Коперника, — говорит Ницше, — человек бежит от центра к X"*.
Принятие желаемого за действительное не может остановить его бегство, как и само бегство не может положить конец принятию желаемого за действительное; чем сильнее судьба пыталась приучить человека к мере, числу и весу, тем безрассуднее он принимал желаемое за действительное. Как сказал Ницше, человек подобен дереву: "Чем сильнее он стремится вверх и к свету, тем сильнее его корни устремляются вниз, в землю, вглубь и во тьму — во зло". Только человек продуктивный, человек любящий и ищущий истину, другими словами, человек способный на перемену, человек, для которого веление действовать служит не кнутом и приказом, а задачей и миссией ''всей жизни до самой смерти", исследователь и мастер своего дела, может "выдержать" в подвешенном состоянии между добром и злом, поднимаясь и падая, балансируя между желанием и судьбой и безропотно вынося эту полную страдания жизнь.
Таким образом, Фрейд в его историческом существовании стоит перед нами как образцовый человек нашего столетия. В другой крайности мы видим много, слишком много людей бесполезных, отступников от истины, тех терзаемых и запуганных болью, тех скованных и неспособных к перемене, слишком хороших и слишком плохих, которые боятся подняться или упасть, которые оказались в затруднительном положении из-за своих необузданных желаний и которые были погублены судьбой, требующей умеренности — невротиков и фанатиков, изучаемых Фрейдом, благодаря которым он замыслил и развил идею homo natura.
Ясно, что пока человечество в целом бежало от центра к X, количество индивидов, не нашедших центра, безмерно выросло. В равной мере ясно, что в настоящее время психология должна занять место теологии, целебной силы спасения, симптома страдания, священника-исцелителя. Теперь основными проблемами жизни стали удовольствие и неудовольствие вместо ее смысла и сущности. В Ницше, "философе с молотом", и во враче Фрейде наше столетие нашло своих определителей задач и просветителей. Ницше определил неизвестное X, к которому бежит
•»••фрейд распознает три таких "удара по человеческому нарциссизму": первый, космологический, нанес Коперник; второй, биологический —Дарвин: "Человек — это существо, которое не отличается от животных и не превосходит их; он сам животного происхождения, более тесным родством он связан с одними видами и более отдаленным — с другими. Его последующие приобретения не смогли уничтожить доказательств его параллелизма с ними как в физической структуре, так и в психической сфере. Это только второй, биологический удар по человеческому нарциссизму..." (Ges. schr.,X, 352);третий, психологический, нанес сам Фрейд, показав человеку, что "эго не хозяин в своем собственном доме" (Ibid., 355).
человечество, как цикл вечного возврата старого —решение, которого его современники не желали и не могли принять — и считал, что нашел меру и центр52 в "стремлении превзойти человека", в сверхчеловеке. Фрейд, с другой стороны, определил неизвестное X как результат борьбы между эросом и смертью53, и верил, что нашел меру и центр в своем понимании человеческой природы, которая, даже "развиваясь", в своей основе остается неизменной, и в мудром подчинении человека законам и механизмам этой природы.
Но как исследователь природы он не мог удовлетвориться простым указанием нашей цели. Наряду с этим он усердно работал, чтобы указать путь, "метод", посредством которого индивид может достичь этой цели. Как врач он помогал человеку с неустанным терпением следовать по этому пути. В своем собственном человеческом существовании он осветил путь человечеству, приучая нас уважать скрытые силы жизни, доверять силе научного здравомыслия, смотреть в лицо истине в самих себе и неизбежности смерти.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 S.Freud, Gesammelte Schriften (Vienna, 1924 — 1934), Bd. XI, 465.
2 Ibid., XII, 249 f.
3 Ibid., XI, 464.
4 Ibid., XI, 292.
5 E.g., ibid. , X, 345; XI, 231.
6 Ibid., X, 234.
I Op.cit.
8 Op. cit.
9 Ibid., X, 322 f.
10 Ibid., VI, 223.
II Ibid., XI, 168.
12 Ibid., XII, 235.
13 Ibid., VII, 62.
Ср.: H.Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung; L. Binswanger, Eifuhnmg in die Probleme der allgemeinen Psychologie; T.Ha-ering, Philosophie der Naturwissenschaft. L5 Ср.: R.Honigswald, Denkpsychologie; Erwin Straus, The Primary World.
16 Ibid., XII, 319.
17 Ibid., V, 211.
18 Ibid., V, 207.
19 Ibid., XI, 464.
20 Ibid., XI, 436.
21 Ibid., XI, 448.
22 Ibid., V, 209.
23 Op. tit.
24 Op. tit.
2 Lцwith, "Nietzche im Lichte der Philosophie von L.Klages", Reicht Philosoph. Almanach, IV, 310.
26 См.: Klages, Die psychologischen Errungenschaften Nietzches; см. также указанную выше статью Левита. Я многое узнал из них. Но поправки Левита к концепции Клагеса мне представляются необходимыми.
27 См. также: "Сновидение и существование" [настоящий сборник].
28 Freud, XII, 228.
29 Ibid., XII, 239.
30 Ibid., II, 456.
31 Ср.: 32 Vorlesung, Ges. Sehr., XII.
32 Freud, V, 470
33 R.Lotze, Kl. Schriften, III, 310.
34 Freud, XII, 165. 33 Ibid., IV, 435.
36 Lotze, I, 228.
37 Binswanger, Ьber Ideenflucht (Zьrich, 1933). Но См.: также "Фрейд и Великая хартия клинической психиатрии" [настоящий сборник].
38 См. полемические возражения Л отце относительно атомной теории его старого друга Фехнера, Kl. Schriften, III, 1,229.
39 Rene Le Senne, Obstacle et Valeur.
40 Goethe, "Maximen und Reflexionen", Schriften der Goethegesellschaft,
XXI, 57. 4lGoethe, XII, 156.
42 В отношении критики психологии Павлова см:. Erwin Straus, Пе Primary World; F.Buytendijk, Plessner, "Die physiologische Erklдrung des Verhaltens", Acta Bibliographica, A (1935), I, 3.
43 Freud, XII, 4l6f.
44 Ibid., XI, 121.
45 Ibid., XI, 120.
46 Ср.: Frg. 101, Diels.
47 14 апреля, 1912.
48 См.: Freud, VII, x.
49 В этом отношении см. мою полемику с Эрвином Штраусом в: "Geschehnis und Erlebnis", Ausg. Vort. и. Aufs., Bd. II.
?° Lotze, II, 282 f.
51 См.: "Сновидение и существование" [настоящий сборник] и мою работу "Heraklitus Auffassung des Menschen", in: Augs. Vort. u. Aufs.,
Bd. I.
См.: Lцwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen,
к 1935"
См.: работу Фрейда "По ту сторону принципа удовольствия".
Фрейд и Великая хартия клинической психиатрии
Великие идеи, переполняющие гения, защищают его от всего, за исключением собственной судьбы.
Гофмансталь
Сентябрьским утром 1927 года, вырвавшись с заседания конгресса немецких невропатологов и психиатров, проходившего в Вене, я поспешил к Фрейду, поселившемуся близ Земмеринга, чтобы наконец-то ответить на его незабываемый визит ко мне в трудный период моей жизни. Когда я уже собирался уходить, мы заговорили о былых временах. Вскоре, однако, разговор перешел к тому, что двадцатью годами ранее свело и, несмотря на значительные расхождения во взглядах, сблизило нас — к делу всей его жизни, к его "великой идее".
Взяв в качестве конкретного клинического примера случай тяжелого обсессивного невроза, который весьма занимал нас обоих*, я поднял вопрос о том, как следует понимать неспособность таких пациентов предпринять последний решительный шаг к психоаналитическому инсайту, которого от них ожидает врач, вместо чего они продолжают упорствовать в своих страданиях, вопреки всем усилиям и уже достигнутому прогрессу. Пытаясь ответить на этот вопрос, я предположил, что такую неспособность можно истолковать как следствие того, что иначе как "отсутствием духа" не назовешь, то есть следствие неспособности пациента подняться до уровня "духовного общения" с врачом. Я заметил, что лишь на основе такого общения они могут постичь то самое "бессознательное инстинктивное побуждение", о котором идет речь, а значит — предпринять последний решительный шаг к достижению самообладания. Услышав слова Фрейда: "Да, дух — это все", — я едва поверил своим ушам и подумал, что под духом Фрейд
* Замечание Бинсвангера по этому поводу см. также в его работе Freud: Reminiscences of a Friendship (Grьne & Stratton, 1957).
подразумевает что-то вроде разума. Но он продолжал: "Человечество всегда знало, что обладает духом; я должен был показать ему, что существуют еще и инстинкты. Но людям свойственна постоянная неудовлетворенность, они не могут ждать, они всегда хотят все целиком и в готовом виде; однако каждому человеку приходится с чего-то начинать и лишь постепенно продвигаться вперед". Воодушевленный этими словами я решился на большее и объяснил, что оказался перед необходимостью признать в человеке нечто, подобное базисной религиозной категории; во всяком случае, допущение насчет того, что "религиозное" — это явление, производное от чего-то другого, для меня неприемлемо. (Конечно же, я имел в виду не происхождение какой-нибудь конкретной религии и даже не религию в целом, а то, что я впоследствии стал называть религиозными отношением "я —ты".)
Но я зашел слишком далеко и почувствовал, что здесь наши взгляды расходятся. "Религия берет начало в беспомощности и тревоге детства и юности. И не иначе", —резко возразил Фрейд. С этими словами он подошел к своему письменному столу и сказал: "Пришло время показать вам кое-что". Он положил передо мной законченную рукопись, озаглавленную "Будущее одной иллюзии", и взглянул на меня с улыбкой, таящей вопрос. Из общей направленности нашей беседы я легко догадался, что означает заглавие рукописи. Подошло время уходить. Фрейд провел меня до двери. И напоследок, тонко и слегка иронично улыбаясь, сказал: "Сожалею, что не могу удовлетворить ваши религиозные потребности". Он протянул мне руку, но никогда мне не было столь досадно покидать своего великого и глубоко уважаемого друга, как тогда — в тот момент, когда, он во всей полноте осознал ту "великую идею", которая увенчала его титаническую борьбу и стала его судьбой.
Самая важная и доподлинная проблема, с которой приходится сталкиваться при интерпретации работы Фрейда, заключается в следующем: ститать ли его работы только "медленно прогрессирующим" началом, то естьфрагментом, который вполне правомерно рассматривать как часть "целого"? Или же его "великая идея" инстинктивной природы человечества достаточно законченна, чтобы не требовать дальнейшего "развития"? Если же нет, то эту великую идею Фрейда нельзя рассматривать как последнее слово в понимании человека. В связи с этим мы оказываемся перед другой альтернативой — решающей в том смысле, что она помещает толкование Фрейда в подлинно исторические рамки, а именно: следует ли в этом "развитии"
придерживаться Фрейда или же отойти от него? Другими словами: если для нас "понять Фрейда" означает "идти дальше Фрейда", то насколько далеко мы идем в одном направлении с Фрейдом и насколько далеко мы должны быть готовы идти уже без оглядки на него? Беседа, только что приведенная мною, указывает на то, что нам не следует отождествлять теории Фрейда с жизнью его духа и мысли в целом. Во всех монументальных трудах Фрейда я не нашел ни одного места, где бы он ставил "разум", или "дух" в один ряд с инстинктами, ни одного эпизода, где бы он признавал его за основу, ограничиваясь при этом упоминанием "также" инстинктов. Везде в его работах человеческая духовность "зарождается из" инстинктивности. Пожалуй, наиболее очевидно это там, где он прослеживает происхождение этического из нарциссизма.
Однако, замечание Фрейда о том, что человечество всегда знало, что "обладает духом", хотя это, пожалуй, единственное признание такого рода, выражает нечто, подразумеваемое во многих его положениях. К примеру, он пишет Ромену Роллану в день его шестидесятилетия: "Незабываемый человек, воспаривший до величайших высот человечности, пройдя через столькие страдания и лишения!" Даже одна эта фраза отображает глубочайшее осознание человеческого духа. Ибо, если взлет до "величайших высот человечности" через страдания и лишения не подразумевает дух — не производный от чего бы то ни было, независимый человеческий дух —тогда я хотел бы знать, что же еще можно понимать под этим духом*. Это глубочайшее осознание, ибо, говоря словами Ницше, это осознание великого страдания как последней инстанции в освобождении духа. Это "проникнутое болью" осознание, пожалуй даже более целостно, чем его борьба за свою великую идею, выражает жизненный мир человека, гений которого первой признала швейцарская психиатрия, с именем которого и сегодня, целое поколение спустя, она с гордостью связывает свои величайшие достижения, воздавая должное его научному авторитету.
* Я, конечно же, прекрасно знаю, что Фрейд считал, будто "стремление к совершенству, наблюдающееся у немногих людей", вполне можно понимать как "следствие инстинктного подавления". Но, не говоря уже о том, что подобная "сублимация" в область духовного означает нечто иное, чем "генезис" духовного, именно Фрейдовское восхищение как раз и представляет собой духовный акт. Проблема духа в целом — это проблема не происхождения, или генезиса, а содержания. Именно "содержание", обретаемое при возвращении вытесненного, определяет достоинства человека и степень нашего восхищения им.
Говоря, что нам не следует отождествлять доктрину Фрейда с его духовным существованием в целом и что его осознание человеческого духа выходит за рамки его великой идеи, мы, конечно же, неизбежно столкнемся с обычными возражениями: дескать, "теория и существование" никогда не бывают во всем сообразны, Идея и Существование или, как говорит современный французский автор, determination et valeur", несмотря на их "близость", все равно несоизмеримы. Однако наша точка зрения приобретает особый смысл именно потому , что это возражение справедливо; ибо доктрина Фрейда, выражаясь его собственными словами, представляет собой "просто психологию и, конечно же, не всю психологию, а скорее ее подструктуру и, возможно, ее общие основания"1. Но, так или иначе, возникает необходимость отобразить целостное существование —а не одну его грань, какой бы важной она ни была — то это относится как раз к основам психологии. Ибо здесь речь идет о попытке понять человека, иметь в виду всю перспективу нашего целостного существования. Другими словами, это возможно, только если всем своим существованием мы можем отчетливо подтвердить, "что означает" и "как" быть человеком. Только тогда на смену гипотетическому построению, обусловленному и ограниченному своим временем, интеллектуальным окружением и конкретной целью, может прийти реальное самопонимание "человечества", проникновение в сущность основных его онтологических потенциальных возможностей — одним словом, подлинная антропология.
Из всех наук прежде всего именно психология должна уходить своими корнями в антропологию. Поскольку, как мы только что продемонстрировали, идея или мысль никогда не могут вобрать в себя всю полноту существования и поскольку психология, вместе с тем, должна быть наукой, системой истинных, основанных на логике утверждений, мы оказываемся перед альтернативой — либо не уповать на психологию как на науку, либо, напротив, позволить нашему существованию как можно больше овладеть нашей психологической мыслью, то есть мыслить экзистенциально. Здесь не место демонстрировать, что это вообще возможно, и каким образом психология может действительно оставаться наукой, обращаясь при этом к экзистенциализму. По сути дела сейчас уже в этом нет необходимости. Ибо что касается последовательно одностороннего понимания человека с учетом одной только сферы его бытия и одного только категориального аспекта, то есть понимание его как части природы, как "жизни",
* Зд.: определение и значение (фр.). —Прим. ред.
образ мысли Фрейда и клинической психиатрии совпадают. Поэтому, если обсуждение основополагающей установки Фрейда и клинической психиатрии можно свести к этой мысли, то для того, чтоб установить необходимую дистанцию и обрести возможность исторического понимания этой мысли следует уяснить, что человек —это нечто больше, чем "жизнь".
Становление клинической психиатрии, связанное с ее поистине Великой хартией, на которой зиждутся ее основные концептуальные категории и репутация ее в качестве медицинской науки, датируется 1861 годом, когда появилось второе издание Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten Гри-зингера. Статус Гризингера как составителя Великой хартии клинической психиатрии определяется отнюдь не известным его положением, согласно которому психические заболевания представляют собой болезни мозга, — точки зрения, которая была уже, по крайней мере, не чужда как французским, так и немецким психиатрам, а впоследствии полностью признавалась Майнер-том, Вернике и его школой вплоть до Кляйста. Дело даже не в психиатрическом понимании клинического материала того времени — безусловно, достижении Гризингера, в котором он опирался однако на французскую школу, а среди немцев, главным образом, на друга Якоби — Целлера. Скорее, все объясняется тем фактом, что, по его собственным словам, для понимания психических и психопатологических явлений он использовал "свет эмпирической психологии", объясняя, что психические явления, вследствие их "органичности", должны "интерпретироваться" только учеными-естественниками. Поэтому его целям вполне отвечала найденная им психология, позволявшая описывать психические явления так, что у психолога появлялась возможность понимать и интерпретировать их как функции органа, мозга; иными словами, психология, сводившая психическую жизнь человека к количественно варьирующим, динамическим элементарным процессам, протекающим в реальном времени. Сам Гризингер представлял себе эти процессы по аналогии с "рефлекторной деятельностью нервной системы". То есть как "моторно-сенсорные" церебральные рефлексы, однако управляемых так или иначе через некую "промежуточную зону" образных представлений*.
* На этом основывается теоретическая часть толкования сновидений у Фрейда, а также вся его доктрина "генезиса" принципа реальности из принципа удо-, вольствия.
II I
Фактически речь шла о психологии Гербарта2, с введением в нее глубоко спекулятивного понятия "бессознательных представлений" Лейбница, выродившейся в своего рода математическую игру. За этой психологией стоял метафизический реализм, легко трансформируемый в научный материализм. Тогда-то и был расчищен путь для рождения психиатрической теории и провозглашения принципов, сформулированных в духе естествознания, кульминацией чего явилось гипотеза о том, что "умопомешательство является не более чем симптомом-комплексом различных анормальных церебральных состояний". Однако нижеследующие строки показывают, как сдержанно и осторожно Гризингер проповедовал свой материализм, в сравнении с его последователями вплоть до наших дней. "Что же тогда говорить об однообразном и скучном материализме, готовом отбросить самые ценные реалии человеческого сознания просто потому, что он не может отыскать им места в головном мозге? Поскольку эмпиризм рассматривает явления ощущения, воображения и воли как различные виды деятельности головного мозга, он не только не затрагивает фактического содержания психической жизни человека во всем ее богатстве и нарочито придерживается факта свободного самоопределения; он, кроме того, оставляет открытыми собственно метафизические вопросы, а именно: что может выступать в качестве психической субстанции в этих отношениях ощущения, воображения и воли, какую форму принимает психическое существование и т.д. Он вынужден терпеливо ждать того времени, когда вопросы, касающиеся связи между содержанием и формой психической жизни человека, станут наконец проблемами физиологии, а не метафизики". "Фанатикам и приверженцам материализма стоит принять во внимание тот момент, который, по моему мнению, раньше был недостаточно акцентирован при обсуждении. Элементарные процессы, протекающие в нервном веществе, вероятно, одинаковы у всех людей, в особенности если рассматривать их как электрические по своей природе и поэтому, с необходимостью, предельно простые, сводимые к плюсам и минусам. Но каким же тогда образом эти процессы могут непосредственно и сами по себе давать начало бесконечному множеству представлений, ощущений и целей не только отдельных человеческих индивидов, но и целых столетий?"3
Таким образом, мы видим, что эта Великая хартия клинической психиатрии никоим образом не исходит из убеждения в "прямой и исключительной" обоснованности одного единого принципа в качестве руководящей установки в понимании чело-
века. Поскольку она рассматривает свободное самоопределение человека и фактическое содержание его психической жизни во всем ее богатств как нечто, лежащее вне ее собственной сферы, то, тем самым, она оставляет открытой дверь для "описательной и аналитической" понимающей или verstehende психологии. Такая психология, исходящая именно из этого богатства содержания, впоследствии была провозглашена — почти в тех же самых выражениях — Дильтеем и тут же подверглась суровым нападкам со стороны экспериментальных психологов того времени, и не только нападкам, но и остракизму, как это было и с Фрейдом. Однако сам Гризингер приближается к позиции verstehende психологии, когда, к примеру, объясняет: "Почти все навязчивые идеи с самого начала выступают выражением предубеждения или удовлетворения эмоционального интереса индивида. Поэтому исключительное внимание к ним как к основному элементу душевной болезни всегда приводит к однобокому и ограниченному пониманию. Лечение и понимание каждого конкретного случая могут основываться только на проникновении в сущность психических предпосылок, лежащих в основании его появления"4. Мы знаем, что сам Фрейд в "Толковании сновидений"5 называет Гризингера главным свидетелем, говоря о его "острой наблюдательности", позволившей ему совершенно ясно показать, "что идеи сновидений и психозов имеют то общее свойство, что являются исполнением желаний". Кроме того, ссылки на Гризнгера встречаются в работе "Два принципа"6, где Фрейд описывает некоторые случаи галлюцинаторного психоза, когда отрицается событие, вызвавшее психоз. Таким образом, мы видим, что изначально хартия психиатрии оставляла достаточную степень свободы для "бескровной колонизации" по меньшей мере одного из основных принципов Фрейда. Но сегодня эта хартия проявляет признаки такого жесткого догматизма, что ее сторонники нередко ни перед чем не останавливаются, чтобы разоблачить и отлучить каждого ученого, который придерживается, как им кажется, противоположных взглядов.
Гризингерова теория эго, с которой наши учебники по психиатрии зачастую безоговорочно соглашаются даже сегодня, также имеет достаточно точек соприкосновения с фрейдовскими концепциями эго, суперэго, и ид. Ибо эта доктрина построена таким образом, что при необходимости можно переосмыслить динамический конфликт, а, следовательно, и этический конфликт с динамико-патологической точки зрения. Как бы то ни было, Гризингер, так сказать, "более современен", чем Фрейд
поскольку понимает то, что "не ассимилируется" эго и противостоит ему не как ид (оно), а как "человеческое ты", благодаря чему подлинный диалогический характер психического конфликта передан у него намного более точно*. В других отношениях эго для Гризингера также является "абстракцией"7 в том смысле, что оно выступает "тем устойчивым, непроницаемым и постоянным ядром нашей индивидуальности, где собраны результаты нашей психической истории"8. Гризингер также говорит об уменьшении "силы и энергии эго" в том смысле, что "представляющие его комплексы сдерживаются", что вызывает "особенно болезненное психическое состояние, в высшей степени мучительное и угнетающее в своей неопределенности"**, в связи с чем "возникающие патологические представления и побуждения порождают психическое раздвоение, ощущение расщепления личности и угрозу подавления эго"9.
Все приведенное выше процитировано не только с тем, чтобы указать положения психиатрической хартии, соответствующие, по крайней мере, некоторым из существенных элементов теории Фрейда, прежде всего хотелось бы обратить внимание на наиболее важную особенность этой хартии, а именно — на деперсонализацию человека. Сейчас эта деперсонализация зашла настолько далеко, что психиатр (даже в большей мере, чем психоаналитик) уже не может просто произнести: "хочу", "вы хотите" или "он хочет" —единственно, что соответствовало бы феноменологическим фактам. Вместо этого теоретические положения вынуждают его говорить: "этого хочет мое (ваше или его) эго". В этой деперсонализации мы видим влияние того аспекта основополагающей хартии психиатрии, который более всего противостоит любой попытке становления подлинной психологии. Для объяснения этого пагубного влияния достаточно уяснить себе задачу, поставленную перед психиатрией, еще Гризингером, а именно —создание психологии, которая, с одной стороны, позволяет связать материализованный функциональный комплекс с
* Интересно отметить, что Фрейд, когда хочет представить диалогический характер психического конфликта, старается уйти от роли теоретика и начинает рассказывать сказки. Вспомните историю о доброй волшебнице в Vorlesungen (Gesammelte Schriften, VII, 221 f.). Насколько мне известно, он представляет эго, обрашающися к ид, лишь единожды: "Когда эго обретает черты объекта, оно фокусируется, так сказать, на ид как на объекте любви и пытается компенсировать отсутствие этого объекта, говоря: "Смотри, я так похоже на этот объект, что ты вполне можешь любить меня" (Ges. Seht:, VI, 375).
** Здесь мы имеем феноменальную картину длительного действия "бессознательных" комплексов, которую непременно следовало бы включить в "Феноменологию бессознательного".
материальным органом, а, с другой — позволяет сам этот орган свести к функциям и понять с точки зрения этих функций. Чтобы убедиться в этом, то есть увидеть, насколько научный "образ" мозга варьирует с изменениями психологической теории, следует сравнить, скажем, "мозг" у Майнерта и у Гольдштейна. У первого он представляет собой нечто вроде бесконечно сложной амебы с простирающимися во внешний мир "псевдоподиями" или "щупальцами"; у второго — это "орган выбора", деперсонализированный, высоко развитый и вполне отвечающий самым различным ситуациям и задачам.
В жизни наций наиболее долговечными и плодотворными конституциями и гражданскими кодексами оказываются те, которым чужды политический экстремизм и правовая однобокость. То же самое справедливо для жизни науки. То что проект Гризингера почти сразу и надолго приобрел характер психиатрической хартии в немалой степени обусловлено тем, что он не поддавался предубеждениям и избегал излишнего акцентирования тех или иных догм, не подвергая риску свою репутацию. Вдобавок, он очень четко понимал, что было допустимо в то время, а что нет и имел ясное видение того, что способствует решению главной задачи психиатрии. В этом, прежде всего, и заключается его гений. С особой ясностью мы видим это в его позиции по вопросам патологии мозга. Позволяя себе верить в будущее слияние психиатрии и патологии мозга, он все же полагал, что "в настоящее время любая попытка осуществить такое слияние преждевременна и совершенно тщетна". "Если основную внутреннюю связь с патологией мозга просто иметь в виду и если здесь, как и там, просто следовать тому же самому надлежащему методу (как можно более анатомически-физиологическому), тогда монографически углубленная разработка таких симптоматически структурированных болезней поможет, а не навредит патологии мозга. Однако вероятность подобного слияния становится все меньше, поскольку психиатрия едва ли займет свое место как часть патологии мозга, и поскольку многие практические аспекты психиатрии [проблемы, касающиеся функции психиатрических лечебниц, связь с судебной медициной и т.д] задают для психиатрии ее собственную специфическую сферу деятельности и проблемы, а также требуют, во всяком случае, сохранять известную долю автономности, пусть даже в качестве церебральной патологии"10.
В этом ключе составитель Великой хартии психиатрии обращается к последующим поколениям как просвещенный
авторитет и постановщик задач. Однако не долго; его предостерегающий голос вскоре будет приглушен пьянящими успехами быстрого прогресса в анатомии мозга и локализации функций. Действительно Майнерт многозначительно заявил: "Я возвожу наши психиатрические знания к Эскиролю и знаю, как оценить модель, предоставленную ему Гризингером"*.
И тем не менее Майнерт грубо нарушил тонко выстроенное Гризингером равновесие между психологическими и церебрально-анатомическими концепциями и терминологией, придавая клеточной и волокнистой структуре мозга настолько большое теоретическое значение, что психология была низведена до ранга не только придатка анатомии и патологии мозга, но простого перевода все тех же понятий на другой язык. Это могло привести — как например, в работе великого фон Монакова — к прямому сопоставлению "мозга и воспитания"**, стало возможным рассматривать "высшие" части мозга как "мастерские добра", объяснять религию и миф, ссылаясь на "проксимальную ассоциацию", говорить об "аппарате духовных процессов" и наделять отдельные кортикальные клетки свойством "одухотворенности". В этих и последующих, более современных рассуждениях о кортикальных клетках и локализации ясно видна опасность попытки введения количественных определений и чисел в психологию. Особенно показательный пример такой опасности представляет собой утверждение Майнерта о том, что разум не может быть монадой, ибо имеются два полушария, наделенные сознанием лишь в соединении одно с другим11. То, что Рокитанский так высоко ценил в молодом Майнерте, а именно его искреннее стремление "придать психиатрии характер научной дисциплины, основывая ее на анатомии", было обречено на неудачу из-за неумеренности этого стремления, из-за отсутствия у него свойственного Гризингеру непревзойденного видения психиатрического направления в целом и гармонии частных целей, обусловленной и развиваемой таким видением. Подобно любой медицинской науке, клиническая психиатрия не приемлет слишком много теории. И любой, кто хоть немного превысит эту меру, рискует быть не допущенным в ее законодательное собрание. В этом ответ на вопрос, почему Гризингер был допущен туда, а представители, к примеру, ранних психических, этических, соматических или "эклектических" теорий — нет, почему
* T.Meyncrt, Klinische Vorlesungen wber Psychiatrie. Для Майнерта рефлекторный
процесс также первичен, а сознание лишь вторично. ** См. сборник популярных научных лекций.
Гризингер, а не Иделер, Хайнрот или Флеминг, Якоби или Нассе; почему Крепелин, а не Майнерт или Вернике; почему Блейлер, а не Фрейд.
Теперь мы можем утверждать смело, что из всех названных авторов наиболее всеобъемлющий теоретический психиатрический ум принадлежал Вернике. Даже его учитель, Майнерт, говорил о своей собственной работе, что стремится рассматривать психические расстройства "не только с точки зрения терапии, точки зрения, которая рассматривает психические явления в связи с их последствиями и останавливаясь, даже не пытаясь добраться до их корней, или хотя бы коснуться той сферы, где скрываются эти корни, то есть анатомии мозга". Скорее речь идет о том, что "теории психического заболевания следует поднять до сравнительного научного уровня"12. Таким образом, концепция психоза уже ничем не напоминает то, что он представляет собой с "терапевтической" точки зрения. Это справедливо и в отношении Вернике. Хотя он и был выдающимся клиницистом — наблюдателем и исследователем, хотя он проанализировал огромное количество эмпирического клинического материала и хотя мы обязаны ему исключительными и отчасти совершенно новыми описаниями индивидуальных психопатологических состояний, его основной интерес был сосредоточен не на современной терапии как таковой — то есть описательной и классификационной медицинской науке о психических расстройствах и их анатомических и биологических основах. Скорее, его привлекало нечто, имеющее совершенно иное значение — теория психического заболевания как психопатологии функций мозга. Как неустанно повторял его ученик, Липманн: "Вернике с удивительным постоянством и целеустремленностью всегда хотел осуществить слияние психиатрии с невропатологией функционирования мозга"; он стремился "превратить психическое в объект невропатологии", он исходил в объяснении патологии идей — например, связанной с манией величия идеи — не из содержания идеи, а из ее динамического значения. Для него, в отличие от Кальбаума и Крепелина, психоз был отнюдь не названием "болезни" со своей причиной и ходом течения. Для него это скорее "совокупность психических отклонений, вызванных нарушением основных функций нервной системы"13.
Это влияние Вернике, намного большее и дольше сохранявшее свою власть на клиническую психиатрию, в сравнении с Май-нертом, обусловлено, по моему мнению, не только более глубоким знанием структуры и функции мозга и более точными
методами наблюдения и исследования. Оно обусловлено, скорее, большей выразительностью и последовательностью его теории, а также его частыми спорадическими попытками свести психологию к физиологии. Например, несмотря на достигнутый прогресс в локализации функций головного мозга, или даже, пожалуй, именно благодаря ему, он придает гораздо меньшее значение типологии и количеству анатомических элементов мозга, чем типологии, интенсивности и скорости протекания физиологических функций мозга. В высшей степени поразительно то постоянство, с каким он применяет этот подход ко всей области симптоматологии конкретных патологических состояний. Приведем один пример. Он умудряется обозначить полет мыслей, ком-пульсивную одержимость и "характерную идиосинкразию" маньяка одним и тем же термином —нацеленность* —и выводит их происхождение из одного единственного функционального нарушения.
Дальнейшие поправки в хартии клинической психиатрии, в той мере, в какой они обязаны своим появлением не Вернике, но связаны с именами Кальбаума, Крепелина и Блейлера, достаточно хорошо известны, чтобы требовать дополнительных разъяснений. Как мы знаем, особой новизной в дальнейшей разработке хартии отличается подлинно медицинский, клинический подход, выразившийся в тщательном группировании, или классификации заболеваний в соответствии со связанными с ними патолого-анатомическими состояниями, их симптоматикой и историей болезни на протяжении всей жизни человека. Вместе с тем было проведено разграничение между формами клинических состояний или "привычными формами" (синдромами Hoche) и подлинными формами или процессами заболевания. Решающими факторами здесь выступают клинические данные относительно типологии, наличие или отсутствие анатомической патологии мозга, выяснение причины и течения болезни, наблюдение за пациентом, продолжающееся иногда на протяжении всей его жизни, и главное — расширение диапазона клинического интереса от отдельного индивида до всего его семейного окружения и родственных связей.
Итак, если и теперь психические расстройства по-прежнему понимаются как заболевания мозга, все же справедливо и то, что наблюдение, изучение и лечение выходят далеко за рамки неврологической психиатрии и распространяются на организм в целом. Клиническая психиатрия теперь становится ответвлением
* См., например, его выделение в психическом процессе психомоторного, интрапсихического и психосенсорного "трактов".
общей и специализированной биологии, то есть учением о целостной организменной функции. Таким образом, ясно, что интерес к взаимосвязи между психическими явлениями и процессами, протекающими в мозгу поубавился, во всяком случае, эта взаимосвязь уже не находится в центре всех научных наблюдений. Соответственно, совершенно иной становится и роль "медицинской психологии". Вместо попыток определить взаимосвязи между структурой и функциями мозга, теперь она сосредоточена на явлениях, происходящих "в организме", и лишь отчасти определяемых с психологической точки зрения. Психология теперь становится "областью" биологии. Ярчайшими примерами этого выступают биопсихологические теории фон Монакова и Павлова. Инстинкты уже не являются, как у Гризингера, особенно "интенсивными" ощущениями и чувствами, но скорее специфической концентрацией множества частичных манифестаций события в организме; к этой категории следует отнести и психические явления в силу их трансформации в биолого-неврологический "психизм". Ощущение, чувство, образ, мысль, умозаключение — одним словом психизм в целом, теперь занимает свое место наряду с химизмом, физикой и механикой организма. Вместо, если можно так выразиться, неврологического материализма, мы наблюдаем полный триумф биологического материализма. В нем воплощается и "великая идея" современной психиатрии: она по-прежнему основывается на старой хартии, пренебрегая тем фактом, что человек — это нечто большее, чем "жизнь". Для нее —согласно ее официальной программе и мнению большей части ее сторонников —мораль, культура, религия и даже философия в равной мере относятся к разряду "биологических фактов".
Этому противостоят пробные попытки антропологических исследований в психиатрии, где человек не классифицируется по категориям (естественнонаучным или каким-либо иным), а понимается, исходя из перспективы его собственного —человеческого — бытия; предпринимаются также попытки описать основные ориентиры этого бытия. Таким образом, "психическое заболевание" изымается из контекста либо чисто "естественного", либо "психического" и понимается и описывается в контексте первичных потенциальных возможностей человека. Таким образом, обнаруживается не только то, что психически больные "страдают от тех же самых комплексов, что и мы", но и то, что они движутся в тех же, что и мы, пространственно-временных координатах — хотя и иными способами и путями. Здесь
психическое заболевание не объясняется с точки зрения нарушений либо функции мозга, либо биологической функции организма и не понимается в соотнесении с жизненным циклом развития. Оно описывается, скорее, в его связи со способом и образом конкретного бытия-в-мире.
Если мы хотим оценить значение доктрины Фрейда для клинической психиатрии в соответствии с объективными критериями, а не на основании субъективного знания и предпочтения, тогда следует иметь в виду то, что я описал как Великую хартию клинической психиатрии, а также ее историческое развитие. Далее я буду говорить о значении Фрейда только в связи с этой Великой хартией.
Я уже вскользь упоминал, что "великая идея" Фрейда пересекается с "великой идеей" клинической психиатрии в стремлении объяснить и понять человеческие существа и человечество в целом с точки зрения "жизни". Как доктрина Фрейда, так и взятая за основу клинической психиатрией хартия пронизаны одним духом — духом биологии. Для Фрейда психология точно так же является (биологической) естественной наукой. "Самые важные, и вместе с тем самые темные моменты психологического исследования" составляют "инстинкты организма"14. Инстинкт служит "концептуальной границей между соматическим и психическим". Психический компонент не является чем-то автономным или данным в ощущении, а просто репрезентацией, "представляющей органические силы"15, то есть "воздействия, идущие от тела и передающиеся психическому аппарату"16. Для Фрейда именно физиологические и химические процессы действительно даны нам опосредованно, то есть действительно стоят за все, и именно их нам приходится описывать "пиктографическим языком психологии", ибо "более простого" языка для этого у нас пока нет. "Несовершенство нашего описания скорее всего исчезнет, если мы сможем заменить психологические термины физиологическими или химическими. Они также представляют собой лишь пиктографический язык, но этот язык известен нам намного дольше и, кроме того, он, пожалуй, проще"*.
Таким образом, психология не более чем подготовительный этап, необходимое зло, от которого биология однажды освободит нас. Во всем этом нет ничего противоречащего Великой хартии психиатрии. Хотя, как мы видели, глубокие идеи составителя
* Ges. Sehr., VI, 253. Этот отрывок проливает некоторый свет и на метафизику Фрейда. Представляется, что в образах научного языка и символах непостижимого он видит неподдающуюся описанию реальность, стоящую за ними.
этой хартии, отличавшиеся "широтой охвата", довольно скоро были интерпретированы его последователями в значительно более узком, неврологическом или биологическом смысле —что я продемонстрировал на примере Майнерта и Вернике, и что нам известно в отношении фон Монакова, Блейлера, Кречмера и многих других.
Поэтому, чтобы правильно понять идеи Фрейда, следует исходить отнюдь не из психологии — подобную ошибку долгое время допускал и я. В противном случае невозможно воздать ему должное; к тому же на каждом шагу приходится сталкиваться с совершенно не психологической концепцией психического аппарата, с его топографически выстроенной структурой, где накладываются одна на другую вполне определенные, динамически и экономически связанные друг с другом "системы". Но если эти концепции понимать биологически — как этого хотел Фрейд — тогда они вполне отвечают требованиям психиатрического мышления, которое, подобно теории Фрейда, согласуется и с теориями Фехнера (локализация, принцип удовольствия-боли, квантификация психики, психофизика), и с теорией Гербарта (динамика и конфликты представлений).
Однако это только начало. Слишком мало внимания уделялось тому факту, что Фрейд никогда не отрекался от своих корней — ни что касается физиологических (Брюке) ни, особенно, что касается неврологии и невропатологии (Майнерт, Вернике). Мы все еще обнаруживаем их в его анализе эго и ид (1923), в контексте весьма любопытного рассмотрения связи между связи между эго, системой Psc, системой Pcpt-Csw. вербальными образами (том II). Фрейдовская "систематизация" психики, сводящая ее к психическому аппарату, не только имеет своим прецедентом "ментальный аппарат" Майнерта, но и должна пониматься "неврологически", то есть с точки зрения физиологии и физиопатологии мозга*. В этом контексте исключительный интерес представляет изучение афазии Фрейдом. Без детального ознакомления с ним ни историческое, ни герменевтическое истолкование доктрины Фрейда невозможно —и не только потому, что именно теория афазии впервые позволила ему прийти к конструкции неврологического (в истинном смысле этого слова) психического аппарата, хотя и ограниченного рамками неврологичес-
* В противоположность Майнерту, он избегает искушения локализации функций в головном мозгу: "Я буду совершенно пренебрегать тем фактом, что ментальный аппарат ... известен нам также в форме анатомического препарата..." См.: Ges. Sehr., II, S. 456.
кой основы языка и речи. Скорее же благодаря тому факту, что здесь Фрейд единодушен с Х.Джексоном, ученым, привнесшим в теорию афазии качественно новую идею, совершенно чуждую Вернике*. На основе понятий биологической инволюции и дезинволюции (или потенциации и депотенциации), которые позднее так плодотворно развивал Гольдштейн, Джексон установил связь между неврологией и биологией функции. Именно на этом основывается мысль Фрейда. В конечном счете величие его концепций и его судьбы определяется тем фактом, что он распространил такой подход на всю психическую жизнь индивида, общества и человечества в целом, а также тем, что он следовал ему и развивал его на протяжении десятилетий непрерывного, упорного, подчас мученического труда.
Кроме того, первоначально хартия клинической психиатрии включала в себя и эволюционные идеи, причем не только в отношении эволюции мозга в диапазоне от животных до человека, но и в отношении "временных метаморфоз", связанных с возрастом: "В этих временных метаморфозах, этих прогрессиях от постепенного развития к пику зрелости и затем к упадку, активность мозга аналогична всем другим организменным функциям и проявляет себя как подчиняющаяся законам, развития организма"17. Джексон расширил понятия развития и деградации так, чтобы они включали патологические нарушения психофизической функции мозга, а Фрейд пошел даже дальше и включил сюда патологические нарушения общего психического развития человека. Хотя предложенное Фрейдом понимание допускает связь структуры и функции мозга, в целом оно выходит за рамки проекции на мозг. Действительно, даже при афазии взаимосвязь оказывается бесконечно более сложной, чем можно было бы ожидать, основываясь на известной схеме проекции. В этом отношении Фрейд, в отличие от Майнерта, придерживался разумных теоретических ограничений и постоянно подчеркивал умозрительный характер своих попыток связать структуру и функцию мозга. Он уже знал от Джексона, что мозг способен реагировать как единое целое на частичное повреждение речевого аппарата. Он знал, что "частичная потеря является выражением
* Freud, Zur Auffassung der Aphasiefi: Eine historische Studie (Leipzig, Vienna, 1891). Эта работа —часто цитируемая сегодня в связи с проводящимся в ней разграничением между асимволическими и агностическими расстройствами при афазии — пронизана духом новизны не столько потому, что Фрейд уже тогда говорил, что "значение элемента локализации для афазии было сильно преувеличено" (с.107), сколько потому, что здесь он признал особое значение теорий Х.Джексона в изучении афазии.
общей функциональной деградации" или "ослабления" этого аппарата: "он отвечает на частичное повреждение функциональным расстройством, которое может вызываться и нематериальным дефектом"1^. Эта последняя фраза — выделенная самим Фрейдом — имеет, как мне кажется, высочайший смысл в развитии его теорий! Оценивая функцию речевого аппарата в различных патологических условиях, Фрейд отдавал предпочтение утверждению Х.Джексона о том, "что все эти способы реагирования представляют собой случаи функциональной дезинволюции высоко организованного аппарата и соответственно отвечают ранним условиям его функционального развития"19. Он цитирует положение великого английского ученого, где подчеркиваются специфические для каждого временные параметры расстройства: "У различных людей различное количество нервных связей разрушается в различных местах и с различной скоростью"*.
Все, что Фрейд когда-либо знал о физиологической и физиопа-тологической функции "мозга" и его сложных механизмах, было ему известно еще до того, как он предпринял специальное исследование неврозов. Здесь мы можем увидеть мостик, приведший Фрейда к пониманию того, каким образом мозг реагирует на "нематериальный дефект", пониманию, легко согласующемуся с его опытом гипноза и внушения. По мере продвижения Фрейда за пределы этой области и накопления знаний о жизненно-мсто-рическом элементе невроза в целом и о детском периоде жизненного цикла в частности, с пониманием роли сексуальности и защитной функции как подавления — одним словом, с осознанием роли психического конфликта в неврозе, и соответственно с расширением толкования исторического генезиса невротической симптоматики, элемент биологического развития все более явно занимал центральное место для Фрейда как биолога. Поскольку развитие — единственный исторический принцип, признаваемый биологией. В связи с этим основная цель Фрейда теперь заключалась в том, чтобы свести все, с чем он сталкивался в историческом плане, к биологическому развитию и проецировать на него**. Оказалось, что представлений Гризингера о "временных метаморфозах", росте и истощении
* Freud, Zur Auffassung der Aphasien, S. 102. Здесь он примыкает к идее критического психофизического параллелизма Джексона. В то же время он обнаруживает, что находится под влиянием работы "Логики" Дж.Милля (ibid., S. 80). Подобно большинству психиатров, в глубине души Фрейд остался позитивистом и психологом в духе Милля.
** Однако главная задача психиатрии этим не исчерпывается; см. мою работу "Lebensfunktion und innere Lebensgeschichte".
активности мозга далеко недостаточно. Теперь, что касается его законов развития организма (которые распространяются и на "психическую активность мозга), следовало обратиться к еще более ранним истокам. Но, как отмечалось выше, для Фрейда "организм" означает общую сумму инстинктивных процессов, охватывающих психические, химические и физические явления в рамках биологической индивидуальности. Короче говоря, это означает "инстинкты" и их спецификацию применительно к конкретным задачам и действиям по их выполнению. Для него нормальное и патологическое развитие организма эквивалентны нормальному и патологическому развитию "инстинктов" в их функциональном взаимодействии. Но вместе с тем, мы никогда не сталкиваемся с таким явлением, как "частичное" расстройство инстинктивной сферы. На частичное нарушение, на ослабление или подавления отдельного инстинкта или компонента инстинктивной сферы всегда реагирует весь организм. Результатом этого чрезвычайно сложного жизненного процесса является невротический симптом как выражение деградации или "сбоев" в функционировании организма в целом. Он точно так же реагирует на повреждение, как и речевой аппарат или мозг. Он стремится приспособиться к нему,, справиться с ним отступая на более низкий уровень функционирования. Таким образом, начиная с Фрейда, мы говорим о неврозах и психозах тогда, когда в аппарате мозга происходит нарушение, которое "не полностью деструктивно" и в большинстве (чисто функциональных) случаев оставляет его физическую структуру не затронутой, но при этом заставляет или побуждает его как бы вернуться вспять (регрессировать) к более ранним способам функционального реагирования (которые, между тем, бывают несколько обостренными). Так как здесь мы имеем нарушения, оставляющие, в противоположность подлинным повреждениям мозга, физическую структуру аппарата нетронутой, то организм может ограничиться возвратом к уровням, уже пройденным в ходе его индивидуального развития. Это жизненное явление, охватывающее в своей целостности деструктивный, эволюционный и ретроэволюционный факторы и протекающее в определенное время с определенной скоростью у определенного индивида, названо Фрейдом неврозом (или психозом). В такой концепции психоза значительно больше биологических аспектов, чем у Вернике, что отдаляет ее от клинической психиатрии, но, тем не менее, в ней нет ничего противоречащего изначальной Великой хартии. Однако самым важным аспектом тут, бесспорно, является понятие регрессии, которое, хотя
и подобно дезинволюции, однако намного глубже связано с психикой благодаря своей "активной", "подавляющей" тенденции. Оно охватывает и жизненную функцию возврата к прежнему состоянию (фиксацию), и связанные с жизненным циклом силы сдерживания ("подавления")*. Как мы знаем именно интенсивность и границы этого "обратного" движения, и то, как далеко он может зайти, определяют форму неврозов и психозов, а также всю их симптоматику.
Роль, отводимая Фрейдом этому аспекту в своей теории сексуальности, слишком хорошо известна, чтобы возвращаться к этому здесь. Теория сексуальности Фрейда была сформулирована для того, чтобы подвести основу под всю эволюционную и революционную систему; это теория, в которой видно блестящее развитие его понимания патологии функций мозга в концептуальное построение, сводящее воедино человека, мир и человеческие переживания.
Признать это — значит признать также, что интерпретация и обозначение тех или иных векторов инстинктивности имеет вторичное значение для психиатрии. То, что Фрейд в очень широком смысле понимает под сексуальностью, не сводится к тому, что понимает под сексуальным побуждением психолог, и тем более к тому, что психолог, философ или теолог понимают под любовью. Достаточно представить себе, как бесконечно далеки Фрейдово понятие любви к самому себе в смысле нарциссизма и, скажем, себялюбие Аристотеля (philautia) или любовь к самому себе в христианском смысле**. Фрейд всегда стремился перевести описательный язык психологии на "более простой" и — можно
* Фрейд внес больший вклад в понимание внутреннего цикла развития, чем кто-либо другой до него. Однако мы проводим различие между своей и его позицией, состоящее в том, что мы понимаем жизненно-исторический элемент как фундамент "антропологии", тогда как Фрейд видит в нем лишь "образный язык" для биологических явлений. Концепция регрессии, как она представлена в "Толковании сновидений" (как перерождение мыслей в образы), несомненно уступает по широте более поздней, отличающейся особой клинической ясностью, и изложенной, например, в "Psychoanalytischen Bemerkungen ьber den Fall Schre-ber" {Ges. Sehr., VIII).
** Здесь дело не просто в отсутствии феноменологического описания того, что он понимает под любовью, а скорее в отсутствии —что гораздо важнее — какого-либо объяснения или описания того, что он понимает под "самостью". Насколько чувствительна к этому недостатку антропология, к основным концептам которой относится и понятие "самости", настолько же равнодушна к нему официальная психиатрия, усердно избегающая феноменологического описания и истолкования значения своих психологических концептов. Разграничение Вернике сомато-, ауто- и аллопсихических расстройств — яркий пример такого пренебрежения. Эти и многие другие аналогичные разграничения представляют собой не более чем произвольно расставленные вехи. Они никогда не могли бы образовать основу концептуальной конструкции психопатологии.
добавить — более унифицированный и более грубый язык химических и физических "образов", которые, как ему казалось, ближе к реальности. Фрейда не занимает "пансексуализм", в особенности в период высочайшего подъема его творчества, связанного с написанием работы "По ту сторону принципа удовольствия". Бесповоротное признание им существования двух видов инстинктов — инстинкта жизни и инстинкта смерти (чему он по его признаниям20 был обязан своей "опоре на биологию", в частности на Геринга) проясняет, что собственно Фрейд понимал под сексуальностью и сексуальными инстинктами: отнюдь не нечто психологическое или же нечто подобное физиологическому, а скорее тенденцию, присущую фундаментальным биологическим процессам — процессам инволюционным и ассимилятивным, то есть "конструктивным", в противоположность процессам дезинволю-ционным и диссимиляционным, или "деструктивным"*.
То же самое можно сказать и о "бессознательном". В психическом аппарате оно прежде всего представляет собой связанную с развитием систему и лишь во вторую очередь служит выражением образного языка психологии. Это же верно в отношении оральной и анальной стадий и т.п., терминов эго, ид, суперэго. Что касается последнего, то для Фрейда индивид представляет собой "неведомое и бессознательное ид, на поверхности которого находится эго, развивающееся из его ядра, системы Pcpt. To есть по своему существу эго выступает как представитель внешнего мира, реальности, над которым стоит суперэго, как "поверенный внутреннего мира"**. Но
* Что касается употребления Фрейдом выражений Aufbau [конструкция] и Abbau [деструкция], более всего соответствующих терминам, используемым Джексоном, а также Герингом, следует прежде всего обратить внимание — наряду с работой "По ту сторону принципа удовольствия" — на следующее обобщение в его "Теории либидо": "Широкое понимание процессов, составляющих жизнь и ведущих к смерти, похоже, требует от нас признания существования двоякого рода инстинктов, соответствующих антагонистическим прцоессам конструкции и деструкции в организме. Одного рода инстинкт безмолвно ведет живое существо к его смерти и потому заслуживает названия "инстинкта смерти". Внешне он проявляется в виде тенденций к деструкции [Destruktion} или агрессии во взаимодействии множества многоклеточных организмов. Другая группа инстинктов — это более знакомые аналитикам основанные на либидо сексуальные инстинкты, или инстинкты жизни. В целом их следует понимать как Эрос, цель которого — стремление к порождению все более крупных форм объединения живой субстанции, к вечному продолжению жизни на все более высоких уровнях развития. Эротические инстинкты и инстинкт смерти обычно в живом существе присутствуют в слиянии и единстве. Однако также возможно и их рассогласование. И тогда вся жизнь сводится к конфликту, к борьбе разнонаправленных инстинктов, что ведет — через смерть — к торжеству в человеке деструктивного начала, но вместе с тем —через продолжение рода —к торжеству Эроса См.: Handwцrterbuch fьr Sexualwissenschaft; Ges. Sehr., XI, S. 222 f.
что касается оральной и анальной тенденций или — как мы можем еще сказать —тенденций покорности и агрессивности "индивидуального психобиологического аппарата", то эти понятия, как и в целом идеи Фрейда, основываются на опыте и наблюдениях за характером поведения людей. И эти особенности поведения, несомненно, важны для любой подлинной антропологии, стремящейся выяснить фундаментальные и смысловые матрицы для человеческих существ. Я научился, например, рассматривать экзистенциальную смысловую матриц значения "орального" — (движение) по направлению ко мне и (движение) от меня, или того, что передается словами "разинуть пасть" —с антропологической точки зрения*.
Наша тема была бы не вполне очерчена, если в заключение мы не рассмотрим еще раз связь исследовательских методов и терапии Фрейда с Великой хартией клинической психиатрии. Относительно первого можно сказать, что именно Фрейд поднял психиатрические методы исследования до уровня методики в истинно медицинском смысле этого слова. В дофрейдов-ский период психиатрическая "аускультация" и "перкуссия" нервнобольного проводилась, так сказать, через рубашку пациента, то есть прямого затрагивания личных эротических и сексуальных тем всячески избегали. Лишь тогда, когда врач оказался способен стать в полной мере врачом, включив в сферу исследования личность пациента в целом, а также симпатические, антипатичные и сексуальные силы, направленные на него со стороны пациента, —только тогда он смог создать между собой и пациентом атмосферу личностной дистанции и одновременно медицинской чистоты, дисциплины и корректности. Именно благодаря этой атмосфере психиатрическая методика поднялась до. уровня общей медицины. В частности, это стало возможным для Фрейда лишь потому, что все его существование было подчинено его исследованиям, а также в силу особенностей его образа мыслей, которые я только что обрисовал. В "отношении" пациента к доктору он видел исключительно регрессивное повторение психобиологически более
+ См. Ges. Sehr., VI, S. 367, 380. То, что "Я и Оно" (самой значительной из поздних работ Фрейда после "По ту сторону принципа удовольствия") звучит почти шокирующе для психологов и антропологов, становится ценнейшим строительным материалом фрейдовской биологической системы.
* См. Ьber Psychotherapie; Ober Ideenflucht (S. 114 ff.). Конечно же, существуют еще и другие смысловые матрицы, не признаваемые психоанализом, такие, например, как подъем-падение. По этому поводу см. статью "Сновидение и существование" в настоящем сборнике.
раннего родительского "объект-катексиса" и игнорировал то новое, что возникало при встрече с ним пациента. Это позволяло врачу как личности оставаться на заднем плане, и выполнять свою техническую роль, не поддаваясь личностным влияниям — точно так же, как происходит в случае хирургов или рентгенологов. Его методика выявления свободных ассоциаций пациентов идет рука об руку с этим необходимым и поэтому бессознательным повторением вытесненных "ситуаций" и обусловленного ими сопротивления. Не следует забывать, что понятие строгого психического "детерминизма", которым Фрейд руководствовался в этой методике, не основывалось на какой бы то ни было умозрительной теории. Оно основывалось скорее на установленных биологических и психологических фактах, а именно — на том, что всякий "опыт", вплоть до простейшего восприятия или даже ощущения (Э.Штраус, Шелер и другие), в соответствии с типом и степенью его воздействия занимает определенное место (Stellenwert) в развитии индивида. В связи с этим, восприятие, ощущение или "ассоциация" снова должны явственно проявиться при повторении всей ситуации, которой они обязаны своим "происхождением и размещением.
Итак, мы подходим к заключению. Фрейд однажды сказал, что психоанализ занимает по отношению к психиатрии положение, "в чем-то аналогичное положению гистологии по отношению к анатомии"; "одна изучает внешнюю форму органа, другая — его строение из тканей и элементарных частей; противоречие между такими двумя науками, когда одна выступает продолжением другой, немыслимо"21. Я надеюсь, мне удалось показать, правоту Фрейда, что касается последнего, но не первого из этих утверждений. В психиатрии, так сказать, "гистологическое", то есть "микроскопическое" исследование будет соответствовать более детальному, "микроскопическому" анализу клинической симптоматики и ее материального субстрата, предпринимаемому с целью углубления и расширения классификации психозов относительно их общей этиологии и протекания. Следовательно, здесь мы имеем, скорее, две пересекающиеся точки зрения. Перед нами та же ситуация, что и в случае доктрин Майнерта и Вернике. О последней Липманн сказал, что она нацеливает исследования в направлении, "перпендикулярном" обычно принятому в клинической психиатрии. Все эти доктрины, затрагивая область клинической психиатрии, пытаются двигаться в одном направлении: от "знания психических явлений во всем их многообразии" к "проникно-
вению к их корням". Майнерт стремится придать психиатрии характер научной дисциплины "посредством анатомического обоснования", Вернике — "привязав" ее подход к невропатологическим функциям мозга, а Фрейд — расширяя психиатрическое исследование до изучения психобиологической эволюционной истории организма в целом.
Психическое становится у Майнерта объектом анатомической, у Вернике невропатологической, а у Фрейда биологической теории. Но, как мы видели, дух психиатрической хартии не допускает превосходства никакой теории и поэтому психиатрия не может основываться всецело и на теории Фрейда. Впрочем, что касается Фрейда, мы не нашли в его теории ничего, что бы противоречило этой хартии. Хотя в его доктрине, пожалуй, преобладает материалистический подход — тем самым она вполне отвечает замыслам основателей психиатрической хартии — однако, направление, намеченное им для психиатрических исследований, пожалуй, единственное, которое не "оставляет без внимания действительное содержание психической жизни человека во всем ее богатстве". То, что это богатство "действительного психического содержания", как выражается Дильтей, проецируется на психобиологический аппарат и сводится к нему, должно было, по меньшей мере, настораживать догматических приверженцев психиатрической клинической хартии. Ибо это приводит нас к чрезмерному упрощению жизни психики и к сведению ее к грубой естественнонаучной схеме22, определяемой несколькими принципами. И тем не менее Фрейду удается выявить мельчайшие детали и источник этого богатого психического содержания. Он следует нелегким путем, перенося и переводя психическое содержание в различные биологически функциональные "системы" и "способы выражения", а затем строит из их основе широко объемлющую и сложную концептуальную систему. Поэтому мы можем сказать о Фрейде, что он не просто возводит свое здание на фундаменте, заложенном Гризингером, который в психиатрической хартии заявил о связи эмоциональных устремлений с недугом, и что теория Фрейда не просто заполнила ощутимую "брешь" в Великой хартии, но что вдобавок к этому, его теория углубляет сами идеи, уже содержащиеся в этой хартии, проливая свет на вещи, которые было бы невозможно увидеть, исходя из одной лишь хартии. Таким образом человек перестает быть только одушевленным организмом; это "живое существо", имеющее свое начало в конечном жизненном
процессе на этой земле и умирающее своей жизнью и живущее своей смертью; болезнь —уже не вызванное внешними или внутренними причинами нарушение структуры или функции организма, а выражение нарушения "нормального " течения жизни на пути к смерти. Болезнь и здоровье, "смятение" и "безмолвное спокойствие" жизни, борьба и поражение, добро и зло, истина и заблуждение, человеческое благородство и низость —все это и теперь здесь, все это лишь сменяющие одна другую сцены в разворачивающейся перед нами драме единства жизни и смерти. Но, следует добавить, "человек" здесь еще не человек. Ибо быть человеком означает не только быть существом, порожденным союзом жизни и смерти, существом, брошенным в круговорот жизни и смерти, его вечным движением, то погружающимся в уныние, то воспаряющим духом — а быть существом, смотрящим в лицо своей судьбе и судьбе человечества, существом "стойким", то есть самостоятельно выбирающим свою собственную позицию и стоящим на своих собственных ногах. Таким образом, у Фрейда, как мы его представляет здесь, ни болезнь, ни тяжелый труд, ни страдания, боль, ни чувство вины или заблуждения — это еще не (исторические) вехи и стадии; ибо вехами и стадиями могут стать не просто быстротечные сцены разыгрываемой драмы, но "непреложные" моменты исторически определенного бытия, бытия в мире как судьбы. То, что мы живем, подчиняясь силам жизни — это лишь одна сторона истины; другая состоит в том, что мы сами задаем эти силы, и тем самым нашу судьбу. Только эти две стороны, в их единстве, могут полностью охватить проблему душевного здоровья или болезни. Тот, кто, подобно Фрейду, сам был кузнецом собственной судьбы —достаточным доказательством этого служит созданное им посредством слов произведение искусства — вряд ли усомнится в этом.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 S.Freud, Gesammelte Schriften, XI, S. 387.
2 См.: M.Dorer, Historische Grundlagen der Psychoanalyse (Leipzig, 1932).
3 Griesinger, Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, S. 6 f. A Ibid., S. 73.
3 Freud, II, S. 98.
6 Ibid., V, S. 409.
7 Griesinger, S. 48.
8 Ibid., S. 56.
9 Ibid., S. 63, 72 f.
10 Ibid., S. 9 f.
uT.Meynert, Ьber den Wahn, S. 85.
12 Цит. по: Meynert, Deutsche Irrenarzte, II, S. 133.
13 Monantschr. f. Psych. ti. Neur., Bd. 30, S. 1911.
14 Freud, У1, S. 223.
15 Ibid., VIII, S. 426.
16 Ibid., VI, S. 223.
17 Griesinger, S. 3.
18 Freud, Zur Auffassung der Aphasien, S. 32.
19 Ibid., S. 89.
20 S.Freud, Gesammelte Schriften, XI, S. 223.
21 Ibid., VII, S. 262.
22 См.: Ьber Ideenflucht (S. 147 f.), где я выделил четыре клинических принципа редукции и обобщил их следующей формулой: "Во всех случаях это вопрос трансформации сложного эго-пршщипа —с его полярностью объекта и переживания, я и ты и его связью с проблемой коммуникативного понимания и культуры — в одномерный ид-принцип"'.
Аналитика существования Хайдеггера и ее значение для психиатрии
Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого ?
Платон ("Федр", 270 с).
Аналитика существования Мартина Хайдеггера вдвойне важна для психиатрии. Здесь эмпирическое психопатологическое исследование находит новую, выходящую за его прежние рамки методологическую и материальную основу, и, кроме того, в ее трактовке экзистенциального концепта науки психиатрия в целом получает точку опоры для объяснения актуальности, возможностей и пределов своей собственной научной картины мира, или иными словами, трансцендентального горизонта понимания. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны и уходят своими корнями в работы Хайдеггера Sein und Zeit ("Бытие и время") и Vom Wesen des Gmndes ("О сущности оснований").
Цель "Бытия и времени" состояла в "конкретной" разработке вопроса о смысле Бытия. Предварительно исследование было нацелено на интерпретацию времени как возможного горизонта всякого понимания Бытия. С этой целью Хайдеггер, как мы знаем, "конкретно" и детально разрабатывает онтологическую структуру Dasein* как бытия-в-мире, или трансценденции. Определяя, таким образом, основополагающую структуру Dasein как бытие-в-мире, Хайдеггер дает в руки психиатра ключ, посредством которого он, независимо от предрассудков какой-либо научной теории, может установить и описать исследуемые им явления во всей полноте их феноменологического содержания и в свойственном им контексте. Огромная заслуга Эдмунда Гуссерля состоит в том, что он продемонстрировал, вслед за Брентано, что, собственно, представляет собой данный "феноменологический"
* В фундаментальной онтологии М.Хайдеггера место понятия Mensch (человек) занимает понятие Dasein (существование). —Прим. ред.
метод, а также в том, что он показал, какие обширные перспективы он открывает для исследования в различных науках. Однако доктрина Гуссерля касается исключительно сферы интенцио-нальности, рассматриваемой как унитарное отношение между трансцендентальной субъективностью и трансцендентальной объективностью. Переход от "теоретического" постижения и описания психических процессов или событий, происходящих в "субъекте", к постижению и описанию форм и структур "интенционального сознания", сознания чего-то или направленности к чему-то, оказался решающим переходом для психопатологических исследований. Однако, это сознание оставалось как бы висящим в пространстве — в разреженном пространстве трансцендентального эго. "Фундаментальное" —в полном смысле слова —достижение Хайдеггера состояло не только в том, что он констатировал проблематичность трансцендентальной возможности интенциональных актов. Более того, он решил данную проблему, показав, каким образом интенциональность сознания коренится во временном характере человеческого существования, в Dasein. Интенциональность в целом возможна только на основе "трансценденции" и поэтому не является ни тождественной ей, ни, наоборот, обусловливающей саму возможность трансценденции. Только объясняя интенциональность через Dasein как трансценденцию или бытие-в-мире и, только, тем самым включая трансцендентальное эго в актуальное Dasein можно сформулировать ("объективно-трансцендентальный") вопрос относительно чтойности существ, которыми мы являемся*. Таким образом, вместе с Вильгельмом Шилази мы можем сказать, что "Бытие и время" — это первое исследование нашего существования "относительно его объективной трансценденции".
Так как в работе "Школа мысли экзистенциального анализа"1, я уже в общих чертах описал намеченный таким образом путь, то теперь мы обратим наше внимание на второй аспект значимости Хайдеггера для психологии, а именно — на вопрос об актуальности, возможностях и пределах горизонтов понимания, или картины мира психиатрии в целом. Эту проблему, к тому же, можно охарактеризовать как проблему осознания психиатрией неотъемлемой свойственной ей как науке структуры или как попытку психиатрии понять себя как науку. Само собой разуме-
Здесь обнаруживается расхождение между Сартром и Хайдеггером. Сартр не прибегает к подобной обратной референции; действительно он упрекает Хайдеггера в том, "что он в своем описании Dasein полностью исключает какое бы то ни было обращение к сознанию" ("Бытие и ничто").
ется, что в данной, ограниченной по объему работе, я могу лишь в общих чертах обозначить решение этой проблемы.
I
Наука не может понять самое себя, уяснив свой "объект" изучения и основные концепции и методы исследования, с помощью которых она осуществляет это изучение. По сути, наука приходит к такому пониманию лишь тогда, когда она —в полном смысле греческого logon didцnai * — объясняет свою интерпретацию (выраженную в ее основных концепциях) своей специфической сферы бытия на основании фундаментальной онтологической структуры этой сферы. Такое объяснение невозможно дать, используя методы самой этой науки; возможно только с помощью философских методов.
Наука автономна относительно того, что, в ее терминах, может быть доступно опыту. Здесь она оправданно защищает себя от любого философского вторжения, точно так же, как и любая философия, осознающая свои собственные цели, воздерживается от подобного вторжения. Хотя, как показала история, наука и философия имеют общие корни, сказанное означает, что в то время как наука выдвигает вопросы, определяющие ее подход к существующему, философия формулирует вопрос относительно природы доказательства как основания и обоснования —то есть вопрос относительно функции, выполняемой трансценденциеи как таковой, функции установления оснований. Это просто еще раз говорит —другими словами —о том, что наука может понять самое себя, только если она объясняет изначальную формулировку своего вопроса, в рамках которого, как данного конкретного научного способа обоснования, она подходит к изучаемым ею предметам и рассматривает их. В такой и только в такой мере науку следует "соотносить" с философией; то есть постольку, поскольку самопонимание науки, рассматриваемое как артикуляция актуального запаса онтологического понимания, возможно лишь на основе философского, то есть онтологического понимания в целом.
II
Если физика и биология, а также гуманитарные науки основываются на своем собственном особом "актуальном запасе он-
* Приводить доводы (гр.)- — Прим. ред.
тологического понимания"2, то о психиатрии этого сказать нельзя. В ее клиническом приложении психиатрия рассматривает свой объект, "психически больного человека", в его природном аспекте, а следовательно, в рамках естественнонаучного —главным образом, биологического — горизонта понимания. Здесь объектом психиатрии является — как и во всей медицине — "больной" организм. Но психотерапия рассматривает свой объект в аспекте "человеческой бытийности", а следовательно, в рамках (либо донаучного, либо систематизированного) антропологического горизонта понимания. Здесь объектом психиатрии выступает уже "психически больной" собрат, другой. Несовместимость этих двух концептуальных горизонтов, или концепций реальности неразрешима в рамках науки и ведет не только к бесконечным научным противоречиям, но и, как показывает нынешняя ситуация в психиатрии, к расколу на два обособленных психиатрических лагеря. Сам этот факт демонстрирует, насколько важен для психиатрии вопрос: что же мы, человеческие бытийности, представляем собой.
В действительности эти две концептуальные ориентации психиатрии обычно перекрываются — как показывает нам один лишь мимолетный взгляд на ее "практику". Клиницист сперва "устанавливает связь" со своим пациентом или ищет "взаимопонимания с ним". И именно благодаря этой связи или пониманию он приходит к тому исходному видению, на основе которой он оценивает симптомы заболевания. На самом деле мнение о том, что психиатрические симптомы в первую очередь выражают нарушения в коммуникации и, следовательно, связаны со "смыслом, придаваемым человеческому общению", принадлежит Хе-нигсвальду3. Однако, одно из основных требований медицинской психотерапии состоит в том, чтобы рассматривать предполагаемого пациента также как организм, то есть это требование означает, что в первую очередь следует выяснить состояние пациента "как" организма, особенно в том, что касается нарушений в центральной нервной системе, а также установить, не налагает ли возможность таких нарушений с самого начала определенных терапевтических ограничений.
Насколько психиатр рассматривает организм в качестве естественного объекта, то есть "физикалистски", насколько он именно в этом ключе рассматривает находящегося перед ним собрата, с которым стремится прийти к взаимопониманию и который является его товарищем по сообществу людей, другой "человеческой душой", —настолько его онтологическое понимание будет изна-
чально затемнено психофизической проблемой. Ибо проблема рассудок-тело —это не онтологическая проблема, а проблема научных знаний, чисто теоретическая проблема. Поэтому для "решения" этой проблемы прибегают к помощи "теории". Однако никакая теория не может по-настоящему разрешить ее, а может лишь попытаться теоретически связать рассудок и тело посредством более или менее поверхностных мнимых решений ("вспомогательных гипотез") или скрыть суть проблемы в целом под псевдофилософской (материалистической, спиритуалистической, биологической или психологистической) дымовой завесой.
Проблема рассудка и тела, хотя и возникает из настоятельных практических научных нужд, неверно формулируется, так как наука не видит, как следовало бы ей —что здесь затронуты две совершенно различные научные концепции реальности, которые нельзя ни соединить какой-либо теорией, ни объединить какими-либо сложными умозаключениями. Ибо как только я объективирую своего собрата, как только я объективирую его субъективность, он перестает быть моим собратом; и как только я субъективирую организм или превращаю естественный объект в отвечающий за свои действия субъект, он перестает быть организмом в смысле, подразумеваемом медицинской наукой. С этой ситуацией можно справиться, лишь перешагнув по ту сторону и того и другого концептуального горизонта, или концепции реальности —как природной, так и "культурной" — и подойдя к основной человеческой функции понимания Бытия как к установлению оснований — трансцендентальной функции. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы с философской строгостью понять как силу, так и слабость этих двух концепций, рассматриваемых то ли как научные, то ли как даже донаучные или "наивные" способы трансцендентальной мотивации или обоснования.
III
Научное понимание ориентировано на факт и фактичность, то есть на реальность и объективность. Такое видение (или картина мира) разделяет области фактов и ставит различные сущности в фактическую, реальную, объективную и системную взаимосвязь4. Хайдеггер показал, что такой план —это не просто демаркация областей, но и установление оснований. То есть в такой картине мира конкретная сфера "бытия" (бытийно сущего) "те-матизируется" и тем самым становится доступной для объек-
тивного изучения и определения. Если это так, тогда такой проект необходимо постоянно подвергать критике относительно фундаментальных вопросов всего научного познания. Эту критическую функцию выполняет не только философия. Мы постоянно встречаемся с этим, когда научные концепции рушатся изнутри и подвергаются трансформации —то есть при различных кризисах науки.
Сегодня психиатрия пребывает именно в таком кризисе. "Великая хартия"* или устав психиатрии, которым до настоящего времени она руководствовалась, был разрушен, с одной стороны, психоанализом и в целом углубившимся пониманием психотерапией своих собственных научных основ, а с другой стороны, постоянно растущим проникновением в сущность психосоматических взаимосвязей, прежде всего, благодаря "структурным"** и эмпирическим экзистенциально-аналитическим исследованиям, расширившим границы горизонта понимания психиатрии и пролившим свет на него.
Принимая во внимание этот кризис, феноменологически-философская аналитика существования Хайдеггера несомненно важна для психиатрии. Это связано с тем, что она исследует не просто конкретные области явлений и фактов, обнаруживаемых в природе "человеческих существ", а скорее бытие человека в целом. Подобные вопросы невозможно рассматривать с помощью одних только научных методов. Одной концепции человека как физикопсиходуховного единства недостаточно. Ибо, как утверждает Хайдеггер, бытие человека не может быть определено "суммарным перечислением" таких онтологически неоднозначных форм как тело, дух и душа. Здесь необходимо возвращение к (субъективной) трансценденции, к Dasein как к бытию-в-мире, даже тогда, когда постоянное внимание сосредоточено на его объективной трансценденции.
Безусловно, верно, что современная психология пытается выяснить природу "души", рассматривая природу в целом — как предписывал Платон (см. эпиграф к статье). Но психиатрия, как ветвь медицины, в первую очередь понимает это целое как "жизнь", как биологическое целое, и всякое "рассмотрение" этого целого обычно не идет дальше уровня фактических объективных "отношений". Вдобавок, душа понимается как нечто нейтрально существующее {vorhanden) в теле или с телом. Но даже помимо этих соображений, то, что означает греческое выражение
* См. "Фрейд и Великая хартия клинической психиатрии" в настоящем сборнике. ** Этот термин подразумевает включение психиатрических школ мысли, связанных с именами Минковского, Э.Штрауса и Гебсаттеля.
to Holon* — в противоположность to Pan** — это не все в целом, а, как у Аристотеля, целостность как таковая. Аналитика существования Хайдеггера, исследуя бытие целостного человека, дает подход не к научному, а философскому пониманию этой целостности. Такое понимание может указать психиатрии границы, в рамках которых она может заниматься исследованием и надеяться получить ответ, кроме того, оно может указать общий горизонт, в рамках которого следует искать ответы как таковые.
Обвинять аналитику существования Хайдеггера в пренебрежении природой некорректно, ибо именно посредством этой самой аналитики существования можно определить основания для решения проблемы природы — через подход к Dasein как к ситуационно настроенному (befindlich-gestimmten) существованию среди бытийно сущих. Было бы в равной мере некорректно обвинять Dasein-анализ в "пренебрежении телом". Когда картина мира видится как обусловленная — и это означает созвучность ситуации —тогда внимание, явно обращается к Dasein в его телесности.
На практике всякий раз, когда психиатр пытается переступить ограничения своей науки и стремится познать онтологические основания своего понимания и лечения тех, кто предоставлен его заботам, именно аналитика существования Хайдеггера может расширить его горизонт. Ибо она дает возможность понять человека одновременно как творение природы и как социально обусловленное или историческое существо — и причем посредством одного онтологического инсайта, озарения, тем самым устраняющего разделение тела, духа и души. Человек как творение природы раскрывается в обусловленности Dasein, его "то-что-он-есть", его фактичности. "Исходило ли когда-либо и сможет ли когда-либо исходить от Dasein, как такового, свободное решение относительно того, желает ли оно прийти к 'существованию' или нет?" Dasein, хотя и существует по сути, ради самого себя (ит-willen seiner), тем не менее, отнюдь не само полагает основания своего бытия. Кроме того, как только творение "вступает в существование", оно есть и остается заброшенным, детерминированным, то есть включенным, принадлежащим и подчиненным бытийно сущим вообще. Вследствие этого оно не "полностью свободно" и в своем видении мироустройства. Здесь "бессилие" Dasein проявляется в том, что некоторые из его возможностей бытия-в-мире исключаются по причине взаимосвязанности обя-
* Целое (гр.). — Прим. ред. ** Все (гр.). —Прим. ред.
зательствами с другими бытийно сущими, по причине его фактичности. Но именно такое исключение придает Dasein его силу: ибо именно это прежде всего «редопределяет для Dasein "реальные", осуществимые возможности, предполагаемые мироустройством.
Таким образом, трансценденция —это не только приближение Dasein к миру, но в то же самое время и отстранение, ограничение — и только в этом ограничении трансценденция обретает власть "над миром". Все это, однако, выступает лишь "трансцендентальным свидетельством" ограниченности Dasein. Заброшенность Dasein, его фактичность, представляет собой трансцендентальный горизонт всего того, что научная систематическая психиатрия очерчивает как реальность, называя ее организмом, телом (а также наследственностью, климатом, окружающей средой и т.п.), а также всего того, что очерчивается, изучается и исследуется как психическая детерминированность: то есть как расположение духа и дурное настроение, как умопомешательство, компульсивная, или нездоровая "одержимость", как пагубная склонность, инстинктивность, как смятение, пребывание во власти фантазий, как бессознательное в целом. В то время как психиатрическая наука не только наблюдает и устанавливает связи, но и воздвигает теоретический мост психофизического между этими двумя сферами, Dasein-анализ, со своей стороны, демонстрирует что именно в первую очередь научная дихотомия онтологической целостности человека дает начало этому постулату. Он демонстрирует, что эта дихотомия является результатом проецирования всего человеческого бытия на экран того, что просто объективно присутствует [vorhanden]. Кроме того, он указывает на то, что общее научное видение мироустройства берет свое начало от одного и того же Dasein, то есть от присущей Dasein онтологической потенциальной возможности научного бытия-в-мире. Кроме того, здесь было бы правильным сказать следующее: то, что придает картине мира ее (ограниченную) научную силу, обретается только ценой неспособности понять бытие человеческой экзистенции [Dasein] как целое.
Большая заслуга Хайдеггера заключается в том, что он суммировал бытие Dasein под термином "Забота", который, однако, легко может быть неправильно понят, и провел феноменологическое исследование его основных структур и содержания. Обусловленность, в смысле фактичности ответствования Dasein своей чтойности представляет лишь один ("экзистенциальный") компонент этой структуры, другими, как мы знаем, являются существование (проект) и "попадание"*. Таким образом, то, что в пси-
хиатрии необратимо разделено на дискретные реальности областей исследования, то есть конечное человеческое Dasein, здесь представлено в своей изначальной структурной целостности. (Особенно следует подчеркнуть, что это означает нечто совершенно отличное от какого бы то ни было подхода к человеку с точки зрения одной конкретной идеи, вроде идеи воли к власти, либидо или любой другой, подразумевающей рассмотрение человека как творения природы в целом или даже как сына Господнего, как homo aeternus* и т.д.) Но там, где существует структура, и речи быть не может об обособленности одного структурного элемента от структурного целого. Скорее каждый остается вовлеченным в другие, и изменение одного структурного элемента, обусловливает изменения в прочих. Поэтому Dasein никогда не может оказаться "вне" своей обусловленности, а может лишь проецировать возможности, в которые оно вовлечено. Поэтому только подчиняясь своему что, то есть как обусловленное, Dasein и существует на основании его бытийной силы. А поэтому само существование, хотя оно должно полагать свои собственные основания, никогда не может обладать властью над этими основаниями. Как бытие оно должно быть "таким как есть и каким может быть". Его бытие — это проекция его собственной бытийной силы, и в этой мере оно всегда упреждает** самое себя. Кроме того, это упреждающее самое себя бытие касается всей структуры Dasein. В соответствии со всем, что мы знаем о его обусловленности (как уже-бытия-в-мире), бытие упреждающее самое себя бытие Dasein, его будущность целиком и полностью поглощена его прошлым. Из этих двух временных "экстатических" моментов овременяется подлинное настоящее. Это то, что мы упоминали как "путь" "Бытия и времени": попытка понять основополагающую структуру Dasein через унитарность времени и его экстатические моменты.
В одной из своих работ5 я попытался показать значение этого пути для психопатологического знания и для понимания основных форм человеческого существования. Однако здесь мы хотим отметить его значение для самооценки психиатрии. Понимание временной сущности Dasein или трансцевденции проясняет для
+ О значении попадания "в мир" —и не только в Mitwelt [Зд.: мир современников (нем4). —Прим. ред.] —см. мою работу "Шизофрения".
* Человек вечный (лат.). —Прим. ред.
** Относительно степени укорененности различных психотических форм маниакальной депрессии и шизофрении в различных формах этого упреждающего самое себя Dasein (будь то в плане настроенности [ Gestimmtheit] или "экстравагантного Dasein" формирования идеала) см. мои исследования в Ьber Ideenflucht и Schizophrenie.
психиатрии не только ее "объект" — различные формы "анормального" человеческого существования — но также ее понимание своей сути, заставляя ее осознать, что ее разделение человеческого бытия на различные области фактов с соответствующей концептуализацией их не может быть исчерпывающим. Ибо, как я уже отмечал, она тем самым берет лишь один уровень, уровень вещей, объективно существующих [vorhanden] "во времени и пространстве", здесь и сейчас, и проецирует на этот уровень то, что прежде всего другого делает возможным понимание ориентации в пространстве и времени: Dasein. Но если психиатрия осознает — что справедливо для всех наук —насколько предварительны ее картина мира, ее концепция реальности, то она не будет слишком рьяно отстаивать свои основные концепции и ей будет легче углубить и изменить их. После всего сказанного очевидно, что причины этих концептуальных изменений следует искать только в рамках научного исследования с его специфическими кризисами, а следовательно, в рамках научных изысканий психиатрии, в ее собственной сфере деятельности. Догматическое заимствование философских доктрин как таковьж почти всегда оказывалось пагубным для научных исследований.
IV
Осознавать неизбежную ограниченность предлагаемой психиатрией картины мира, авторитет которой, подобно всем прочим картинам мира, основывается на исключении других возможностей, недостаточно. Вдобавок, аналитика существования может показать психиатрии что должно быть "изъято", вполне материально, проигнорировано, когда человек разделяется на тело, дух и душу.
Я уже цитировал очерк Хёнигсвальда по философии и психиатрии. В нем он отмечает, что по сути дела следует от организма ожидать, "что он будет называть себя я". Аналитика существования указывает на корень таких "ожиданий", а именно, на тот основной антропологический факт, что интерес Dasein в его бытии направлен, главным образом, на само это бытие, другими словами, что его "куда" и "для чего" всегда обращены к самому себе. Это бытие для себя никоим образом не означает позицию я по отношению к себе, дающую ему возможность называть себя я. Потенциально мы "ожидаем" этого также от организма, ибо осознаем, что, если в концепции реальности, на которую проецируется человек, эта способность говорить я (мне и мое) упускается из виду, то разделение человека на организм и эго, тело и душу, физическое и психическое.
res extensa* и res cogitans** никогда не будет преодолено, и в результате этого человек, каким он действительно является, будет упущен из виду. Для такого "разделения" есть множество "факту-альных" оснований. Но это не должно помешать нам увидеть, что оно осуществимо только "для формы" и теряет силу, когда мы переключаем внимание с конкретных "обстоятельств" на бытие Dasein как таковое. Ибо бытие-для-себя затрагивает Dasein как организм, или тело — Dasein, которое есть только мой, ваш или его организм и никоим образом не просто организм или тело как таковое. Поэтому наивно смотреть на психофизиологическую проблему как на загадку вселенной.
Для науки это к тому же означает, что как биологи или даже как психологи мы не должны считать организм только лишь природным объектом, а должны иметь в виду, что концепция организма является следствием естественнонаучной редукции6 человека к его телесному существованию и дальнейшего сведения этого телесного существования к просто нейтрально присутствующему, "ничейному" объекту.
Один короткий пример: концепция запоминания, забывания и восстановления в памяти как Мпете и Exphoresis (Семон, Э.Блейлер и др.). Здесь память и воспоминание представляются исключительно как функции мозга, как "процессы, протекающие в мозгу". Однако в противовес такой точке зрения нетрудно показать, что "мозг", как и сам организм, в своей "реальности" тоже может быть только моим, вашим или его мозгом. Другими словами, мнемоническую "функцию мозга" можно понять только с точки зрения способности моего Dasein быть-в-мире запоминающим, забывчивым и воспоминающим. Одним словом, это означает, что память нельзя понять исключительно в рамках физиологии. Скорее запоминание, также как и забывание, предполагает отступление Dasein к его телесному существованию, а воспоминание означает возвращение Dasein из его заключенности "в тело" к своему психическому существованию7.
Степень взаимосвязи этих двух форм человеческого бытия через их "союз", через то, что Платон назвал koinon'm**', недавно показана Вильгельмом Шилази в его интерпретации Платоновского "Филеба", в духе Хайдеггера8. В ней совершенно ясно сформулировано, что "элементы" бытийной силы Dasein являются производными всей совокупности онтологических потен-
* Вещь протяженная (лат.). — Прим. ред. ** Вещь мыслящая (лат.). — Прим. ред. *** Соучастие (тр.). — Прим. ред.
циальных возможностей (то есть Всего), но материальность становится телом только через koinonia, связывающее "душу" с тем, что принадлежит к телесному*. Столь же ясно описано, каким образом Dasein "уходит" от своей заключенности в тело, от своей обусловленности, с тем, чтобы быть прежде всего полностью свободным как "дух". Там, где упускают из виду koinonia онтологических потенциальных возможностей Dasein и их градаций —то что Аристотель характеризует как syntheton —там понимание человека недостижимо. Ибо тогда вместо фактуальности Dasein, — которое, хотя и является бьггием-в-мире, но, по существу отличается от реальности нейтрально наличествующего {Vorhanden) — вместо этого факта возникает "вселенская загадка" психофизической проблемы.
Обращаясь теперь к концепции болезни в психиатрии, мы должны вспомнить прекрасный очерк Пауля Хеберлина "Объект психиатрии"9. Основываясь на антропологии10, Хеберлин приходит к заключению, что патологический характер психических заболеваний определяется скорее соматически, чем психологически, что действительно психическими заболеваниями являются только так называемые неврозы и что в действительности только они и должны называться психозами. Эта точка зрения близка к сложившейся в психиатрии, постольку, поскольку она предполагает koinonia ума и тела, но иного рода, чем то, что мы представляем здесь. Хеберлин понимает тело как образ души, а человека характеризует как "ментальную нацию", сравнительно успешно управляемую ее основателем, разумом. Согласно Хебер-лину, эти два типа заболевания отличаются тем, что в одном случае рассудок "в разладе" с самим собой, тогда как в другом (обычно называемом психическим заболеванием) —нарушена в первую очередь центральная организация тела. Оба типа заболевания неизбежно выражаются и психически, и физиологически. В первом случае, когда речь идет о так называемых неврозах, рассудок не может неуклонно выполнять свои функции, среди которых и функция управления телом, и поэтому при неврозах в той или иной степени обнаруживают себя соматические последствия. В случае же так называемых психозов рассудок, в свою очередь, страдает от определенного нарушения в организме, так как это нарушение мешает ему управлять телом и в рецептивном аспекте дает мозгу искаженную картину мира, вследствие чего он (мозг) реагирует анормально. Таким образом, в обоих случаях нарушается нормальная связь между телом и рассуд-
* В соответствии с этим Хеберлин (см. ниже) безоговорочно заявляет, что изолированного тела ("тела без души") не существует.
ком (koinonia). Каждая болезнь затрагивает обе стороны, независимо от локализации первичных определяющих факторов.
И мы также, с точки зрения аналитики существования Хайдеггера, должны представлять и душевное расстройство согласно Хеберлину, и невроз (психоз, согласно Хеберлину) как нарушение koinonia, функционального единства онтологических потенциальных возможностей Dasein. Исходя из этого, например, понятно, что душевное расстройство под названием меланхолия можно представить как нарушение koinonia между телесным и психическим бытием Dasein, которое проявляется, с одной стороны, как "вегетативное" расстройство организма, а с другой — как "изолированная", усугубленная и искаженная форма от рождения присутствующей в Dasein в его бренности вины. Поэтому не удивительно, что меланхолия может возникнуть по причине семейной трагедии, отлучения от власти или конкретной вины, с одной стороны, либо в связи с заболеваниями кишечника или даже "вообще безо всякой причины" —с другой. Не удивительно и то, что мы можем "лечить" меланхолика электрошоком, успокаивать его опиумом или утешать заверениями насчет его выздоровления, тем самым побуждая его стойко переносить свои страдания. В каждом случае мы стремимся восстановить koinonia тела и рассудка. То, что в этом случае успешный результат достигается легче, если лечение пациента проводится с "физической" стороны, лишь указывает на характер меланхолической формы существования, предполагающей господство обусловленности как уже-бытия-в-мире (настроя), то есть свершенности (Gewesenheit) над существованием как самоупреждением своего бытия будущего. Это никоим образом не противоречит представлению о том, что психическое заболевание, известное как меланхолия, затрагивает Dasein в целом. То же самое, в свою очередь, справедливо и по отношению к "неврозам". Независимо от того, насколько адекватно психопатологическое понимание невроза (если строго придерживаться терминов Фрейда) как "психического конфликта", с точки зрения экзистенциального анализа неврозы нельзя понимать только в перспективе существования. То, что люди вообще могут становиться "невротиками" —это также признак бытийной обусловленности Dasein и признак потенциальной возможности его "попадания" —одним словом, признак его конечности, его трансцендентной ограниченности и несвободы.
Тот, кто, пренебрегает этими ограничениями, кто пребывает — выражаясь словами Кьеркегора —в разладе с фундаментальными предпосылками существования, как раз и рискует "невротиком".
тогда как не-невротиком, то есть "свободным" бывает лишь тот, кто "знает" о несвободе ограниченного человеческого существования и обретает "власть" над своим существованием в пределах этого бессилия. Единственная задача "психотерапии" заключается в том, чтобы помочь человеку обрести эту "власть". Отличаются лишь пути к этой цели.
Ни вторгаться в концепцию реальности психиатрии, ни подвергать сомнению ее эмпирически установленные "психо-физичес-кие" связи философская аналитика существования, естественно, не будет, да и не может. Но что она может и стремится сделать —так это просто показать, что та самая дуалистическая концепция реальности, которая характерна для психиатрии, обязана своей силой и значением как раз тому, что она ограничивается той или иной конкретно научной картиной мира, но не бытием тех бытийно сущих, которые она призвана тематизировать. Поэтому, на все вопросы, выходящие за пределы сферы этой "тематизации", то есть на вопросы, касающиеся человеческой свободы, "времени и пространства", отношения "духа и материи", на вопросы философии, искусства и религии, на вопросы, касающиеся природы гения и т.п. — на такие вопросы нельзя ответить с помощью науки психиатрии.
В заключение одно слово о психиатрической проблеме бессознательного. Если психоанализ, как мы знаем, интерпретирует бессознательное с точки зрения сознания*, то совершенно ясно, что доктрина, которая не просто исходит из интенциональности сознания, а скорее демонстрирует, как эта интенциональность обусловлена временным характером человеческого существования, должна интерпретировать различие между сознанием и бессознательным во временном и экзистенциальном отношении. Поэтому отправной точкой для этой интерпретации не может быть сознание. Ею может быть только "бессознательное", обусловленность и детерминированность Dasein. Однако более подробное рассмотрение этого вопроса требует отдельной статьи.
С точки зрения трансцендентального понимания психиатрией самой себя как науки —и только с этой точки зрения —мы теперь можем интерпретировать бытие самого психиатра**. Люди, забо-
* В связи с чем обнаруживается диспропорция между высоким методологическим статусом сознания (действительно, в этом отношении самое большее, что можно сказать о работе бессознательного — это что оно приближается к сознанию или даже превосходит его) и недооценкой его ощутимого, психологического значения.
** Само собой разумеется: то, что справедливо по отношению к врачу вообще, справедливо и по отношению к психиатру, а именно: "Для него здоровье — это принцип его профессии, и всякий раз, когда он пренебрегает налагаемыми им общепризнанными ограничениями, он на каждом шагу взваливает на себя вину".
тящиеся о физическом здоровье человека, знают, что они должны не просто "представлять медицину", но и быть целителями. И поскольку постановка диагноза основана не на наблюдениях за организмом пациента, а на "установлении взаимопонимания" с ним в его человеческой бытийности, как с тем, кто также существует присущим человеку образом, поскольку то, что здесь сущ-ностно задействовано, является не просто точкой зрения "представителя медицины" на его научный объект. То, что здесь задействовано —это его отношение11 к пациенту, отношение, в равной мере основанное на "заботе" и на любви. Поэтому быть психиатром сущ-ностно означает готовность выходить за пределы всех фактических знаний и открывающихся благодаря им возможностей и проникать глубже научных знаний, предоставляемых психологией, психопатологией и психотерапией. Такую трансценденцию, выход за границы фактичности, объективности и реальности, какими их видит психиатрия можно понять только с точки зрения самой трансцен-денции как бытия-в-мире и бытия-вне-мира12.
Не только во время предварительного собеседования или обследования, но и на протяжении всего курса лечения быть психиатром означает больше, чем просто представлять медицину (в смысле знаний и мастерства в этой области). Таким образом, быть психиатром —я, конечно же имею в виду психиатром как таковым, а не то, что называется "хороший психиатр" —значит понимать, что никакое целое, а следовательно и "человека в целом" нельзя "постичь" методами науки. Если же психиатр ориентирован на встречу и взаимное понимание со своим собратом, ориентирован на понимание людей в их целостности, в koinonia их онтологических потенциальных возможностей и koinonia этой целостности с более универсальными онтологическими потенциальными возможностями, тогда бытие психиатра выходит за рамки чисто "теоретических" онтологических потенциальных возможностей человека и направлено к самой трансценденции.
Из этого следует, что психиатр в своем бытии обращается к человеку в его целостности и посягает на его целостное бытие. В то время как в других отраслях науки в той или иной степени можно отделять свою профессиональную сущность от своего и существования и, так сказать, находить свой "экзистенциальный центр тяжести" в хобби, в какой-нибудь другой научной деятельности, в философии, религии или искусстве —в психиатрии дело
Резкую и недвусмысленную трактовку предлагает Пауль Матуссек : Paul Matussek, "Das Prinzip des дrztlichen Berufs", in: Festschrift fur Kurt Schneider (Verlag Sche-rer, 1947).
обстоит иначе. В определенном смысле бытие психиатром предполагает существование в качестве психиатра. Ибо где встреча и взаимное понимание задают основу и фундамент всего, что может рассматриваться как симптомы или даже как собственно болезнь и здоровье, и где, поэтому, не остается ничего человеческого, относительно чего — в психиатрическом смысле — нельзя было бы вынести суждение, там хобби, наука, философия, искусство и религия могут проецироваться и пониматься, исходя из перспективы собственного существования, как онтологические потенциальные возможности и концептуальные проекты. Где этого нет, там любое психиатрическое суждение — как показывает история психиатрии —фактически лишено твердой основы. Следовательно, бытие психиатра не может быть понято без понимания трансценденции как "свободы основополагания".
Эта "свобода" позволяет нам понять, что научные задачи и насущные проблемы (основные концепции, методы исследования) психиатрии предполагают гибкую и живую, ни в коем случае не жесткую связь с Dasein как бытием-в-мире и бытием-вне-ми-ра. Она также позволяет нам понять, почему научный прогресс в психиатрии особенно зависит от взаимодействия между исследованием фактов и трансцендентальной рефлексией относительно их научных качеств.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Rollo May, Ernest Angel, Henri F.Ellenberger (eds.). Existence (New York, 1958), p. 191-213.
2 См.: W.Szilasi (January 10, 1945), in: WissenschaЯ ah Philosophie (Zьrich, New York, 1945).
3 См.: Richard Hцnigswald, "Philosophie und Psychiatrie", Archiv, f. Psychiatrie u. Neurvenkrankheiten, Bd. 87, No. 5 (1929); Binswanger, "Ьber die manische Lebensform", Ausg. Vort. u. Aufs., Bd. II.
4 См.: Szilasi, op. cit.
3 Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins.
6 См. МОЮ работу "Ober die manische Lebensform", см. также великолепную трактовку в: Rene Le Senne "La dialectique de naturalisation", in Obstacle et Valeur. Кроме того, см.: T.Haering, Philosophie der Naturwissenschaft (1923). См.: "Ьber Psychotherapie".
8 W. Szilasi, Macht und Ohnmacht des Geistes.
9 P.Hдberlin, in Schweiz. Archiv, f. Psych. u. Neun, Bd. 60.
10 Der Mensch, eine philosophische Anthropologie(Zьrich, 1941). См.: Grundformen, II.
12 Ibid.
Сновидение и существование
i
Когда мы живем надеждами и упованиями, но наши ожидания оказываются несбыточными, тогда мир в одно мгновение становится совершенно "иным". Мы полностью "выбиты из колеи" и "теряем почву под ногами". Со временем, восстановив равновесие, мы говорим, что это было "подобно падению с небес на землю". Тем самым мы облекаем свое переживание разочарования в образы поэтического сравнения, рожденного не воображением поэта, а самим языком. В этом отношении язык таит в себе духовные корни каждого человека. Ибо именно язык "мысленно представляет и рассуждает" за всех и каждого, прежде чем тот или иной из нас привлекает его на службу своим творческим и интеллектуальным способностям. Так что же можно сказать об этом "поэтическом сравнении"? Идет ли речь о простой аналогии в логическом смысле или же это образная метафора в поэтическом смысле? Придерживаться какой-либо одной из этих точек зрения — значит обходить стороной понимание внутренней природы поэтических сравнений. Ибо их природа, по сути, находится вне сферы компетенции логики и современных теорий поэтических средств выражения. Природа поэтических сравнений коренится в глубинах нашего существования, где жизненные формы и содержание наших мыслей все еще слиты воедино. Когда в горьком разочаровании "мы падаем с небес на землю", мы действительно падаем. Такое падение —это и не собственно падение тела, и не метафорическая производная от физического падения. Наши доселе гармоничные отношения с миром и окружающими людьми внезапно подверглись сокрушительному удару, в силу самой природы горького разочарования и сопутствующие ему потрясения. В такой момент наше существование, утратившее свое привычное место в мире и брошенное на произвол судьбы, претерпевает страдание. До тех пор, пока мы
не сможем восстановить свое равновесие в мире, наше существование в целом будет оставаться в пределах смысловой матрицы шаткости, провала, падения. Если мы назовем эту общую матрицу смысла "формой", а горькое разочарование — "содержанием", то сможем увидеть, что в данном случае форма и содержание едины.
Некоторых ученых, интересует не человек как целое, а только один из его аспектов, например, биологов, рассматривающих человека исключительно как живой организм. Такой наблюдатель скажет, что падение (вектор высокое — низкое) связано в сущности с жизненной структурой организма. Ибо, могут сослаться они, горькое разочарование сопровождается падением мышечного тонуса и напряжения поперечно-полосатой мускулатуры, в результате чего человек становится подвержен обморокам или внезапной слабости. Язык, скажут они, лишь отражает эти чисто физические обстоятельства. Согласно такой точке зрения, "падение с небес" или "разверзшаяся под ногами земля" —это чисто аналогическая или метафорическая экстраполяция из сферы тела в сферу духа, а в пределах последней — просто живописная форма выражения, лишенная подлинного содержания или основания, просто fag on de parier*. Теория средств выражения Клагеса идет глубже. Но, несмотря на то, что он придает особое значение единству души и тела, его теория все же основывается на предположении, что "психическое" проявляется в конкретных пространственно-временных формах, которые согласуются с нашей психической организацией. Например, слабо выраженный психический склад сказывается в нечетком почерке, самонадеянность —в высокомерной посадке головы. И в силу того, что психика проявляется в таких формах, язык для обозначения психических характеристик и процессов использует выражения, взятые из пространственно-сенсорной сферы. Эту точку зрения нельзя назвать неубедительной. Но, тем не менее, она предполагает признание лежащей в ее основе теории Клагеса, трактующей тело как манифестацию души, а душу, в свою очередь, как живое тело. Что касается меня, то я отнюдь не разделяю эти теоретические допущения.
Мои взгляды соответствуют доктринам Гуссерля и Хайдеггера, которые, как первым заметил Левит, применимы к интересующей нас здесь конкретной проблеме языка. Например, когда мы говорим о высокой или низкой башне, высоком и низком тоне, высокой и низкой морали, высоком и низком расположении
* Манера выражаться (фр.)- —Прим. иерее.
духа, это предполагает не лингвистическую экстраполяцию из одной экзистенциальной сферы в другую, а скорее общую смысловую матрицу, в которой все конкретные сферы имеют равную "долю", то есть она вмещает в себе все эти специфические значения (пространственное, акустическое, духовное, психическое и т.д.). Таким образом, провал, или падение образует общую смысловую матрицу, вектор значения, направленный сверху вниз и имеющий особый экзистенциальный смысл для "нашего" Dasein, отвечающий "онтологической экзистенциальное™" прорыва пространственного измерения, обусловленности предрешен-ности настроения (Stimmung) или интерпретации понимания (Verstehen). При горьком разочаровании "земля уходит из-под ног" —или мы "падаем с небес" не просто по причине удара или потрясения, представляющего собой, по словам Вундта, "астенический аффект", который — в форме физической неустойчивости или падения — ощущается как угроза вертикальному положению тела и поэтому служит реальной телесной моделью для образного поэтического языка. Скорее в этом сравнении язык сам по себе выделяет специфический элемент, лежащий глубоко в онтологической структуре человека (а именно, способность быть направленным сверху-вниз), а затем определяет этот элемент как падение. Здесь нет никакой необходимости ссылаться на астенический аффект и его телесное выражение. Что действительно требует разъяснения, так это почему разочарование как таковое имеет астенический характер; и ответ состоит в том, что при разочаровании наше существование в целом лишается "твердой" почвы, да и в сущности, какой бы то ни было почвы. Ибо вследствие разрушения его гармонии с миром оно оказывается в "подвешенном", лишенном опоры состоянии. Такое экзистенциальное "парение" не обязательно должно быть направлено вниз; оно может означать и освобождение и возможность подъема. Но если разочарование упорно остается разочарованием, тогда наше парение переходит в провал и падение. Язык, поэтическое воображение и —прежде всего —сновидение черпают свои смыслы в этой фундаментальной онтологической структуре.
Хотя наш образ мыслей не очень популярен среди психологов и психиатров, он все более ясно очерчивается в философском направлении, о котором я только что упоминал. Мы полагаем, что одной из самых головоломных проблем нашего века, является проблема отношения между телом и душой. Мы не оспариваем существующие ее решения; пытаясь отойти от наезженной ме-
тафизической и религиозной колеи и отказавшись с этой целью от таких формулировок, как взаимодействие, параллелизм и тождественность души и тела, мы хотим показать, что проблема в целом была неверно концептуализирована. Только тогда можно приступать решению тех конкретных вопросов антропологии, которые интересуют нас здесь.
То, что разочарование выражается такими фразами, как "падение с небес на землю", основывается, конечно же, и на других существенных связях, фиксируемых языком. К примеру, говорят, что мы "витаем в облаках" надежд, желаний и ожиданий, или же мы счастливы, и говорим, что чувствуем себя "на седьмом небе". Но ни падение как таковое и, ни конечно же, его противоположность, подъем, сами по себе не являются производными от чего-то еще. Онтологически мы в этот момент достигаем дна.
Тот же самый подъем и то же падение встречаются во всех религиозных, мифических и поэтических образах, противопоставляющих вознесение духа земному притяжению или тяжести тела. Приведем один пример, дивный образ преображения Геракла из Шиллера:
"Полон счастья в этом странном, новом состоянии парения, он летит вверх и тяжелый, призрачный образ Земной жизни опускается все ниже и ниже" *
Но если мы хотим уточнить кто же эти мы, возносящие в своей радости или летящие в пропасть в своем горе, ответ на этот вопрос окажется отнюдь не простым. Если нам скажут, что это мы просто означает мы, человеческие существа и что всякие дополнительные вопросы излишни, следует отметить, что именно здесь и должны начинаться все научные вопросы; ибо в самом вопросе о том, что же "мы, человеческие существа", действительно представляем собой, никогда не было так мало ясности, как в наш век, и сегодня мы снова стоим на пороге нового вопро-шания о том, кто есть мы. И ответы следует искать скорее не в науке и философии, а в поэзии, мифе и сновидении. Они, по крайней мере, знали одно: это мы, экзистенциальный субъект, никоим образом не обнаруживает себя открыто, но скрывается "за тысячью форм". Вдобавок, поэзия, миф и сновидение всегда знали, что этот субъект отнюдь не следует отождествлять с
* [Froh des neuen, ungewohnten Schwebens, Fliesst er aufwдrts, und des Erdenlebens Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.].
индивидуальным телом в его внешних формах. Что касается экзистенциального подъема и падения, поэты, например, всегда знали, что субъект, экзистенциальное "кто", в равной мере обоснованно может быть выражен как посредством его телесной формы (либо части, или составляющей этой формы), так и посредством любого свойственного ему качества или того, что подтверждает его существование в мире, при условии что это позволяет выразить этот подъем и падение. На вопрос относительно кто нашего существования можно ответить, но не обращаясь к сенсорной перцепции изолированной формы, в данном случае несущественной, а лишь обращаясь к тому, что является субъектом конкретного структурного момента (в данном случае момента подъема или падения); в своем сенсорном аспекте этот субъект вполне может быть посторонним, внешним субъектом. Тем не менее, именно я остаюсь первичным субъектом подъема и падения. Истинная ценность и во многом воздействие на нас экзистенциального субъекта, каким он представлен в мифе, религии и поэзии, основываются на этих точных онтологических инсайтах.
Во всем разуверившись и в своем отчаянии беспощадный к себе художник Нольтен "неожиданно слышит уничижительный упрек от человека, которого он глубоко уважал" (Мерике). Это оказывается для него "сильнейшим потрясением". В этом месте писатель прерывает прямое описание психического состояния своего героя и обращается непосредственно к читателю. Обращение звучит следующим образом: "[В таком состоянии] Вас охватывает смертельное спокойствие, Ваша боль видится вам дерзко парящей в вышине хищной птицей, пораженной ударом молнии и теперь постепенно теряющей высоту и падающей, полумертвой, у ваших ног". Здесь скорее говорит сам поэт, чем язык как таковой, но вместе с тем поэт подчиняется сущностной направленности выраженной в языке — падению — точно так же, как он "подчиняется" соответственно сущностным направлен-ностям человеческого существования. Именно по этой причине сравнение мгновенно "доходит" до читателя и действует на него так, что он уже не воспринимает его как сравнение, он убежден: "Речь идет обо мне, я и являюсь [или, что одно и то же, мог бы быть] этой смертельно раненной хищной птицей".
Здесь мы оказываемся у истоков сновидений. Действительно, все сказанное до этого момента слово в слово применимо и к сновидению, со своей стороны представляющему собой не что иное, как одну из форм человеческого существования в целом.
В приведенном выше сравнении моя собственная боль — то есть нечто во мне самом, "часть" меня — становится раненой хищной птицей. Наряду с этим здесь начинается драматизированная персонификация, известная также как основной способ отображения в сновидении. Теперь с небес падаю уже не "я" — индивид, один на один со своей болью. Скорее, сама боль моя падает у моих ног как вторая dramatis persona*. Это наиболее откровенное выражение моей способности при определенных обстоятельствах сохранять почву под буквально "физически" ногами даже тогда, когда я падаю и интроспективно наблюдаю за своим собственным падением.
Для древней и современной литературы, для сновидений и мифов всех времен и народов справедливо следующее: снова и снова орел или сокол, коршун или ястреб олицетворяют наше существование то ли как подъем или стремление к подъему, то ли как падение. Это просто указание на сущностную важность для человеческого существования определенности его взлетов или падений. Эту сущностную направленность, конечно же, не следует путать с сознательным, целенаправленным желанием подняться или осознанным страхом перед падением. Они уже представляют собой отражения или отображениями в сознании этой фундаментальной направленности. Именно этот нерефлектируе-мый или —выражаясь психоаналитическим языком —бессознательный фактор, сказывающийся в парящем существовании хищной птицы, рождает отзыв в наших душах.
"Для каждого из нас врожденным Есть тот подъем в сердце.
Когда жаворонок, затерявшийся в бескрайнем небе над нами. Заводит свою звонкую песнь; Когда над частоколом деревьев Орел парит, расправив крылья, И когда над равниной моря и земли Журавль устремляется к дому" **
* Персонаж драмы (лат.). — Прим. ред.
** [Doch ist es jedem eingeboren
Dass sein Gefьhl hinauf und vorwдrts dringt,
Wenn ьber uns, im blauen Raum verloren,
Dir schmetternd Lied die Lershe singt;
Wenn ьber schroffen Fichtenhцhen
Der Adler ausgebreitet schwebt,
Und ьber Flдchen, ьber Seen
Der Kranich nach der Heimat strebt.]
В силу этой "врожденности" все сравнения, включающие образы орлов и прочих птиц — как вообще экзистенциальные выражения —не просто формально, но и по существу прозрачны для каждого. В другом поэтическом примере Мерике использует образ орла, чтобы выразить радость любви — безрассудного парения, которое сменяется страхом перед стремительным падением:
"Глубоко в бездонной сини спокойным взором Видит орел литое злато солнечных лучей. Но разве не безумие сдерживать свой полет, Опасаясь разбиться о твердь небосвода.
Столь же дерзновенной должна быть Любовь. Невзирая на страх, она находит свое счастье В опасностях вечно новых и вечно пьянящих".
Хорошо известно, что в сновидениях полет и падение часто проявляются в ощущениях своего собственного тела. Иногда такие сновидения связывают с физическим состоянием, в частности с дыханием (в этом случае мы имеем дело со сновидениями, обусловленными телесными раздражителями), а иногда —с эротическими настроениями или чисто сексуальными желаниями. Возможно и то, и другое, и мы не хотим оспаривать ни одно из этих предположений, так как сейчас нас интересует вопрос выявления априорной структуры, для которой раздражители тела (и структура тела в целом) так же, как и эротико-сексу-альная тема являются вторичным содержанием. В этих двух случаях необходимо отыскать определенные мотивы в явной и внутренней биографии пациента, чтобы понять, почему в этот конкретный момент находит свое выражение именно это конкретное "содержание" — почему, например, в данный момент внимание сновидца обращается к его дыханию или почему он в данный момент расположен к эротическим желаниям, страхам и т.п. Только тогда такое сновидение можно понять психологически. Если желание или страх к тому же персонифицированы во втором и третьем лице (или драматизируются в образах животньж), тогда для психологического понимания достаточно, как бы проделав обратный путь, перевести эти фигуры на язык индивидуальных психических побуждений. Я хочу привести здесь сравнительно простое сновидение, довольно характерное в отношении выражения мыслей о смерти и о любви. Оно приснилось одной моей пациентке в период менструации.
"Прямо на моих глазах хищная птица набросилась на белого голубя, ранила его в голову и взмыла с ним в небо. Я погналась за ней, крича и размахивая руками. После долгого преследования мне удалось заставить хищника бросить голубя. Я подняла его с земли, но, к моему великому сожалению, увидела, что он уже мертв".
В примере, взятом из "Художника Нольтена" Мерике, экзистенциальный подъем и падение нашли свое художественное выражение в образе хищной птицы, пораженной ударом молнии. Если же мы обратимся к приведенному сновидению, то здесь передана борьба между двумя существами, одно из которых представляет аспект победного парения, а другое — поражения и падения. И, подобно происходящему с Нольтеном, здесь, переживая потрясение, разочарование, женщина видит мертвого голубя, лежащего на земле. Для интерпретации сновидения не имеет значения, действует ли в этой драме, разворачивающейся в абсолютном безмолвии души сновидец сам по себе или же с теми или иными производными персонажами. Рассказанная от лица Dasein тема, то есть "содержание" драмы — вот что представляет собой решающий фактор. Разочарование и упадок жизненного начала довольно часто выражаются в образе хищной птицы, которая умирает и трансформируется в какую-нибудь никчемную вещь или же просто может быть выпотрошена и выброшена. Следующие два сновидения Готфрида Келлера иллюстрируют сказанное.
Первое сновидение:
10 января 1948 г.
Прошлой ночью я оказался в Глаттфельдене. Мимо дома, сверкая солнечными бликами, протекал Глатг; я видел его вдали, как наяву. Мы стояли у открытого окна и смотрели на луга. Там над ущельем летал могучий орел. Когда он подлетел к склону и сел на кривую сосну, мое сердце забилось сильнее. Я думаю, что был охвачен радостью, впервые увидев орла в свободном полете. Затем он пролетел совсем рядом с нашим окном, и мы заметили, что голову его венчает корона, а оконечности крыльев и перья удивительно четко очерчены, как на гербах. Мы бросились — мой Огайм и я — к ружьям, висевшим на стене, и встали у двери. Гигантская птица влетела прямо в окно и размахом своих крыльев заполнила чуть ли не всю комнату. Мы выстрелили, но на пол упал не орел, а обрывки черной бумаги, что сильно раздосадовало нас.
Второе сновидение:
3 декабря 1948 г.
Прошлой ночью мне приснился коршун. Я выглядывал из окна дома; перед домом стояли соседи со своими детьми. По направлению к нам летел огромный, удивительно красивый коршун. В сущности он просто пикировал: его крылья были плотно прижаты к телу, при этом сам он казался больным и истощенным. Он опускался все ниже и ниже, временами пытаясь подняться с огромным усилием, однако никогда не достигая той высоты, с какой он начинал опускаться. Соседи и их дети подняли шум и крик и принялись швырять в птицу шапки, прогоняя ее. Она же увидела меня и, казалось, хотела —судя по тому, как она то опускалась, то поднималась —приблизиться ко мне. Я поспешил в кухню —поискать что-нибудь, чтобы накормить ее. Наконец я что-то нашел и поторопился обратно к окну. Но птица уже лежала мертвая на земле, став добычей какого-то злобного мальчишки, который вырывал из ее крыльев великолепные перья и разбрасывал их. Наконец, потеряв интерес к этому занятию, он бросил птицу на навозную кучу. Тем временем соседи, сбившие птицу, разошлись по своим делам.
Это сновидение очень опечалило меня.
Если мы всеми чувствами погрузимся в эти сновидения — к чему побуждает нас уже само их эстетическое обаяние —то сможем ощутить пульс существования, его систолу и диастолу, его сжатие и расширение, его подъем и падение. Каждая из этих фаз, судя по всему представляет собой двоякое выражение: образ и эмоциональную реакцию на образ; образ орла в его свободном парении и радость его созерцания; образ обрывков черной бумаги и огорчение при виде этого; мертвый ощипанный коршун и печаль о нем и сожаление. Но по существу своему радостный образ и наслаждение им, печальный образ и сопутствующая печаль — это одно и то же, а именно выражение одной и той же восходящей или нисходящей фазы цикла. В этом отношении решающей также является тема, предоставляемая Dasein в каждой такой фазе. Проявляется ли Dasein более сильно в эмоциональном содержании самого образа или в наблюдаемом ответном аффекте, имеет, как мы увидим, вторичное (то есть клинико-диагностическое) значение. Погружаясь в очевидное содержание сновидения —которое, после эпохального постулата Фрейда относительно реконструкции латентных идей сновидения, было оттеснено на задний план — познаешь истинный смысл первичной прямой взаимозависимости ощущения и образа, настроения [Gestimmtsein] и образного воплощения. И то, что верно в отношении коротких циклов,
тематическое отображение которых мы можем наблюдать в образах и настроениях сновидцев, конечно же, верно и в отношении более продолжительных и глубоких ритмов нормальных, патологически экзальтированных и депрессивных "диссонансов".
Однако вскользь мы можем отметить, что счастливые, восходящие фазы циклов жизни могут воплощаться не только в образах подъема, и что то же самое справедливо mutatis mutandis* для несчастливых нисходящих фаз жизни. Сказанное можно пояснить двумя примерами.
Второе сновидение Готфрида Келлера имело особенно интересное для нас продолжение. После слов: "Это сновидение очень опечалило меня", — он продолжает:
"...однако я очень обрадовался, когда пришла юная девушка и предложила купить у нее большой букет гвоздик. Меня несколько удивило, что в декабре еще можно найти гвоздики. Я начал торговаться с ней. Она просила за букет три шиллинга. Но в кармане у меня было только два шиллинга, что сильно смутило меня. Я попросил у девушки гвоздик на два шиллинга или столько, сколько войдет в мой бокал для шампанского, который обычно служил мне вазой для цветов. "Смотрите, они все поместятся", —сказала она, осторожно вставляя цветок за цветком в тонкий сверкающий бокал. Я наблюдал за ней и почувствовал, что меня охватывает чувство восторга, которое приходит всегда, когда мы наблюдаем за человеком, легко и грациозно выполняющим тонкую работу. Но, когда девушка поставила в бокал последнюю гвоздику, я снова забеспокоился. Затем она нежно и ласково взглянула на меня и сказала: "Смотрите! Их оказалось не так много, как я думала; они стоят всего лишь два шиллинга". Эти гвоздики были не совсем реальными — огненно-красного цвета и с исключительно сильным и приятным ароматом".
Таким образом, после того как "маленький злобный мальчишка" разбрасывает перья "удивительно красивого коршуна", и грубая толпа равнодушно оставляет мертвую птицу на навозной куче, рождается новая волна, несущая с собой уже не образ подъема, а образы ярких благоухающих цветов, милой, очаровательно-лукавой девушки, сверкающего тонкого бокала для шампанского — все это тематически связано с радостной сценой, которая, несмотря на моменты замешательства и тревоги, остается радостной до конца. Здесь волна подъема проявляется посредством гармонического сочетания сильных чувственных и эротических раздражителей и, в то же время, посредством эмоций, соответствующих теме сценического образа.
* С соответствующими поправками (лат.). — Прим. перге.
Иногда внезапная перемена победно-радостной жизненной волны на преисполненную тревоги, выражается в том, что тускнеют или совсем исчезают яркие краски, меркнет свет и видение в целом теряет выразительность, что хорошо иллюстрирует сновидение о фазанах у Гете в его "Путешествии в Италию":
"Так как сейчас я несколько ошеломлен сокрушительным потоком хороших и желанных мыслей, то не могу не рассказать своим друзьям о сновидении, которое приснилось мне около года тому назад, и показалось мне очень важным. Мне приснилось, что я плыву на небольшой лодке и причаливаю к острову с плодородной и возделанной почвой, где, как я знал, разводят самых красивых фазанов в мире. Я тут же стал торговаться с жителями острова по поводу покупки нескольких птиц, и они забили и принесли их мне в большом количестве. Это действительно были фазаны, но так как в сновидениях все вещи обычно изменяются и модифицируются, то мне показалось, что у них длинные, богато раскрашенные хвосты, как у прекраснейших райских птиц, с глазками как у павлинов. Жители острова несли мне их десятками и искусно складывали в лодке головами внутрь, тогда как длинные пестрые перья хвостов свисали наружу. В результате в ярком солнечном свете выстраивался невыразимо восхитительный ряд, настолько протяженный, что на носу и корме едва оставалось место для гребца и кормчего. Пока нагруженная лодка тихо плыла по воде, я мысленно вспоминал друзей, которым мне хотелось бы раздать эти пестрые сокровища. Прибыв наконец в большую гавань, я почти затерялся среди крупных многомачтовых судов, поэтому мне пришлось взбираться на них, минуя палубу за палубой, чтобы отыскать проход, по которому я смог бы благополучно провести свою маленькую лодку к берегу.
Такие сновидения обладают очарованием, ибо, несмотря на то, что берут свое начало от нашего внутреннего я, они в той или иной степени несут в себе аналогию с остальной нашей жизнью и судьбой".
Это сновидение приснилось Гете примерно за год до его путешествия в Италию, когда оно было записано. Устойчивость впечатления и его воскрешение в памяти сновидца долгое время спустя дает психологу ясную картину шаткости состояния и даже угрозы существованию Гете в момент сновидения — опасности, которую он благодаря надежному инстинкту преодолел, бежав в Италию, на юг, к краскам, солнцу, к новой жизни ума и сердца. Однако давайте снова вернемся к сновидениям о полете и плавании. Мне хотелось бы с помощью примера проиллюстрировать, что интерес психиатра часто вызывают не чисто образные
сновидения, а те, образное содержание и динамика которых отступают перед чистой эмоцией. Когда желания и страхи человека объективируются преимущественно в драматических образах, из которых затем, как мы видели, может всплыть эмоциональное содержание, то это признак психического здоровья. В нижеследующем "космическом" сновидении одного из моих пациентов эмоциональное содержание настолько преобладает, что даже такой исключительно сильной объективации, как образ космоса или вселенной, уже недостаточно для того, чтобы образно связать его воедино. Здесь пациент не может ни стать сторонним наблюдателем драмы, отрешившимся от своего собственного тела, ни полностью погрузиться в нее:
"Я оказался в дивном ином мире, в огромном океане, где я плавал в аморфном состоянии. Издалека я видел землю и звезды, чувствовал себя необыкновенно свободным и легким и одновременно ощущал в себе исключительную силу".
Сам пациент характеризовал это сновидение как сновидение об умирании. Это свободное плавание в бесформенном состоянии, это чувство полного растворения собственной физической структуры (формы) диагностически неблагоприятны. А контраст между ощущениями невероятной силы и собственной бесформенности указывает на существование глубокого нарушения в психической структуре пациента. Когда пациент говорит о сновидении как о поворотном пункте своей жизни и находит его эмоциональное содержание настолько притягательным, что возвращается к нему в своих грезах наяву и отдается ему до такой степени, что действительно пытается лишить себя жизни, то дело уже не в сновидении, а в психозе пациента. Сказанное однажды Иеремией Готхельфом о своем сновидении — "Я почувствовал, как исцеляющая сила ночи окутала меня"; и далее: "Не являются ли сновидения, к тому же, и милосердными дарами Господа и не должны ли мы использовать их для своего духовного роста?" —все это нельзя отнести к нашему сновидцу. Насколько отлично по стилю и структуре сновидение нашего пациента от нижеследующего — также космического — сновидения Жан-Поля о полете:
"Иногда бывает так, что блаженно счастливый, возносясь духом и телом я взмываю в бездонную синь звездных небес и, поднимаясь все выше, пою песнь небосводу".
Насколько отличны удивительные, хотя и несколько стилизованные, сновидения Готфрида Келлера о родине из четвертого тома "Зеленого Генриха". Здесь сновидец будто бы плывет над
множеством удивительных естественных форм; то, что он видит под собой, кажется подземным небом, "правда, это зеленое небо со звездами всевозможного цвета". По сравнению с этим, абстрактная космическая фантазия нашего пациента только вселяет ужас. И если Келлер обеспокоен, считая свои сновидения предвестниками серьезного заболевания и всячески пытается освободиться из их плена, то нашего пациента все больше увлекает чисто субъективная, мнимая эстетическая прелесть сновидения. С растворением в глубокой субъективности содержания сновидения пронизанного чистым настроением, наш пациент теряет смысл жизни, что он и сам признает: "Мы пребываем в мире для того, чтобы выяснить смысл жизни. Но жизнь не имеет смысла, и поэтому я хочу освободиться от жизни, чтобы вернуться к первичной силе. Я верю не в личную жизнь после смерти, а в растворение в первичной силе". Полное отчаяние в том, что касается смысла жизни, означает то же самое, что и растворение человека в чистой субъективности; действительно, одно является обратной стороной другого, ибо смысл жизни —это всегда нечто транссубъективное, нечто универсальное, "объективное" и безличное. Но, следует добавить, что, строго говоря, до тех пор, пока человек остается человеком, полного растворения в чистой субъективности не может быть никогда. Стремление нашего пациента вернуться к первичной силе также указывает на желание иметь объективную основу и позицию. Только в этом случае такое стремление реализуется — используя разграничение Бер-толле —чисто динамически, или даже в космически-динамическом плане, а не, скажем, теистически-персоналистском. Обстоятельное изучение внешней и внутренней истории жизни нашего пациента показывает, что этот поворот к первичной космической силе соответствует сильному эротическому эдиповому импульсу, а именно, анаклитической* потребности опереться на любимую мать (что было ясно выражено и действительно проявлялось у пациента в юности). Таким образом, здесь за внешне объективным динамизмом скрывается чисто субъективный персонализм, который способен лишить его последней точки опоры, обретаемой в объективном и безличном.
II
Образ хищной птицы, атакующей голубя или другое животное, готовой разорвать и уничтожить его, — это образ, известный с
* От греческого aiwklitos — наклонный. — Прим. ред.
древних времен. Однако современный человек, становясь хозяином и повелителем своей жизни и смерти, должен построить свой собственный личный мир; внешним мир, управляемый материальными, экономическими и техническими силами, уже не может дать ему точку опоры. Древний человек, напротив, ни наяву, ни в сновидениях не знал того космического одиночества, пример которого мы только что видели у нашего сновидца. Древний человек не понял бы и глубокой мудрости слов Иеремии Готхельфа: "Подумайте, какой бы мрак воцарился бы в мире, если бы человек возомнил себя своим собственным солнцем!" Человек античности жил в космосе, определявшем даже самый сокровенный его выбор, будь то во сне или наяву. Ибо то, "что в момент принятия решения кажется нам мотивом, для посвященных является волей богов. Именно в них, а не в непостижимых эмоциях человека скрывается суть и основа всего самого важного происходящего в человеке"1. Это не значит, что нам следует сегодня перенимать завершенные формы Древней Греции. Но мы должны осознать, как это делает современная гуманистика, что культурная история греков включает построение мира форм, "в котором естественные законы человеческой природы разворачиваются во всех направлениях", и что с постижением этого мира форм происходит не что иное, как "самопонимание и саморазвитие духовного человека в основополагающей структуре его бытия"2. Исходя из этого мы перейдем теперь к нашей конкретной проблеме.
Когда в сновидении Пенелопы ("Одиссея", ХГХ) орел устремляется вниз, чтобы расправиться с гусями, терзая их шеи своим цепким клювом, ни поэт, ни читатель не считают это выражением субъективных процессов в психике сновидца. Сновидение предвещает внешнее событие, а именно — расправу Одиссея со всеми, кто явился свататься к его жене. (То же самое можно сказать и об аналогичном сновидении Гекубы — о волке, нападающем на оленей —в трагедии Еврипида.) Такие сновидения, несомненно, являются плодами художественного вымысла. Но понимание, обретенное нами благодаря психоанализу, позволяет нам повторить известное суждение Цицерона, который, описывая пророчества своего брата Квинта (постоянно подтверждаемые вымышленными сновидениями), вкладывает в его уста следующие слова: "Наес, etiam si ficta sunt a poeta, non absunt tarnen a consuetudine somnorium". ["Подобное, даже если оно и выдумано поэтом, тем не менее, характерно и для обычной формы сновидений".]
Однако даже чаще, чем в сновидениях мы встречаем использование образа орла и голубя, орла и гуся, или, скажем, сокола и орла в качестве предвестия благоприятного или неблагоприятного толкования оракулом или провидцем пророческого смысла сновидения. И здесь образ соотносится с внешним событием, в соответствии с изначальным убеждением греков в том, что малейшие события, происходящие в мире, координируются и предопределяются Мойрами и богами. (Ср. лаконичное высказывание Гераклита: "Солнце не преступит своих пределов; иначе Эринии, богини мщения, проведали бы об этом".) В Эсхиловых "Персах" (I, 206) мы встречаем пример именно такого прорицания, следующего за сновидением. После того, как Ксеркс отправился в поход, намереваясь разорить земли ионийцев, его матери, Атоссе, приснились две женщины: одна, облаченная в персидские одежды, а другая — в дорийское платье. Они начали ссориться, и Ксеркс запряг обеих в свою колесницу. Одна из них держалась гордо, а другая противилась и разорвала упряжь повозки. Ксеркс упал на землю, и рядом с ним, сокрушаясь с ним вместе, встал его отец, Дарий. Но Ксеркс, увидев Дария, рвет на себе одежды. Глубоко взволнованная этим и другими подобными ему сновидениями Атосса идет к алтарю с фимиамом в руке, с тем, чтобы преподнести жертву божествам, отвращающим зло.
"Гляжу: орел у жертвенника Фебова Спасенья ищет. Онемев от ужаса, Стою и вижу: ястреб на орла, свистя Крылами, с лету падает и в голову Ему вонзает когти. И орел поник И сдался" .
Данный образ отнюдь не воспринимается как берущий свое начало то ли в сновидении, то ли во внешнем мире. Это показывает насколько в сознании греков стерты границы между различными сферами переживания, внешнего мира и культа; это обусловлено тем, что для них субъект-источник образа сновидения, субъект космических событий и субъект пророчества представляют собой одно и то же: бога, Зевса, или же тех, кто непосредственно связан с ним. Здесь образ сновидения (образ двух женщин, запряженных в колесницу, их ссора и падение Ксеркса), внешнее событие (сокол и орел) и культовый смысл образуют нераздельное целое. Можно ли здесь сказать что-либо
* Перевод С.Апга. — Прим. ред.
об индивидуальном субъекте и возможно ли его онтологическое обоснование этого? Следует ли искать истину во внутренней субъективности или же во внешнем, в объективности? Ибо здесь все "внутреннее" является "внешним", точно также, как все внешнее является внутренним. Поэтому совершенно неважно, следует ли пророческое событие за сновидением или же никак не связано с ним —точно так же, как иной раз само сновидение, не сопровождаемое событием-предвестием, может тоже выражать волю бога.
В "Одиссее" (XV, 160) мы встречаем два предзнаменования подобного рода, которым предшествуют сновидения:
"... в это мгновение справа орел темнокрылый Шумно поднялся, большого, домашнего, белого гуся В сильных когтях со двора унеся; и толпою вся дворня С криком бежала за хищником; он, подлетев к колеснице, Мимо коней прошумел и ударился вправо. При этом Виде у всех предвещением радостным сердце взыграло" .
По этому знамению Елена толкует будущее Телемаку: как этот орел настиг домашнего гуся, так и Одиссей вернется в свой дом и отомстит. В той же книге "Одиссеи" (XV, 525) мы встречаем образ, абсолютно аналогичный образу из сновидения, приведенного выше:
"...в это мгновение справа поднялся огромный
Сокол, посол Аполлонов, с пронзительным криком; в когтях он
Дикого голубя мчал и ощипывал; перья упали
Между Лаэртовым внуком и судном его быстроходным".
Эта птица, также летящая прямо и вправо, послана богами как предвестник удачи.
Таким образом, мы не находим никаких упоминаний о подъеме и падении применительно к течению жизни отдельного индивида. Скорее речь идет о роде или семье объединенных общей предопределенной судьбой и переживающих подъем, процветание или упадок, горе. Индивид, человеческий род, судьба и бог переплетены в одном общем пространстве: х. Поэтому еще более знаменательно и поучительно, что мы находим в этом экзистенциальном пространстве —так не похожем на наше собственное — столь явную манифестацию онтологического структурного элемента подъема и падения.
Вместо неоплатонического, христианского и романтического контраста между внутренним и внешним, мы находим у ранних греков противопоставление ночи и дня, тьмы и света, земли и
* Зд. и далее перевод В.А.Жуковского —Прим. ред.
солнца. Сновидения относятся к стихии Ночи и Земли; это демоны, обретающиеся в своей конкретной сфере {Демосу Гомера) и образующие свое собственное племя (Филон у Гесиода). Их мать —ночь (Гесиод); она же —мать сна и смерти. Таким образом, тесная связь между демонами сновидений и душами умерших, которые с мольбами или сетованиями появляются во сне —тема, встречающаяся у Эсхила (Эвмениды), Еврепида (Гекуба), а также у Гомера —облекается в завершенную художественную форму, наделенную глубоким психологическим и эстетическим воздействием.
Чрезвычайно важно, что, хотя сами сновидения полностью относились у греков к ночному аспекту существования, их пророческое толкование, предсказание, постепенно уходило из сферы влияния Геи, древней богини Земли (тесно связанной с Ночью) и узурпировалось новым богом, Аполлоном Фебом. В сновидение Хтоссы и в предзнаменовании сокола и орла не разделяются внутреннее и внешнее, или субъективное и объективное события. Скорее в них выражено размежевание гнетущего, темного, мрачного царства ночи, которая всегда рядом, готовая увлечь нас в своих глубины и царства самого бодрствующего из всех богов, бога солнца Аполлона, самого дальновидного и меткого.
Однако мы знаем, что наряду с этим неизменно возвышенным религиозным мировоззрением, свойственным грекам, им были не чужды также серьезное, эмпирическое наблюдение и основанная на нем научная теория. Но прежде всего нам хорошо известна их философская, метафизическая концепция мира как органично структурированного порядка космических событий, от самых всеобщих до самых частных и, казалось бы, случайных, однако так или иначе связанных между собой. В полемике против пророческих сновидений Цицерон приводит три концепции в качестве возможных для объяснений пророческих знаков в сновидениях, а затем переходит к критике всех трех толкований, а вместе с ними и представления о пророческих сновидениях в целом, в чем мы сегодня сходимся с ним во мнениях. Речь идет либо о вдохновении божественными силами (divina vis quaedam), либо о "соп-ventia et conjunctio naturae"*, "quam vocant (auunaBetav)", либо о длительных настойчивых наблюдениях (quaedam observatio cons-tans atque diutwna)** за совпадениями между происходящим во сне и последующими реальными событиями (De divinat. II, 60, 124). Новым элементом, с которым он знакомит нас, выступает доктрина о симпатическом начале. Впрочем, эта доктрина так же встречается
* Схождение и совпадение природы (лат.). — Прим. ред. *'* Которое называется сопереживание (лат.). —Прим. ред.
и у Гераклита, у стоиков (в частности, у Посидония), а позднее в несколько иной форме у Плотина и в книге снов Синесия. Речь идет об известной философской доктрине Единого, которая всегда будет вызывать в памяти дух Древней Греции. Существуют различные варианты этой доктрины: так, у Гераклита (см.: К.Reinhardt, Kosmos und Sympathie) подразумевается единство Бытия (в смысле ev %ш nav) и его частей, борьбы и гармонии, или, как позднее сформулировал Посидоний, единство "материи и духа, природы и Бога, случайного и предопределенного". От этого следует отличать, опять же, единство как Всеединое (в смысле ev то Tiav), магическое слияние влекущих и зовущих сил, открытости и скрытости, культового и философского начала, "перетекания одного явления в другое", —все, что мы находим даже сегодня в суевериях любого народа и особенно в суевериях, связанных со сновидениями. В то время как религия и философия ранних греков признавали только гармоничный порядок космоса и мира, у Посидония мы находим уже чисто динамический взгляд на мир: вместо представления о порядке, мы находим представление о "проясняющей" (erklдrlich), естественной, но вместе с тем загадочной и таинственной силе", „понятие, все еще бытующее в современных научных и философских теориях. У греков и римлян все это выражалось в толковании сновидений до самого крушения старого мира. Неоспоримым признаком этого крушения явилось презрительное разъяснение Петрония, утонченного вольнодумца, доверенного лица Нерона, о том, что сновидения приходят к человеку не по распоряжению и повелению богов, а каждый человек создает их сам: "Somnia quae mentes ludent voli-tantibus umbris, non delubra deum, nee ab aethere numina mittunt, sed sibi quisque facit"*. (Anth. lat., 651 R.)
Как до него Лукреций [De Rerum Natura, TV, 962 —1029), давший высоко реалистичное толкование связи между переживаниями в сновидениях и повседневной деятельностью, страхами, желаниями и сексуальными стремлениями, так и Петроний затронул важнейший аспект современной теории сновидений: "sed sibi quisque facit!" Здесь не только история проблемы сновидений, но и история в целом показывает разрыв между древним и современным: гордыня индивидуализации, всемогущий и богоподобный человеческий индивид поднимает голову. В контексте этого противоречащего природе возвышения человека, противополагающего себя всему греческому миру форм ("в котором естественные законы человека
* Сновидения, дразнящие души людей летучими тенями, не боги ниспосылают, но каждый создает себе их сам (лат.). — Прим. ред.
разворачиваются во всех направлениях"), нам следует снова взглянуть на нашу конкретную проблему: сновидения и существования.
III
Кто же этот Quisque* Петрония? Подвластен ли нам такого рода субъект сновидения или сам акт сновидения? Защитники Quis-^we-теории субъективности забывают, что они усвоили только одну половину истины. Они забывают: человек направляет свой экипаж "туда, куда желает, но под его колесами вращается, хотя он не замечает того, земной шар, по которому он движется". Сказанное в равной мере справедливо и что касается чисто научно-генетической концепции сновидений, и по отношению к нравственному смыслу сновидений, проблеме моральной ответственности человека за свои сновидения. Разграничение, которое Фрейд проводил между эго и ид, Хеберлин —между эго и универсумом, Юнг — между индивидуальным и коллективным бессознательным, Шлейермахер — между сознанием индивида и сознанием человеческого рода, Августин — между тем, что происходит в нас, и тем, что происходит посредством нас —все это так или иначе выражает разграничение между повозкой и земным шаром, по которому она движется.
Однако существует еще одно такое разграничение, сыгравшее важную роль в истории философии, при этом все забывают, что первоначально оно было связано с разграничением между видением снов и бодрствованием. Я имею в виду разграничение между, с одной стороны, образом, чувством, субъективным мнением, "doxic-формой"** (Платон, Гуссерль) в целом и рассудком, объективностью и истиной — с другой. Именно это разграничение проводится между Quisque, индивидом, обособленным, Hekastos*** греков и человеко-божественной общностью, единство которой представляется покоящимся на Логосе и взаимном понимании. Если для Петрония и для эпохи Просвещения Quisque означает неизвестное X, скрытое за создаваемым им сновидением, то здесь человек —это нечто большее, чем просто Quisque (хотя он и является таковым, в той мере, в какой он погружается в мир сновидения, образов и чувств). Здесь индивид перестает быть построением наивно реалистической метафизики, индиви-
* Каждый (лат.). — Прим. ред.
** От гр. doxa — мнение. — Прим. ред.
*** Каждый (гр.). —Прим. ред.
дуальность становится формой человеческого бытия, способом быть человеком, то есть формой недуховного человеческого существования. Эта доктрина связана с такими именами, как Гераклит, Платон, Гегель, Кьеркегор, Хайдеггер.
Согласно Гегелю, начало философии следует датировать со времен Гераклита, первого из мыслителей, у кого "философская мысль представлена в ее спекулятивной форме". Его великой идеей был переход от бытия к становлению, его великое понимание заключалось в том, что бытие и небытие — это ложные абстракции и что только в становлении заключена истина. В связи с этим Гераклит указывает на имманентность момента отрицания, который в то же время является принципом жизненности. Гегель и Гераклит сходятся также в своем пренебрежении и даже презрении ко всему индивидуальному и обособленному и ко всякому интересу к ним. В той же мере оба находят "бессмысленным" "считать сознательную индивидуальность единичным феноменом существования", ибо "противоречие здесь состоит в том, что ее сущностью является универсальность духа" (Гегель, "Феноменология духа").
В части I мы уже рассматривали индивидуальность (индивидуального сновидца) относительно универсального (хотя, конечно же, только в рамках небольшого экзистенциального сегмента), а именно относительно картины счастливой или несчастной, гармоничной или негармоничной индивидуальной жизни и такого образа сновидения, как взлет птицы или ее падение с небес. Универсальное содержание трансиндивидуального образа, интересующее нас здесь, не создается каждым индивидом, тем не менее каждый индивид видит его в своих сновидениях, и оно либо притягивает его, либо отталкивает. Образы индивида, его чувства и настроения принадлежат ему одному, он живет в своем собственном мире; а пребывание в полном одиночестве, психологически равнозначно видению снов —независимо от того, находится ли он в это время в психологическом состоянии сна или нет. В действительности в этом и заключался критерий Гераклита для разделения состояния видения снов и бодрствования. "Бодрствующим, — говорит он, — принадлежит один и тот же общий мир (eva xai KOIVOV Koa|iov)*; во сне же каждый (Hekastos, Singularis) возвращается в свой собственный (мир) (гщ iSiov аяоатрефеаОш)"**.
О Гераклитовом противопоставлении общего (Koinцn или Xynori) единичному, частному или личному (Idiori) написано очень много. Однако особенно поучительна в этом отношении его близость к
* Один и тог же общий космос (гр.). —Прим. ред. ** Возвращается к своему (гр.). —Прим. ред.
Гегелю —особенно в его "Истории философии". После Анаксагора "космос" как выражение для обозначения мира, употреблявшееся Гераклитом —означает не (объективный) мир, а (субъективное) состояние единообразия fXцivoc;)* и рассредоточения (lцioc;)**.
Для Гераклита это единство и рассредоточение определяет "Логос", термин, который иногда следует переводить как "слово" и "речь", а иногда как "мысль", "теория", "умозаключение", "рациональное, основанное на законе отношение" и т.д. Таким образом, оно в равной мере применимо как к пониманию, так и — по словам Гегеля —к тому, посредством чего человек добивается понимания (коммуникации). Общим в обоих случаях является понимание в смысле рефлексивной мысли (то ppovesin)*** [Поэтому, хотя существует нечто, в чем можно найти общее для всех и могущее быть сообщенным, то есть Логос, тем не менее многие живут так, будто они могут иметь свое собственное понимание или свои собственные личные мысли (фр. 92). Это, однако, независимо от физиологического состояния, равнозначно видению снов. Такие сновидцы не замечают того, что делают по пробуждении, точно так же, как они забывают, что делают, когда спят (фр. I). Для Гераклита истинное бодрствование —это, в негативном смысле, пробуждение от собственного мнения (doxa) и субъективного убеждения. Но, в позитивном смысле, — это жизнь (и не только жизнь разума), сообразная законам универсального, назовем ли мы это универсальное логосом, космосом, софией или же будем рассматривать в их сочетании, подразумевая постижения разумом единства и, закономерной взаимосвязи и действие согласно этому пониманию. Гегель, представляя эту доктрину Гераклита, отмечает, что здесь Разум, Логос становится судьей Истины — но отнюдь не второстепенной истины, а скорее божественной, универсальной истины: "той меры, того ритма, что проникает до самой сути Всего" (отголосок древнего сюцяабекх)****.
Только в той мере, насколько мы живем в осознании этой взаимосвязи — называем ли мы ее пониманием, мудростью или отражением — настолько мы бодрствуем. "Это форма чувстви-
* Общий (гр.). — Прим. ред.
** Частный, свой (гр.). — Прим. ред.
*** По поводу основного значения ppove'iv и рроуцец в греческой философии и того,
что под ними подразумевали Сократ, Платон и Аристотель, см.: Werner Jaeger,
Aiistotle. ****Сопереживание (гр.). —Прим. ред.
тельности [Verstдndigkeit], которую мы называем пробужден-ность". "Если мы не связаны с целым, значит мы просто видим сон". Обособленное (от целого) понимание теряет, согласно Гераклиту, силу осознанности, присущую ему прежде, или, согласно Гегелю, из него ускользает дух как индивидуация объективности: это —не единичное как проявление универсальности. Мы соучаствуем в Истине в той мере, в какой разделяем божественное понимание, но насколько мы индивидуальны и особенны, настолько мы заблуждаемся:
"Ничего более верного и более непредвзятого об Истине сказать нельзя. Только сознание универсального является сознанием истины; а сознание частности и частного действия, самобытности, из которой следует исключительность содержания или формы, —ложно и порочно. Поэтому заблуждение состоит исключительно в детализации мысли — заблуждение и зло заключается в отрыве от универсального. Большинство людей полагают, что их представления должны быть чем-то особенным и оригинальным; это иллюзия".
Согласно Гегелю, "знание чего-то, что осознаю только я" — это видение сна; это же справедливо и в отношении воображения (в смысле фантазии) и эмоции, "то есть такого состояния, когда нечто существует только для меня, или во мне как данном субъекте; и какими бы возвышенными эти эмоции ни казались, они, тем не менее, все равно во мне и неотделимы от меня. Так же, как объект может быть не воображаемым, то есть исключительно продуктом моего воображения — только в том случае, если я осознаю его как автономно существующий, так и эмоция может быть частью "Истины", только тогда, когда я — как говорит Спиноза —знаю о ней sub specie aetemitatis'. Хотя сказанное может звучать слишком абстрактно, в действительности это довольно близко к истине, ибо в каждой серьезной ментальной деятельности, в частности в психоанализе, наступают моменты, когда человек должен решать: либо гордо и открыто держаться за свое собственное мнение, —свой личный театр, как выразился один пациент, —либо отдать себя в руки врача, считая его мудрым посредником между личным и общим миром, между иллюзией и истиной. То есть он должен решить: хочет ли он пробудиться от своего сна и участвовать в жизни универсального, koinbs cosmos**. К счастью, нашим пациентам для выздоровления не обязательно понимать Гераклита или Гегеля; но ни один из них не может обрести подлинного
* С точки зрения вечности (лат.). — Прим. перев. ** Общий космос (лат.). —Прим. ред.
здоровья, если врачу не удастся пробудить в нем ту искру разума, которая должна бодрствовать, чтобы человек ощущал легчайшее дыхание этого koinos cosmos. Наверное, Гете выразил это лучше любого современного психотерапевта:
"Войди в себя! И если там разумом и чувством Ты не соприкоснешься с бесконечностью, То никто не поможет тебе!"
Это не значит, что с пробуждением ощущения бесконечности, как являющей собой противоположность ограниченности единичного, индивид должен освободить от своих чувств и образов, желаний и надежд. Просто они должны быть изъяты из контекста волнений, тревог и отчаяния, контекста падающей, погружающейся, нисходящей жизни и перенесены в другой контекст —не абсолютного, гробового спокойствия, а восходящей, неустанно взмывающей вверх жизни. Сказанное иллюстрирует сновидение одного из моих пациентов, увиденное им после сеанса терапии. Оно демонстрирует, что однажды пробужденный дух может превратить даже сновидение в, по меньшей мере, образ универсальной жизни.
"Уставший и измученный сильным внутренним беспокойством и тревогой я наконец заснул. Во сне я шел по бескрайнему пляжу, безостановочно набегающие на берег волны и их неустанное движение приводили меня в отчаяние. Я хотел, чтобы в моей власти было вызвать штиль и заставить океан успокоиться. Затем я увидел среди дюн идущего ко мне высокого мужчину в широкополой шляпе. Одет он был в широкий плащ, а в руках нес трость и большую сеть. Один его глаз скрывала большая прядь волос, спадающая на лоб. Подойдя ко мне, он раскинул сеть, поймал в нее море и положил передо мной. Пораженный этим я заглянул в сеть и увидел, что море медленно умирает. Невероятное спокойствие охватило меня, а пойманные в сеть водоросли, животные и рыбы медленно приобретали призрачную коричневатую окраску. В слезах я бросился в ноги к этому человеку и стал умолять его освободить море — теперь я знал, что волнение означает жизнь, а покой —смерть. И тогда он разорвал сеть и выпустил море; и когда я снова услышал шум разбивающихся о берег волн, меня охватило радостное ликование. Затем я проснулся!"
Это сновидение чрезвычайно интересно во многих аспектах. Заметьте разделение на три элемента: тезис (сновидение, мучительная жизнь в изоляции), антитезис (смерть в результате полного растворения индивидуальной жизни вслед за абсолютной капитуляцией перед непреодолимым объективным принци-
пом "отличия") и синтез (посредством "восстановления объективности в субъективности"). Таким образом, сновидение образно отражает психоаналитический процесс как последовательный переход пациента от настойчивого сохранения своей изоляции к смиренному подчинению (безличному) "авторитету" врача ("фаза трансфера") и к "развязке трансфера". Тот факт, что такое ослабление сдерживающей силы трансфера (о которой так много писали и продолжают писать) невозможно без подлинного вдохновения, без пробуждения к более ясному бодрствованию как его понимали Гераклит и Гегель — в противном случае это фальшь и самообман, упускается из виду как при односторонне биологической интерпретации, так и в том случае, если дух противопоставляется жизни. Однако как психотерапевты мы должны идти дальше Гегеля, ибо мы имеем дело не с объективной истиной, не с соответствием между нашим собственным мышлением и реальностью объектов как объектов, а с "субъективной истиной", как сказал бы Кьеркегор. Мы имеем дело с "самой сокровенной страстью", посредством которой субъективность должна проникнуть в область объективной (объективность коммуникации, согласованности и подчинения надличностной форме) и снова выйти из нее (как показывает третья фаза нашего сновидения). Только на основе такого понимания сам психиатр может перейти от спящего духа к бодрствующему. Поэтому то, что Кьеркегор говорит о Лессинге, можно сказать и о нем самом: "Не добиваясь рабской преданности, не признавая рабских ограничений он, будучи сам свободным — помогает тем, кто обращается к нему, вступить в свободные взаимоотношения с ним".
Все эти проблемы присутствуют в скрытом виде в доктрине трансфера Фрейда и особенно в его теории преодоления трансфера. Но они так и остаются не раскрытыми там, ибо еще никому не удалось и никогда не удастся проследить происхождение человеческого духа из инстинктов (Triebe). Эти два понятия по самой своей сущности несопоставимы; именно их несопоставимость оправдывает существование двух разных понятий, каждого в рамках надлежащей ему сферы. В этом отношении гораздо глубже доктрина индивидуации Юнга, индивидуации как освобождения самости от "фальшивой маски персоны, с одной стороны, и суггестивной силы бессознательных образов —с другой". Но при всей глубине понимания Юнгом индивидуации, которую он рассматривает как "процесс психологического развития", фундаментальная проблема индивидуации здесь также остается нераскрытой в силу того, что противоположность
между сновидением и бодрствованием, пребыванием в своем собственном мире и пребыванием в общем мире принимается не за то, чем она есть на самом деле: не за противоположность между образом и ощущением (которые всегда идут рука об руку), с одной стороны, и интеллектом — с другой. Однако вследствие того, что такой контраст здесь действительно существует, это не могло остаться вне поля зрения такого исследователя, как Юнг. Попытка объяснить природу этого контраста компенсаторной функцией сознательного и бессознательного неудовлетворительна, ибо при этом основная проблема теряется в спекулятивной детализации и теоретизировании. Сказанное особенно справедливо в том, что касается понятия "коллективного бессознательного", выступающего одновременно как нечто вроде эйдетического "расового сознания", как его понимает Шлейер-махер, и вместе с тем как нравственное в своей основе обращение к универсальному, к "миру" или "объекту". Ясно, что в такого рода "коллективном бессознательном" контраст не ослабевает. То же верно и в отношении концепта самости Юнга, где сознательное и бессознательное "дополняют" друг друга, образуя целое. Предполагается, что бессознательные процессы, компенсирующие сознательное эго, содержат в себе все элементы, необходимые для саморегуляции психики в целом. Они должны рождаться в уме, однако следует иметь в виду, что не компенсаторный механизм регулирует всю психику в целом, а напротив, фундаментальный этический фактор, сознание, скрытое в этой компенсации, приводит в движение весь функциональный динамизм; не способствует решению проблемы и перенос ее с целого на части. В теории Юнга успешно используются восточные источники из Индии и Китая, а также знания о примитивной мен-тальности. Мы же, со своей стороны, несмотря на должное уважение к этим источникам, считаем, что в психологии, психоанализе и психиатрии такое отступление назад от достигнутого греками в их понимании существования, неоправданно.
Теперь вернемся к нашей отправной точке. Когда в результате горького разочарования, у меня под ногами разверзлась земля, то позднее, когда "мне снова удается взять себя в руки", я говорю
* Мы рассматриваем тревожные сновидения как прототип первичной экзистенциальной тревоги Dasein (как такового). См.: Heidegger, Was ist Metaphysik? Видеть сон означает: "я не знаю, что происходит со мной". В этом "я" и "со мной", несомненно, просматривается индивид, Qumque и Hekastos; однако этот обнаруживающий себя индивид никоим образом не является творцом сновидения; скорее он тот, для кого это сновидение — неизвестным ему образом — создается. Здесь этот индивид — не что иное, как "себетождественность".
0 случившемся: "Я не знаю, что на меня нашло". Здесь, как говорит нам Хайдеггер, Dasein предстает перед своим собственным Бытием — то есть в тот момент, когда нечто происходит, с самим Dasein, ему неведомо, собственно "что" и "каким образом" происходит. Это основной онтологический элемент всего видения снов и его связи с тревогой*.
Наша цель здесь состояла в том, чтобы указать место сновидения в контексте этой общей основы. Но помимо этого мы можем отметить, что сновидение и бодрствование имеют и нечто общее. И точно так же, как "переход" от одного к другому не ведает четких границ (несмотря на скачкообразный характер индивидуального жизненно-исторического решения), так и начало функции жизни (вместе с ней и сновидения) и конец внутренней истории жизни (бодрствование) принадлежит к области безграничного. Ибо так же, как не дано нам знать, где начинается жизнь, а где —сновидение, так на протяжении всей своей жизни мы снова и снова осознаем то, что быть "индивидуальным" в высочайшем смысле слова — не в силах человека.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Walter F. Otto, Die Gцtter Griechenlands (Bonn: Verlag Cohen).
2 Werner Jaeger, Die geistige Gegenwart der Antike (Berlin: Verlag de Gruyter).
в смысле "персональной нумерической тождественности (Кант): чисто формальная, лишенная субстанции игрушка жизненных взлетов и падений, волнение моря и спокойствие смерти, игра красок в солнечных лучах и мрак ночи, возвышенный образ орла в полете и жалкая кучка обугленной бумаги на полу, прелесть юной девушки, пряный запах морских водорослей, падение убитой птицы, пугающая сила хищной птицы и трепетность голубя. Индивид переходит от простой самотождественности к личности, сновидец пробуждается в тот непостижимый момент, когда он решает узнать, "что на него нашло", а главное, хочет "сам" вмешаться в эти события и взять под контроль их динамику, то есть в момент, когда он решается привнести последовательность или постоянство в непрестанно сменяющие друг друга жизненные взлеты и падения. Только тогда он что-то создает. Однако то, что он создает, — это не жизнь — ибо такое индивиду это не под силу; это — история. Наблюдая сон, человек (если использовать разграничение, проведенное мною в другом месте) являет собою "функцию жизни"; пробуждаясь, он творит "историю жизни". То, что он действительно создает, — это история его собственной жизни, его внутренняя история жизни, и мы не должны путать это с участием или неучастием во внешней истории, в истории мира, которая никоим образом не в его власти. Невозможно, как бы мы ни старались, — свести обе части дизъюнкции — функцию жизни и историю жизни — к общему знаменателю, ибо жизнь, рассматриваемая как функция, — это не то же самое, что жизнь, рассматриваемая как история. И все же и та, и другая имеют общее основание: существование.
Шизофрения: введение
Четыре статьи данной подборки представляют собой попытку проникнуть в структурный и динамический порядок человеческого существования, известный в клинической психиатрии как шизофрения. Выбор представленных историй болезни никоим образом не основывался на каком-то особенном ожидаемом "результате". Дело в том, что само понимание шизофрении с точки зрения аналитики Dasein находилось в то время на таком уровне, что никакого конкретного результата нельзя было предвидеть. Вследствие этого все зависело от способности учиться и руководствоваться беспристрастным рассмотрением уникальных аспектов каждого индивидуального случая. По самой природе вещей такое просвещение может осуществляться лишь очень медленно, шаг за шагом.
Тем не менее выбор этих историй болезни должен был удовлетворять определенным условиям. Первое и наиболее важное состояло в наличии достаточного количества биографического материала и сведений о течении заболевания, в частности, требовалось как можно больше описаний, предоставленных самим пациентом. В противном случае интерпретация течения шизофрении с точки зрения аналитики Dasein оказалась бы невозможной. Второе условие заключалось в том, чтобы основное внимание направлялось не на так называемые конечные состояния в качестве проявлений шизофрении, а в первую очередь — на экзистенциальный процесс, рассматриваемый ретроспективно и как можно ближе к тому, как он выражается в самом течении жизни. Третье условие основывалось на предположении оказавшемся верным о том, что выбор тех "случаев", когда началу шизофренического психоза предшествовал более или менее продолжительный период анормального поведения определенного типа, будет способствовать экзистенциальному пониманию шизофрении. Под такими типами поведения подразумеваются те, в которых можно усматривать, с одной стороны, еще характерные особенности образа жизни пациента, а с другой уже предвестники психоза. И наконец, попутно родилась идея, что было
бы, несомненно, полезно отобрать как можно более разнообразные случаи, так чтобы результаты не оказались привязаны лишь к "одному классу". И если получилось так, что три из пяти наших историй болезни касаются случаев острой или хронической мании страха преследования (Эльза, Лола Босс и Сюзанна Урбан), то это вполне соответствует ранее приведенным предварительным условиям, но вместе с тем означает, что проблема шизофрении, как я полагаю, достигает своей кульминации именно в мании [ Wahn], и особенно в мании преследования.
На этом закончим о принципах, которыми мы руководствовались при выборе наших случаев, и обратимся к основным конструктивным концепциям нашего исследования. Здесь, как и везде, самое важное в этих концепциях —это принцип порядка, то есть вопрос о том, каким образом мы упорядочиваем то ошеломляющее множество исторических, психологических, психопатологических и биологических данных, клинически объединяемых нами под названием "история болезни". Клиницист, конечно же, также стремится к порядку в историях болезни, однако к порядку, основанному на чисто клинических концепциях и том образе мыслей, который, исходя из натуралистически-редуктивной диалектики, трансформирует все данные в симптомы заболевания. Порядок же, к которому стремимся мы при общении с пациентом в ключе аналитики Dasein, совершенно иного рода. Он предваряет концепции больного и здорового, нормального и анормального и достижим только при такой интерпретации, которая усматривает во всех этих данных тот или иной модус существования, тот или иной вид экзистенциального процесса и детерминации. Поэтому, с точки зрения аналитики Dasein мы говорим о порядке вообще; он имеет чисто феноменологический характер. Но такой порядок невозможно было бы установить, если бы Dasein как таковое не обладало определенной онтологической структурой. Следует воздать должное Мартину Хай-деггеру, который открыл нам априорность онтологической структуры Dasein. Только после Хайдеггера стало возможным говорить о нарушении онтологической структуры Dasein и о его составляющих, то есть показать, какие элементы, так сказать, "нарушают" определенный структурный порядок и отвечают за бреши в нем и за то, чтобы эти бреши были вновь заполнены Dasein.
С этим мы приближаемся к тому, что в ключе аналитики Dasein представляет собой центральную проблему шизофрении, а также к ее решению. Ибо, определив противоречащие структурному порядку Dasein и способам его реализации элементы, мы оказы-
ваемся в состоянии не только аналитически упорядочить относительно Dasein ошеломляющее и чрезмерное множество данных конкретного клинического случая, но и сравнить в ключе аналитики Dasein это "множество" с совершенно иными "множествами" других случаев. Если клиническая психиатрия пытается осуществить такое сравнение на основании сходства или различия симптомов и синдромов, то аналитика Dasein дает нам систематическое сравнение иного рода —основанное на определенных экзистенциальных процессах и детерминантах. Вместо структурной единицы болезни, образующей небольшой и к тому же клинически и симптоматически, скорее всего, довольно изменчивый класс, мы имеем здесь некое единство экзистенциальных структур и процессов.
Так как главной конструктивной концепцией нашего исследования явилась концепция общего структурного порядка Dasein, то, прежде чем приступить собственно к изучению шизофрении, мы попытались разобраться в специфической онтологической структуре наших случаев. Как мы уже говорили, это возможно, только если подходить к ним без предвзятости, лишь придерживаясь исключительно материалов этих случаев и руководствуясь ими. Но поскольку в задачи настоящего введения не входит детальный рассказ о ходе нашей работы в каждом конкретном случае, перейдем к рассмотрению вопросов, касающихся конструктивных категорий или основных концепций, которые в ходе исследования открыли перед нами перспективу, позволяющую говорить о единстве изучаемых экзистенциальных процессов. Я буду обращать внимание читателя на конкретные случаи лишь постольку, поскольку они иллюстрируют эти категории.
Так как первой основной идеей, вытекающей из нашего исследования, является понятие непоследовательности переживания, то в качестве предисловия скажем несколько слов о порядке "естественного" переживания. Естественное переживание —это переживание, при котором наше существование протекает не только без размышлений с нашей стороны, но ненавязчиво и без проблем, так гладко, как естественный ход событий1. Такое отсутствие проблематичности связано, прежде всего, с объективностью. Даже если мы не осознаем нечто, оно не выпадает из того контекста, каким является естественное переживание. Таким образом, цепь событий в переживании может быть "естественной", только если она по своему существу последовательна, то есть находится, в нашем понимании, в гармонии с вещами и обстоятельствами, с другими людьми (с которыми мы встреча-
емся в ходе нашего повседневного взаимодействия с обстоятельствами и вещами) и с нами самими: одним словом, если она создает ощущение присущности [Aufenthalt —Хайдеггер]. Непосредственно эта присущность "вещам" или "обстоятельствам" проявляется в нашем разрешении всем существам быть такими, какими они есть сами по себе. Однако это разрешение быть никоим образом не является само собой разумеющимся или легким делом, а скорее —как, весьма убедительно и порою трогательно демонстрируют наши истории болезни —в высшей степени конструктивным и активным процессом.
А. Основной концепт, используемый для понимания того, что называется шизофренической экзистенциальной манерой поведения, —это понятие нарушения последовательности естественного переживания, его непоследовательность. Непоследовательность подразумевает именно эту неспособность "позволять вещам быть" при непосредственном контакте с ними, другими словами, неспособность безмятежно пребывать среди вещей. Случай Эллен Вест является хорошим примером такой неспособности. Мы видим, как Эллен Вест деспотически распоряжается "вещами", окружающими ее, как будто диктуя им, какими они должны быть: тело не должно излишне полнеть, а должно оставаться худым — на самом деле, она сама не должна быть такой, как есть, а обязано полностью измениться (ср. "Создатель,... сотвори меня во второй раз и сотвори меня лучшим!"). Человеческое общество не должно быть таким, как есть, а обязана измениться. Этот пример показывает, что, говоря о "позволении вещам быть", мы не имеем в виду квиетиста, который, будучи безучастным, все в мире оставляет нетронутым.
Наоборот, революционных дух, стремящийся победить вещи мира, на самом деле пребывает в безмятежной близости с ними; в противном случае он не может изменить их, не может подчинить их себе. Совершенно иная ситуация в случае с Эллен Вест и нашими другими пациентами. Их страдания продолжаются потому, что вещи не таковы, как им хотелось бы; они настойчиво диктуют, какими вещи должны быть; то есть, их образ жизни характеризуется только желанием и погоней за идеалом. Юрг Цюнд служит примером еще более выраженной неспособности спокойно пребывать среди вещей этого мира. Все его манеры, поведение и интерес к другим — "несоответствующи". В равной мере гротескным является искажение и лингвистическое разделение вещей, осуществляемое языковым оракулом Лолы Восс. Чрезмерная забота Сюзанны Урбан о своих родителях также
свидетельствует о неспособности пребывать среди вещей и людей. Такая деспотическая расстановка вещей сопровождается нарушением всего материально последовательного экзистенциального порядка. Повсюду переживание проявляет свои бреши, нигде оно не может протекать свободно или примириться с самим собой.
Именно неспособность примириться с непоследовательностью и беспорядком своего переживания, а вследствие этого постоянный поиск выхода для восстановления этого порядка, превращает жизнь наших пациентов в такое мучение. Повсюду мы встречаем это неутолимое желание восстановить нарушенный порядок, заполнить бреши в переживании новыми идеями, деятельностью, предприятиями, развлечениями, обязательствами и идеалами — короче говоря, стремление к "покою и гармонии", к "дому" (Эллен Вест) или к "смерти как единственному счастью в жизни" (Эллен Вест), к нирване (Юрг Цюнд) в смысле заключительного ad acta* отказа от вещей и "определенно последней попытки" отказаться от собственного я.
Это стремление к "концу" порождено безысходностью существования и сопутствующей ему непоследовательностью переживания. Особенно драматичным и трагичным примером этого состояния безысходности служит "сравнение со сценой" Эллен Вест**. Но прежде, чем этот конец наступает, в виде самоубийства, ухода от активной жизни или сумасшествия, мы видим, как Dasein фактически изводит себя в поисках иных выходов, которые не могут быть эффективными из-за специфичности жизненной ситуации пациента. Последний выход из положения проявляется исключительно в формировании экстравагантных [verstiegene***] идеалов, выдаваемых за жизненную позицию, и в безнадежной борьбе за сохранение этих идеалов и следовании им.
Но даже если дело доходит до решительного поступка в качестве выхода из невыносимо запуганной жизненной ситуации — как в случае с Эльзой, —тщетность этого поступка легко проявляется в его несоответствии жизненной ситуации. Поступок
* Через действие (лат.) — Прим. ред..
** См.: "The Case of Ellen West", in: Rollo May, Emest Angel and Henri F.Ellenberger, (eds.), Existence (New York, 1958), pp. 237-364. В книге Бинсвангера "Шизофрения" (Schizophrenie) изложено пять историй болезни: "Эльзы", "Эллен Вест", "Юрга Цюнда", "Лолы Восс" и "Сюзанны Урбан". Переводы первых двух представлены в Existence. В настоящей книге приводится четвертая история болезни, "Случай Лолы Восс".
*** От нем. гл. Sich verstigen —слишком высоко подняться, слишком далеко зайти и т.п. См. также примечание к статье "Экстравагантность" (Verstiegenheit). — Прим. ред.
Эльзы и его несоответствие следует понимать как предопределенные и подготавливающие иной выход, принимающий форму (острого) психоза. Несоответствие поступка Эльзы конкретной ситуации показывает, что здесь последовательность переживания, хотя еще и не нарушена, но уже находится под угрозой. Ибо Dasein "слепо и нелепо" мечется в своем выборе средств, изводит себя в единственной попытке, которая, несмотря на свою внутреннюю последовательность, имеет все признаки более широкой непоследовательности. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о "несоответствии жизненной ситуации". Оно проявляется не только в "практической" непригодности выбираемых Эльзой средств, но еще больше в том, что эти "средства" сами отличаются реальной непоследовательностью. Ожог ладони и руки — это и не целенаправленное действие в техническом смысле, и не "доказательство любви", сообразное "эмоциональной ситуации". Это действие противоречит подлинной "логике эмоции" — если мы можем употребить такое выражение — тем, что вовсе не представляет собой акт или дар любви, которые другой мог бы принять за таковые, а выступает скорее демонстрацией мученического страдания "из-за любви". В результате это страдание не способно выковать какие-то "узы любви" и предложить выход из невыносимой жизненной ситуации.
В. Уже в момент ожога поведение Эльзы направлялось некоторым рядом альтернатив: власти, победы и освобождения или поражения и бессилия. Таким образом, мы пришли ко второму конструктивному концепту нашего исследования: расколу эмпирической последовательности на альтернативы, то есть жесткое либо-либо. Этот фактор имеет огромное значение для понимания пути, выбираемого той формой существования, которая называется шизофренией. Теперь непоследовательность переживания подвергается внешне новому переустройству, наблюдается видимое обретение позиции посреди беспорядка эмпирического несоответствия. Таким образом, мы вернулись к тому, что решили определять во всех наших пациентах как формирование экстравагантных идеалов. Теперь Dasein делает все ставки на "сохранение" этой позиции, другими словами, на следование этому идеалу "во что бы то ни стало". Идеал экстравагантен в том, что он совершенно не соответствует общей жизненной ситуации и поэтому не может быть истинным средством. Напротив, он возводит непреодолимую и непроходимую стену на пути существования. Dasein больше не в состоянии найти выход из этой экстравагантности, — наоборот, все сильнее запутыва-
ется в ней. Результат оказывается еще более катастрофичным так как формирование экстравагантных идеалов представляет только одну составляющую альтернативы, тогда как другая охватывает все, что противоречит этому идеалу.
По сравнению с непосредственным экзистенциальным притяжением с обеих сторон альтернативы, несоответствие переживания было сравнительно безвредным. Ибо теперь Dasein разрывается на части между обеими составляющими альтернативы. Теперь вопрос состоит в том, чтобы либо продолжать следовать экстравагантному идеалу, либо полностью отказаться от него. Но ни то, ни другое теперь невозможно, что особенно ясно видно в случаях Эллен Вест и Юрга Цюнда. Для Лолы Восс и Сюзанны Урбан либо-либо еще более жестко и непреодолимо. Теперь не может быть и речи о том, что Лола в состоянии отказаться от экстравагантного идеала абсолютной безопасности, предоставляемой ей ее языковым оракулом, ибо в этом случае, как и всегда, отказ от экстравагантного идеала означает безграничную боязнь уступить другой стороне альтернативы. Аналогично, Сюзанна Урбан ни при каких обстоятельствах не может отказаться от чрезмерной заботы о своей семье. В обоих случаях потеря опоры в виде экстравагантного идеала означает, что Dasein становится тревожным, возникает страх преследования (мания преследования). Во всех наших случаях вместо свободного развития переживания мы обнаруживаем "заточение" или "рабство" в "сетях" или "путах" жесткой альтернативы (Эллен Вест). Dasein не может остановиться ни на одной из сторон альтернативы и мечется от одной к другой. И чем возвышеннее становится конкретный идеал, тем сильнее и опаснее угроза, представляемая другой стороной альтернативы.
Однако, чтобы понять фактическое экзистенциальное значение альтернатив конкретного пациента, недостаточно иметь их перед собой в той форме, в какой они представляются самому пациенту, и в какой он говорит о них нам. Эти сообщения следует интерпретировать в ключе аналитики Dasein. В этом контексте рассмотрим бегло альтернативы, между которыми подвешено существование Эллен Вест, и альтернативы, подобным же образом стоящие перед Юргом Цюндом. В первом случае мы видим противоположность полноты и худобы, а во втором —противоречие между пролетарием и аристократом.
Сама Эллен Вест говорит о своем конфликте как о "вечном разногласии между желанием быть худой и неспособностью сдерживать аппетит", как о борьбе между ее "натурой", или
"судьбой" быть толстой и мощной, и ее "желанием быть "тонкой и изящной". Даже первого ее психоаналитика не удовлетворяла эта формулировка, и он попытался уточнить ее следующим равенством: тонкий = высший, интеллектуально-духовный тип; толстый = еврейско-буржуазный. Это равенство говорит о том, что физическое существование Эллен Вест не выступает первостепенной или решающей вещью. Аналитика Dasein не может удовлетвориться ни подобными равенствами, ни понятием психогенеза, ни сомнительными концепциями психосоматики. Dasein-анализ убеждает, что данная жизнь разрушается не просто физической альтернативой между полнотой и стройностью; он идет дальше в том, что указывает на извращенную2, а потому совершенно несоответствующую роль, возложенную в этом Dasein на физическую конституцию, — а именно, роль агента по преодолению основного эмпирического раскола между жизнью и смертью, идеалом и реальностью, "натурой", или "судьбой" и "своим собственным желанием", то есть между целиком экзистенциальными противоположностями. К этому добавляется убежденность в том, что посредством этого должна быть восстановлена последовательность переживания, "психический" и "гармонично настроенный" порядок жизни. Построение идеалов может "заходить так далеко" [sich versteigen] только благодаря извращенности этого убеждения. Другими словами, только благодаря этой установке идеал стройности может обретать такую безжалостную, непреклонную власть над этим Dasein. Эта власть возникает не из равенства и не из какого-то рода символизации, а скорее из желания вновь отыскать утерянную нить эмпирической последовательности, нить, уже, однако, безвозвратно разорванную. Хотя нить эмпирической последовательности можно фактически удерживать, только принимая Бытие и воспринимая вещи и факты такими, какими они есть — включая тело, естество, судьбу и жизнь, —в случае Эллен Вест эти вещи не предоставляются самим себе, а "преследуются", "покоряются", фактически отрицаются.
Если для Эллен Вест подобная западне экзистенциальная альтернатива распространилась на физическую сферу, то в случае Юр га Цюнда она выражалась социально, в уже упоминавшемся нами противоречии между идеалом благородного аристократа grand-seigneur ж пролетарской реальностью. Хотя может показаться, что оба ряда альтернатив (физические и социальные) имеют мало общего, они становятся вполне сравнимыми, если мы проследим их до собственных экзистенциальных основ. Роль, в существовании Эллен Вест выполняемая телосложением, здесь
принимает форму "общности", бытия-вместе при общении или взаимодействии с другими, или, как называю это я, форму mit-weltich — захватывания и бытия-захваченным чем-то3. Для Юрга Цюнда "общность" или социальное существование обременяется деятельностью по преодолению эмпирического раскола между экзистенциальными противоположностями жизни и смерти, идеала и реальности, натуры (или судьбы) и желания. Фактически установка требует не только преодоления раскола, но и восстановления психического и эмоционального порядка.
Когда в отношении Эллен Вест и Юрга Цюнда мы говорим об экзистенциальных противоположностях и о переносе их в физическую и социальную сферы, важно помнить, что при этом мы имеем дело с неполноценными экзистенциальными формами. Неполноценность возникает из непоследовательности переживания и эмпирического раскола на частные аспекты. Полное погружение Dasein в отдельную пару противоположностей означает также, что в целом существование может выкристаллизоваться во времени только в форме "неполноценности" — то есть, в форме, известной нам как приближенность к миру или, короче говоря, как приземленностъ [Verweltlichung]. Наиболее ясно это проявляется в "маскировке", присутствующей в явлении "защиты" стыда4 (скромности, pudeur, Scham посредством неполноценной формы публичного стыда (возникающего при проецировании своего отражения на других — Schande, la honte). Но та же приземленность наблюдается и в неполноценности форм, в которых у наших пациентов проявляются совесть, сожаление, истинный юмор и, прежде всего, любовь. Почти всегда мы обнаруживаем, что подлинная двойственная экзистенциальная форма Dasein присутствует в форме неполноценности. Вместе с этим, мы встречаем —даже в случае Эллен Вест, несмотря на все, что мы знаем о ее готовности к смерти —невозможность подлинного бытия-к-смерти [Sein zum Tode] в смысле Dasein, опережающего себя в решении, а также в смысле способности Dasein быть целостным, совокупностью. Если самоубийство Эллен Вест указывает на то, что она "покончила" со своей жизнью, то этим подразумевается не подлинное "умирание", а то, что ее "жизнь остановилась"5. Все это еще яснее указывает на то, что именно отличает эмпирическую непоследовательность и ее раскол на жесткое либо —либо, то есть онтологическую структуру шизофренического существования, от экзистенциального процесса в смысле эмпирической последовательности.
C. Следующим конструктивным понятием нашего исследования является концепт сокрытия. Под этим мы подразумеваем сизифово усилие скрыть ту сторону противоречия, что невыносима для Dasein, и тем самым поддержать экстравагантный идеал. Классическим примером этого служит Юрг Цюнд, а его случай дает нам понимание манерности, а также, до определенной степени, артистического маньеризма6. Маска элегантных манер (застывшая в манерность) выполняла для Юрга Цюнда ту же роль, что и постоянные усилия похудеть и слабительные средства в случае Эллен Вест, сокрытие тревоги и укрепление идеала "скрытности" посредством языкового оракула и его решений в случае Лолы Восс и сокрытие тревоги с помощью ипохондрически подавляющей заботы о благополучии своей семьи в случае Сюзанны Урбан.
D. В этом отношении мы воспользовались концепцией стирания существования (как бы в результате трения), кульминации антиномических напряжений, возникающих при неспособности найти какой-нибудь выход, которая представляет собой отказ или отречение от всей антиномической проблемы как таковой и принимает форму экзистенциального отступления. Давайте в этом контексте внимательнее посмотрим на конкретные случаи.
1. Только что я говорил об уходе от жизни Эллен Вест. Ее отречение от жизни было самым радикальным, решительным и своевольным отступлением от существования, в котором антиномическое напряжение и неспособность найти выход достигают максимума. Из всех наших случаев мы имеем здесь самое свободное решение, каким только могло воспользоваться Dasein: положить конец безнадежности переживания устранением затруднительного и запутанного положения в целом.
2. Но как только мы подходим к случаю Юрга Цюнда, то уже не можем назвать уход абсолютно свободным. Он, несомненно, борется за одно, как он выражается, "последнее усилие", которое положит решающий конец мукам неразрешимой проблемы его существования. Однако в результате эти усилия истощают его силу, и он оказывается "вынужденным" положить конец этой ужасной игре тем, что является последним усилием в буквальном смысле слова. Он приравнивает свои поиски выхода из существования, не имеющего выхода, к усилиям, направленным на то, чтобы "позаботиться о" или "покончить" с отдельными карточками Роршаха adacta. Но с каждой такой "отложенной в сторону" карточкой Юрг Цюнд всегда заботится и о себе, стремясь "закрыть дело" [ad acta zu legen]* своего существования, чтобы в конце концов обрести
* Через действие к приданию значения (лат.; нем.). — Прим. ред.
постоянную "заботу" в психиатрической лечебнице. Здесь мы также оказываемся перед "отступлением от жизни" — но не от жизни как vita, а от жизни активной, "социальной", где Юрга Цюнда так долго и безнадежно бросало из стороны в сторону. В обоих случаях мы видим, что именно экзистенциальная проблема, антиномические напряжения которой истощили Dasein, определяет также форму и способ отступления от него. Сказанное справедливо и в отношении Эллен Вест, чью жизнь с самого детства "омрачала" проблема жизни и смерти, и в отношении Юрга Цюнда, вся жизнь которого аналогичным образом была пронизана проблемой человеческого общества.
3. Теперь мы подошли к отступлению от существования при совершенно несвободной форме умопомешательства, когда по своей собственной воле Dasein не отрекается ни от социальной жизни, ни от жизни вообще. Здесь скорее происходит отречение от жизни как от независимой индивидуальности. Таким образом, Dasein подчиняется чуждым ему экзистенциальным силам. Здесь мы имеем особенно радикальную капитуляцию Dasein. Ни Эллен Вест, ни Юрг Цюнд не отказывались от самих себя и не предали свое я; скорее, они ушли из общественной жизни или жизни как таковой. Однако теперь Dasein уходит от управления собственной жизненной ситуацией. Мы вынуждены говорить о таком человеке, что это жертва, игрушка или пленник в руках чуждых сил. В сравнении с этим и Эллен Вест, и Юрг Цюнд, хотя и являлись пленниками своих проблем, выступали в то же самое время собственными освободителями от этих проблем.
В таком контексте мы можем обратиться к случаю Эльзы. Отправной точкой нам должен служить намеренный ожог своей руки. Здесь Dasein "демонстрирует себя" другим людям в качестве мученика. При умопомешательстве эта самодемонстрация становится демонстрацией бытия. С таким поворотом от "активного" действия к "пассивному" страданию мы снова и снова сталкиваемся при умопомешательстве. Это свидетельствует о том, что активность и пассивность, —в данном случае спонтанность оказания впечатления и влияния1 и восприимчивость к впечатлению и влиянию со стороны, —экзистенциально не противоположны, а скорее неразрывно связаны друг с другом.
Мы можем сказать, что в качестве мученика Dasein до некоторой степени все еще было способно к самоуправлению или, выражаясь другими словами, оно все еще протекало в рамках эмпирической последовательности (хотя и в несоответствующей ситуации форме) — так что происходило, так сказать, "резкое
изменение", а не разрыв с миром. Но при переходе от мученичества к безумию, от самопожертвования к принесению себя в жертву не по своей воле, Dasein все более и более теряет власть над собой. В первую очередь это проявляется в появлении "безумных мыслей", другими словами, в угрозе последовательности переживания, а вместе с ней целостности "мира". Перед действием (ожог руки) Dasein не имело никакого выхода, не могло уйти от выбора между победой и поражением, "молниеносным" разрешением жизненной ситуации и ее невыносимым продолжением. В этих обстоятельствах акт ожога руки, жертвование рукой представлялся единственным возможным выходом, то есть, возможностью для пациентки успокоить себя посредством волевого представления своему отцу его "несправедливости". Этот способ разрешения ситуации настолько неуместен, что обречен на неудачу. Dasein не знало, по какому пути пойти и впервые столкнулось с абсолютной неспособностью открыть дальнейшее последовательное развертывание переживания. Последовательность переживания отрывается от одного из своих экзистенциальных направлений, оставляя, так сказать, вакуум. Этот вакуум заполняется вновь; но заполняется формой переживания, которая, будучи до некоторой степени связана с предшествующим переживанием, тем не менее совершенно ему не соответствует, — той формой переживания, при которой пациент становится жертвой других. Непоследовательность проявляется в том, что теперь Dasein заморожено моделью, в соответствии с которой определяются все вновь возникающие переживания —как имеющие отношение к я, как зло, причиненное пациенту, как мучения, как преследования, а также как преследования в смысле принуждения любить. Сказанное проясняется при рассмотрении случая Лолы Восс и даже в большей степени случая Сюзанны Урбан.
4. Если случай Эльзы особенно интересен тем, что представил нам переходную стадию между здоровьем и психозом в форме единичного события и действия, то случай Лолы Восс представляет собой еще более поучительный пример переходной стадии в форме почти психотического суеверного языкового оракула. Эта "игра" предоставляла Лоле Восс, цепляющейся за свой идеал скрытности, время для отыскания точки опоры. Какой бы ненадежной эта точка опоры ни казалась постороннему, она обеспечивала мостик между ее страхом перед невыразимым Жутким и Ужасным и ее капитуляцией перед тайным заговором воплощенных врагов — мостик к отречению Dasein от своего самоуправления. В этом заключается не решение или, если более точно,
не снятие антиномического напряжения существования посредством ухода от жизни в форме самоубийства или посредством ухода от жизни общества в форме "глубокой озабоченности", а скорее изъятие жизни из ее собственного обремененного решениями контекста путем постановки всех решений в зависимость друг от друга. Антиномическое напряжение Dasein, осознание отсутствия пути вовне или пути внутрь здесь достигает кульминационной точки в отступлении Dasein от своего права выбора перед лицом решений врага. Именно в этом контексте мы можем весьма поучительно рассматривать языковый оракул Лолы как переходную стадию.
В первую очередь, это показывает, что Лола отреклась от своей собственной индивидуальной власти принимать решения и принимает совет только от "вещей", которые, со своей стороны, являются не объектами или вещами, каковыми они есть сами по себе, а скорее вещами, лингвистически смоделированными и созданными ею. Здесь производство и воспроизводство, спонтанность и восприимчивость объединяются в чрезвычайно удивительный союз, где, тем не менее, все еще преобладает спонтанность. Так как Лола Восс полагается на то, что ей скажут "вещи" (большую часть которых создала она сама), все зависит от ее соответствующего реагирования на сказанное ими или, другими словами, от ее правильного понимания или толкования языка вещей. В этом отношении важно отметить, что язык вещей ограничивается повелениями или запретами, и что сама пациентка видит все свое "спасение" в строжайшем послушании приказам или запретам этих плодов своей собственной фантазии. Комплекс преследования Лолы Восс следует отличать от простого предрассудка, когда она начинает чувствовать, что связана уже не решениями созданного ею самой оракула, а решениями созданных ею самой врагов, как в случае с Эльзой и Сюзанной Урбан. И в заключении мы должны отметить смещение, заключающееся в том, что слепое послушание командам и запретам оракула, похоже, все же оставляет в ее психозе возможность свободы выбора: либо подчиняться, либо бежать от требований своих врагов. Эта свобода, однако, приобретается ценой абсолютной зависимости от врагов, ценой мании преследования.
Общим фактором в том, что касается и оракула, и психоза, выступает необходимость отгадывать или истолковывать слова врагов, которые на самом деле она сама вкладывает в их уста. Если относительно оракула мы еще могли говорить об определенной активности со стороны пациентки, то здесь господствует
полная и абсолютная пассивность. Ибо в психозе любая возникающая активность является активностью лишь в рамках пассивности, пассивности в рамках полного подчинения Dasein чуждым силам, иными словами, в рамках полной капитуляции Dasein. Однако там, где мы таким образом подчиняемся чужой воле, мы становимся жертвой или жертвоприношением других. Уход от проблем существования, смирение Dasein со своей собственной частной проблемой здесь проявляется в форме пассивности мученичества и жертвоприношения.
5. В случае Сюзанны Урбан мы пытались понять ее манию преследования с помощью феноменологического изучения Силы Ужасного (которая вырвалась из koinonia экзистенциальных событий) и разворачивания этой силы на протяжении ее жизни. Здесь мы приходим к выводу о понятии смирения, ухода Dasein от антиномического напряжения, неспособности Dasein отыскать какой-либо выход из положения. В случае Сюзанны Урбан информация, предоставленная ее родственниками, позволяет нам точно определить кульминацию этого смирения. Это момент, когда, совершенно измученная попытками спрятаться, подкреплявшими ее идеализированную заботу о родственниках и, в конечном счете, о муже, абсолютно изнуренная, она полностью теряет самообладание и, вместо того, чтобы властно включать в эту заботу домашнюю прислугу (как она это делала ранее), становится мученицей или жертвой в руках этой же домашней прислуги. Теперь за ней следят, ее предают другие.
Случай Сюзанны Урбан представляет собой самый явный пример кульминации отречения Dasein от своей антиномической проблемы уходом в умопомешательство или, другими словами, абсолютной капитуляцией я перед тем аспектом альтернативы, который до этого подавлялся "со всей возможной силой", альтернативы, на которую давно оказалось разделенным Dasein. Вместе с этим отречением все превращается в то, что ранее было его подавленной (или, словами Фрейда, вытесненной) ужасной противоположностью. Если с самого детства Сюзанна Урбан, подобно Эллен Вест, была своевольной, упрямой и невнимательной к другим, никогда не подчиняющейся мнению других, никогда не имевшей настоящих друзей, и в целом мало доверявшей окружающим и всегда стремившейся подчинить себе свое окружение, то теперь она, напротив, позволяет другим управлять собой, вынуждена подчиняться им, страдает оттого же недоверия к ближним и чувствует, что ее окружают лишь враги. Но самым существенным в этой реверсии при умопомешательстве является
следующее. Фрейд показал нам, что чрезмерная забота о других, подобно любой аналогичной чрезмерности, служит признаком вытеснения тягостной силы, которую действие вытеснения пытается облегчить. В то же время, подобная чрезмерность всегда служит признаком или указанием на то, что вытесняется. Кроме того, чрезмерная "ипохондрическая" забота о "превращенной в кумира" матери выступает в некотором роде желанием подчинить себе и управлять. Если же мы вспомним о "садистских оргиях", которым предается Dasein в своей мании преследования, то можем уже, не колеблясь, говорить, вместе с Фрейдом, об откровенных "садистских компонентах" в случае Сюзанны Урбан. Именно здесь, с точки зрения аналитики Dasein, располагается основа непоследовательности переживания и его раскола на навязчивое либо-либо; именно здесь реальная основа антиномического напряжения Dasein и специфического содержания, навязываемого Dasein после реверсии и победы прежде подавленного аспекта альтернативы. Одним словом, здесь лежит основа "психотического содержания".
Но все сказанное все же не дает нам понимания в ключе аналитики Dasein значения психоза в целом и мании преследования в частности. Он означает, как мы видели в случае Эльзы и особенно в случае Лолы Восс, одну из форм экзистенциального смирения в отношении антиномических напряжений Dasein, принимающего форму ухода от собственного решения Dasein, полный отказ от способности Dasein принимать решения, а вместе с этим полное добровольное подчинение чужой воле. То, что в данном случае Dasein отдает себя во власть других людей, а не, скажем, демонических сил, связано с базисным садизмом, доминирующим в этом Dasein — а садизм по своей сути представляет собой форму бытия в Mitweif. Однако в этом добровольном подчинении воле других мы находим и причину того, почему другие обязательно должны стать врагами, то есть, должны стать теми, "от чьей воли я завишу, кто может поступать со мной так, как ему заблагорассудится" — иными словами, "теми, чьей жертвой я являюсь". Если теперь Dasein повсюду "чувствует врага", если в каждом событии и действии оно не только подозревает, но и видит враждебные намерения, то причина этого не в изменении у Dasein ощущения или значения реальности, его перцепции или психического функционирования, и не в "физиогномическом" изменении мира и "симпатических взаимосвязей" в значении Эрвинга Штрауса. Все эти изменения
* Современное поколение (нем.)- — Прим. ред.
скорее вторичные и третичные последствия смирения Dasein в форме его добровольного ухода из сферы, требующей его собственных решений.
Теперь должно быть ясно, что содержание психоза (в этом случае садистские оргии врагов) также не представляет ничего первичного. Оно просто указывает нам форму, в которой Dasein заполняет "фантазией" эмпирические бреши или вакуум, образовавшиеся после его ухода от антиномического напряжения. Чисто позитивистское суждение о том, что психоз в целом связан с "просто фантазией" и "иллюзиями" и что в нем "нет ничего реального", а только "психотически воображаемое", не способствует пониманию психоза. Решающий элемент заключается, как было сказано, в специфическом индивидуальном характере смирения или окончательной капитуляции Dasein, достигающих кульминации в уходе из требующей решений сферы Dasein — другими словами, в подчинении Dasein воле "чуждых" сил или "чужих" людей. Теперь вместо антиномического напряжения (возникающего от непоследовательности переживания) между двумя несовместимыми альтернативами появляется более "одностороннее", и в связи с этим более последовательное, "неисправимое", "беспроблемное" переживание в смысле психотической эмпирической модели, согласно которой формируются все новые переживания.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 W.Szilasi, "Die Erfahrungsgrundlage der Daseinsanalyse Binswangers", Schweiz. Archiv./. Neun u. Psych., Vol. 67 (1951).
2 Binswanger, Drei Formen Missglьckten Daseins, 2.
Binswanger, Grundformen, Das mitweltliche Nehmen-bei-etwas, S.300-375. 4 Rollo May, Ernest Angel, and Henri F. Ellenberger (eds.). Existence (New York, 1958), pp. 331-341.
Хайдеггер, Бытие и время. — М., Ad Marginem, 1997. —С. 247. Binswanger, Drei Formen, 3.
Freud, "Psychoanalytische Bermerkungen ьber einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides)". Gesammelte Schriften, VIII.
История болезни Лолы Восс
Отчет
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ/ Отец Лолы относится к голубоглазому германскому типу, очень спокоен, несколько чопорен и официален, но дружелюбен и прост. Отцом ее матери был немец, а матерью — уроженка юга Латинской Америки (и потому она относится к смешанной расе), "нервна", всегда возбуждена, легко пугается, но наслаждается жизнью; она любит компанию, любит поговорить и посмеяться, проявляет южный темперамент. Явные признаки нарушения функции щитовидной железы. Брат, на один год младше Лолы, весел, жизнерадостен и совершенно "нормален".
К сожалению, иных сведений в истории болезни Лолы нет.
АНАМНЕЗ/ Информация, предоставленная отцом: сейчас Лоле [в момент поступления Лолы в психиатрическую лечебницу доктора Бинсвангера в Кройцлингене, Швейцария] двадцать четыре года.
Вскормленная в младенчестве грудью, в детские годы она всегда была здорова и на ранних этапах развития не имела никаких проблем. Она была исключительно избалованным ребенком, привыкшим всегда поступать по-своему. Когда отец велел ей что-нибудь делать, за нее заступалась мать, а если приказ исходил от матери, на выручку приходила бабушка. "Кто-нибудь всегда приходил ей на помощь", —замечает отец.
В двенадцать лет она серьезно заболела брюшным тифом, болезнь сопровождалась высокой температурой, и ей пришлось провести в постели пятьдесят два дня. В этот период появились первые признаки тревожного состояния. Она, к примеру, отказывалась спать дома, потому что там "было недостаточно безопасно", и оставалась на ночь в доме бабушки.
В тринадцать лет Лолу — родившуюся в Южной Америке — отдали в школу-интернат в Германии, здесь она вела себя явно
по-мальчишески, отрицала, что она девочка, была вызывающа и задириста и не могла поладить со своими ровесниками. В четырнадцать она возвратилась в Южную Америку. В течение этих первых лет Лола все еще была полностью неприметной, любила развлечения, ей нравилось ходить на танцы и танцевать. Она вышивала, занималась рисованием, любила читать и в целом была довольно активна. Но просматривалась некоторая тенденция оставаться одной, закрываться в своей комнате. Она была довольно религиозна; под влиянием друзей-католиков она восстала против отца-протестанта.
В двадцать лет на танцах она встретилась с врачом-испанцем. Он влюбился в нее и сообщил о серьезности своих намерений ее семье, хотя пока еще не добился солидного положения и не имел средств на содержание семьи. Его описывали как очень серьезного, рассудительного, спокойного и несколько расчетливого молодого человека. Колеблющееся и отрицательное отношение отца к этому поклоннику вызвало в Лоле некоторый дух бунтарства: она начала часто поститься, выглядела безрадостной и подавленной и объявила о своем намерении выйти замуж — или постричься в монахини. В течение всего этого периода мать выступала на стороне Лолы против отца.
В двадцать два Лола сопровождала мать в путешествии в Германию на курорт с минеральными водами. Незадолго до отъезда она отказалась подняться на борт корабля, если из багажа не будет удалено определенное платье. Она присоединилась к матери на борту корабля только после выполнения этого желания.
Впоследствии в Германию приехал врач-испанец, чтобы повидаться со своей невестой. На протяжении двух недель, проведенных в его обществе, Лола была спокойна и сдержанна, и, казалось, несколько больше обычного интересовалась своим гардеробом, о котором прежде особо не заботилась. Большее удовольствие ей доставляли званые вечера, посещения театра и т.п., в целом она производила иное и намного более жизнерадостное впечатление. Переписка между врачом и Лолой продолжалась. В мае следующего года он написал, что теперь занимает прочное положение, но жениться на Лоле пока еще не может; он должен заботиться о своей больной матери, и пока обстоятельства не позволяют ему жениться. В этот момент Лола "сломалась".
Она стала меланхоличной и выказывала непреодолимое отвращение к целому ряду предметов, особенно к зонтикам и резиновой обуви. Она говорила, что они приносят ей несчастье.
Когда она заметила, что одна из горничных отеля горбунья, то тут же оставила его. Однако горбатых мужчин она считала приносящими удачу и даже старалась прикоснуться к ним.
Большую часть года накануне поступления в психиатрическую лечебницу Лола провела в Германии со своими пожилыми тетками. Эти женщины якобы настроили ее против матери, которая тем временем уехала домой. Антипатия Лолы к матери выросла настолько, что, вернувшись позднее домой, она даже перестала заходить к ней в комнату. Все, связанное с матерью, она считала "заколдованным", и все, получаемое от матери, должно было быть уничтожено: платья, нижнее белье, зубные щетки. Она избавлялась от этих вещей, пряча их, раздавая или упаковывая в небольшие свертки, которые затем "теряла" или продавала на улице. Она отказывалась даже надевать одежду, доставленную из прачечной вместе с нижним бельем своей матери. Она выбросила ручку и чернила, которыми пользовалась мать; она не могла даже написать письма за тем же столом, за которым писала мать. Неоднократно она разрезала свою собственную одежду.
В течение предшествующего года родители обращались за консультацией к очень многим врачам. Все они отмечали определенные странности и рекомендовали замужество. Лоле делали различного рода инъекции, к примеру, экстракта щитовидной железы и вытяжки яичников. Впоследствии эндокринолог нашел щитовидную железу в полном порядке и рекомендовал обратиться к специалисту по психическим заболеваниям. Когда этот специалист (не представленный ей как таковой) затронул вопрос о ее суеверных представлениях, она отказалась от дальнейшего контакта с ним.
Лола легко согласилась на поездку в Швейцарию, так как полагала, что едет туда для встречи со своим женихом, который снова начал писать ей и предложил встретиться в Европе.
Сущность рассказанного отцом подтверждается информацией, предоставленной матерью. Она добавила, что Лола всегда вызывала у окружающих впечатление уставшей; даже будучи ребенком, она напоминала им пожилую женщину. Фотографии показывают, что за последние несколько лет лицо Лолы сильно изменилось, оно стало грубее.
НАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЛОЛЫ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ/ Лола Восс в свои двадцать пять лет является симпатичной девушкой среднего телосложения, с оживленным выражением лица, но с несколько скован-
ной жестикуляцией. Ее манера поведения жизнерадостна и открыта, но речь затруднена и неестественна. Лицо правильной овальной формы, череп скорее эндоморфный, чем эктоморфный. В целом конституция слегка астеническая*.
Пациентка не взяла с собой нижнего белья, даже ночной сорочки. Она не казалась негодующей из-за того, что отец поместил ее в психиатрическую лечебницу, даже несмотря на то, что ей совсем иначе представляли цель ее путешествия. Хотя она не считала себя больной, но согласилась на присутствие медсестры.
Психологический отчет**. Лола сообразительна и изобретательна в высказываниях; кроме того, она умелая лгунья. Она все перекручивает в своих собственных интересах; она хитро и лукаво формулирует жалобы и требования в своих собственных целях. Врач легко установил контакт с ней, но во время принятия пищи она сама никогда не заговаривает с другими пациентами, а когда к ней обращаются, отвечает односложным "да", "нет" или "я не знаю", сопровождая слова отсутствующей улыбкой.
Она оставляет впечатление довольно жесткого и бесчувственного человека, крайне легкомысленного и равнодушного, не имеющего никаких интересов и не находящего удовлетворения в работе. Она очень избалована и проявляет детское упрямство, симптомы общей диспропорции между ее возрастом и умственным развитием. Она непредсказуема во всем своем поведении: например, обещает прийти на званый вечер и уходит, чтобы переодеться, но неожиданно решает лечь спать, так как чувствует себя уставшей. С другой стороны, она может проводит, не утомляясь, многие часы на понравившейся ей вечеринке. Или же она раз или два примет лекарство, а затем отказывается от него, объясняя это тем, что оно ей вредит или затрудняет дыхание и т.п.
В первый день своего пребывания в лечебнице она убежала в гостиницу к отцу, и ее, несмотря на энергичное сопротивление, пришлось возвращать обратно. Ей пришлось четыре недели провести в закрытой палате, прежде чем оказалось возможным ее пребывание в открытой палате. Первые несколько недель она боялась, что ее загипнотизируют. Она говорила медсестре: "Не смотрите на меня так, Вы пытаетесь загипнотизировать меня". Снова и снова приходилось успокаивать ее. Спустя несколько
* В последних наблюдениях просматривается влияние антропоморфических теорий Кречмера, распространенных в Европе в период перед П-й Мировой войной. — Прим. перев.
** Во время составления этого отчета никакого систематического анализа данного случая не предполагалось.
дней она чувствовала себя более непринужденно. О гипнозе больше не упоминалось, и если кто-либо заговаривал на эту тему, она спрашивала: "Вы умете гипнотизировать? Я бы хотела, чтобы меня загипнотизировали". Все ее знания о гипнозе ограничивались тем, что она о нем прочитала когда-то, и сценой сеанса гипноза из когда-то виденного фильма. Сон и питание были удовлетворительными, так что за первые десять дней пациентка набрала полтора фунта веса.
Лола всегда носит одно и то же платье, имеет одну пару туфель и не имеет шляпы. Но что-либо купить она отказывается: она не хочет, чтобы у нее осталось что-нибудь, что могло бы позднее напомнить ей о Кройцлингене. Ее суеверие постоянно прорывается наружу, хотя она усердно старается скрыть это; например, после кинофильма, в котором высмеивается суеверие, ей удается присоединиться к общему смеху. В остальных отношениях она молчалива, эмоционально сдержанна, обидчива, раздражительна и подозрительна. С невероятным упорством она противится лечению посредством пассивного сопротивления. Снова и снова приходится побуждать ее к работе в саду. Она любит находиться в одиночестве, немного рисует, читает романы, но избегает любой серьезной литературы как слишком сложной. Ввиду растущего противления своему врачу —она постоянно неоправданно обвиняла его во лжи —в конце года ею занялся другой врач*. Кроме того, она рассказала, что испытывала что-то еще, нечто настолько ужасное, что она просто не может говорить об этом. В день, когда она упоминала об этом или даже просто слышала о чем-то, связанном с этим, она не могла надеть ничего нового из-за боязни, что воспоминания об этом переживании заразят то, что было новым, и принесут ей несчастье. После многих недель подготовки и возражений с ее стороны нам наконец удалось выяснить интересующие нас факты. Простым угадыванием, как в дружеской игре, мы определили, что пресловутое переживание связано q зонтиком (сама она избегала произносить это слово). Слово "зонтик" [Schirm] содержало в себе si, подтверждение. Когда два года тому назад ее отец купил новый зонтик, она встретила на улице горбунью. Она и прежде боялась горбатых; но теперь все невезение, исходящее от горбуньи, переместилось на зонтик. "Оно было в зонтике", потому что невезение подтверждалось значением si. Вскоре после этого ее мать дотронулась до зонтика. С этого момента она настроилась против матери и против поездки с ней во Францию, где предполагалась встреча с ее женихом. Почему? Потому, что ее мать перенесет несчастье с
себя и с зонтика на ее возлюбленного. В этот же самый день у нее было еще одно "ужасное переживание", о котором она действительно не могла говорить. Она увидела старика, который не был горбуном, но все же был уродлив каким-то иным образом; говорить больше об этом переживании она категорически отказалась.
Восемь месяцев спустя, когда тревога Лолы сосредоточилась на одной из медсестер (Эмми), особенно симпатичной и тонкой девушке, ее состояние осложнилось. Лола сообщила следующую информацию: медсестра (чье имя Лола никогда не употребляла ни в разговоре, ни в письменном виде —она просто называла ее "она" или "эта") имела зонтик, похожий на зонтик ее отца. Зонтик оставляли в разных местах, и все они теперь очень пугали ее. В этом была причина того, что Лола стала чувствовать себя намного хуже. Рассказывая об этом, она была очень встревожена. В последующие недели ее состояние ухудшилось, она выглядела более обеспокоенной и измученной. Она особенно боялась всего, что могло быть связано со стенным шкафом, где она видела зонтик Эмми. Она просила окружающих поклясться, что никто из них не прикасался ни к чему, находившемуся в этом стенном шкафу. Она отказывалась пользоваться полотенцами, потому что они могли находиться рядом со щеткой, которая могла соприкасаться с зонтиком, и чтобы обезопаситься, сама забирала свои полотенца из подсобного помещения. Она не хотела пить воду, потому что стакан, возможно, стоял в шкафу. Щетку для чистки могли оставить на раковине, поэтому свою раковину она мыла сама. У нее опять появилось желание раздать свою одежду, она отказывалась менять платье и носила грязное нижнее белье. Узнав, что "эта" дежурит на ее этаже, она настолько разволновалась, что ее немедленно пришлось перевести в другое здание. Она утверждала, что "сойдет с ума", если снова встретится с "этой".
Явное облегчение принесло Лоле разрешение описать свои страхи врачу в письменном виде. Спустя десять месяцев после поступления в лечебницу она выразила свои ощущения следующим образом*:
"Я знаю, что Вы не понимаете меня. Но мне не хотелось бы пережить снова то, что я пережила здесь. Мне хотелось бы сделать это более понятным для вас, но я не могу, и это —самая печальная вещь на свете. Все, что я вывожу из этих знаков, всегда происходит — поэтому я верю в эти предрассудки. То,
* Письма Лолы написаны в сбивчивой манере; нередко встречаются собственные, неологизмы. Там, где это оказалось возможным, сохранены особенности стиля оригинала. —Прим. перев.
через что я прошла в закрытой палате, я не забуду никогда. Потом, в Вилла Роберта, было еще ужаснее, так как я думала, что если ничего не скажу, то меня быстрее выпустят, но из-за "этого" суеверие стало еще сильнее. Когда я вспоминаю о своем отце, который прикасался к "этому", это кажется мне самой печальной вещью на свете, а затем я представляю себе, что буду чувствовать, когда снова увижу его, поэтому я не хочу даже думать о возвращении домой. Именно из-за всего этого, а не из-за чего-то, что случилось со мной, я живу в полнейшем отчаянии. Теперь, после того, как я отдала столько сил, чтобы уйти от этих мыслей, и после того, как я оставила в Вилла Роберта все, что мне напоминало о них, впервые с тех пор, как это началось, я чувствую себя лучше. Но меня никогда не покидает огромный страх перед тем, что она может явиться сюда, даже если и мимоходом, даже если я и не увижу ее, но одна только мысль об этом приводит меня в отчаяние. Я верю, что как только она войдет в дом, она принесет с собой наихудшее несчастье; там, где ступает ее нога, остается несчастье, и я ничего не могу поделать с этой мыслью. Эта мысль очень тяжела для меня, я считаю, что было бы лучше убраться отсюда, прежде чем это случится. Я очень сожалею, что мне приходится рассказывать Вам обо всем этом, но ужас, в котором я пребываю изо дня в день, просто не дает мне возможности перемениться.
И все это только из-за того, что я люблю его больше всего на свете и превыше всего хочу забыть об этом, чтобы посмотреть, смогу лия стать другой, потому что чувствую, что без этого я, наверное, почти здорова —все заключается именно в этом".
Несколько недель спустя она написала своему врачу, что с ней опять случилось "нечто ужасное" и что она никак не может оставаться здесь. Когда Лола отдыхала на веранде, мимо прошла "она". Лола больше уже не в состоянии выносить страх, не знает, что ей делать, как защитить себя. Она боится, что несчастье настигнет ее. Она чувствовала, что нечто страшное находится в ней самой.
Лола отказывалась выходить на улицу, так как никогда не знала наверняка, куда пошла "она". Она перестала брать книги в библиотеке, потому что "эта", возможно, читала ту же самую книгу. Она хотела вернуть новое платье, потому что оно было на ней, когда она видела медсестру. Спустя два месяца Лола снова впала в состояние возбуждения. Один раз из-за того, что ей показалось, будто бы вдали она увидела медсестру, а другой — из-за того, что она видела, как другая медсестра вкатила велосипед Эмми в крыло, где размещалась кухня. Она намеревалась объявить голодовку в связи с тем, что велосипед заразил всю
пищу. В конечном итоге она отказалась есть только масло, зараженное, по ее мнению, более всего (при этом своих мотивов она не раскрыла). В другой раз она отказалась пользоваться одеялом, потому что к нему прикоснулась дама в платье, которое, как ей показалось, каким-то образом связано с медсестрой. Рано утром она послала записку старшей медсестре с просьбой немедленно позвонить ей по телефону и сказать, права ли она в том, что вчера видела медсестру. На самом деле в тот день она побежала вслед за пожилой женщиной, которую ошибочно приняла за медсестру. Потеряв женщину из виду, она задалась вопросом, действительно ли эта женщина была медсестрой. Ситуация стала настолько невыносимой, что врач пригрозил Лоле, что сам приведет медсестру в ее комнату, если она будет продолжать вести себя подобным образом. После этого Лола сильно разволновалась и яростно набросилась на доктора с громкими криками возмущения. Тем не менее, она согласилась оставить одежду, которой так сильной боялась, и вернулась в свою комнату. Кроме того, она надела новое платье*.
В тот день, когда произошел случай с велосипедом, Лола написала о нем своему врачу и сообщила о новом переживании:
"Я лежала внизу в шезлонге и увидела две фигуры, наблюдающие за мной из коридора; когда я повернулась к ним, они убежали, поэтому я осталась лежать; но это было очень жутко. Затем вернулась подруга... Вы знаете кого,... выкатила велосипед на улицу и направилась с ним к "той".
Примерно в это же самое время Лола в сопровождении другой медсестры отправилась в Цюрих, чтобы пополнить свой гардероб. За день до этого она попросила медсестру сделать так, чтобы в день их отъезда перед ее окном работал молодой садовник. Она хотела обеспечить себе счастливый день, устроив так, что первым, кого она увидит утром, будет молодой мужчина. Эта просьба, естественно, не была выполнена. Когда медсестра пришла за Лолой, первым делом ей следовало положить на стол свою шляпу: шляпа, сказала Лола, служила предупреждением о том, что что-то может случиться, и надо быть начеку. На пути к железнодорожной станции и во время пересадки с поезда на поезд Лола закрывала глаза и уши руками. Незадолго до прибытия в Цюрих она разволновалась и объяснила, что сегодня ничего покупать не может, так как она "что-то" увидела. Поскольку день
* В других случаях, когда не было иного выхода, я также подавлял "ужас" таких "компульсивных" пациентов встречным ужасом. Необходимым предварительным условием, конечно же, служит некоторое отношение доверия между пациентом и врачом.
был "потерян" в любом случае, она чувствовала себя спокойно и счастливо, пока никто не заговаривал с ней о посещении магазинов или не указывал на магазины, где завтра она будет делать покупки, или не выводил ее на улицы, по которым ей придется ходить завтра; иначе магазины и улицы завтра снова окажутся "потерянными". Она не хотела останавливаться ни в какой гостинице, кроме дешевой и обязательно без швейцара. Когда все ее условия, казалось бы, были соблюдены, она неожиданно "видела нет". Наконец подходящая гостиница была найдена. Вечером Лола в хорошем настроении стояла у окна и прислушивалась к непривычному шуму улицы. На следующее утро она с закрытыми глазами, направляемая медсестрой, посетила дешевый универсальный магазин. Она даже выбрала платье, но в ужасе бежала, когда заметила, что продавщица косоглазая. В другом магазине у входа были выставлены книги; на обложке одной из них Лола увидела изображение монахини; в результате этот магазин так же был "потерян" для нее.
Других универсальных магазинов не было, поэтому в конце концов она согласилась пойти в обычный, но с условием, что все должно быть дешевым и ненарядным. Для нее приемлемы были только продавцы-женщины, причем в их одежде не должно быть ни малейшего намека на красный цвет, так как ее последнее летнее платье было красным. Туфли она покупать отказалась, так как в магазинах женской обуви покупателей обслуживали мужчины. На обратном пути Лола настояла, что будет нести все свои свертки сама, и по дороге домой избегала встреч с кем-либо. Оказавшись в своей комнате, она заставила медсестру положить все свои старые вещи на стол, прежде чем разрешить ей повесить новые платья.
Когда Лола не позволила медсестре убрать в ее комнате, та заметила: "А что на это скажет доктор?" На что Лола ответила: "Доктору об этом известно в любом случае; я знаю, что это простое суеверие". С другой стороны, во многих своих письменных жалобах и сообщениях, часто написанных небрежно, на обрывках бумаги, она снова и снова сообщала врачу о своем "неописуемом страхе", о "крайне ужасной вероятности", что многие последующие годы ей придется помнить "обо всем этом", о том, что страшно даже назвать:
""Это даже хуже, чем Вы говорили —мои мысли о том, что со мной может что-то случиться, это будет длиться, наверное, мгновение, но само ощущение настолько ужасно, что оно никогда не покинет меня, пока будет присутствовать сама вещь".
Снова и снова она пыталась объяснить свое положение врачу, неоднократно обещала следовать его советам, в надежде на то, что он поможет ей "найти решение". Последующие события доказали, что она действительно доверяла своему врачу. Однажды Лола попросила его больше не упоминать слово "медсестра": "Само звучание этого слова причиняет мне боль, потому что оно всегда будет оставаться самым печальным из моих воспоминаний".
В другой раз она писала:
"Меня снедает страшное уныние, и я задаюсь вопросом, не означает ли оно, что может случиться нечто еще худшее, и поэтому я не могу успокоиться и прошу Вас, пожалуйста, скажите мне, придет ли оно от "нее"... Я не хочу писать об этом. Ибо я постоянно вижу знаки, говорящие, что мне следует быть осторожной. Всего так много, что я просто не знаю, что может случиться".
То, что Лола не так уж лишена эмоций и не так уж бесчувственна, как показалось первому врачу, демонстрируют следующие строки:
"Чтобы совершенно искренне рассказать Вам все, я объясню, как это было и есть на самом деле, и, надеюсь. Вы меня поймете. То, что случилось, оказалось настолько ужасным, что не поддается никакому описанию. Сейчас для меня это самая печальная вещь на свете, потому что теперь, после этого, я навеки потеряна для своего жениха. Я люблю его так сильно, что и заболела лишь по этой причине. С тех пор, как я впервые встретила его, я ни на одну секунду не забывала о нем, и более всего меня печалит ощущение, что он тоже всегда думает обо мне".
К сожалению, мне известно только одно из сновидений Лолы. Вот оно в ее собственном изложении:
"Мне приснилось, что моя бабушка прислала сюда свою кровать. И неожиданно она является и ложится на эту кровать, а затем на мою, стоявшую рядом. Это было ужасно. Я настолько испугалась, когда подумала о том, что моя бабушка будет лежать там, что мне пришлось идти к Вам и рассказать об этом. Вы ответили, что у Вас есть другая кровать для моей бабушки. Меня это очень успокоило. Дальше во сне было еще что-то. И меня более всего обеспокоило именно это, потому что я вижу его на кровати, а также потому, что оно называется "сата" [лат. шр.] и звучит по-английски "cam" [лат. шр.], и потому, что все это было вместе. Я не знаю, означает ли это что-нибудь плохое".
Лола находилась в Бельвю немногим более четырнадцати месяцев, когда ее навестила тетя и сообщила, что теперь семья Лолы
готова разрешить ей выйти замуж за врача-испанца и что планируется ее встреча с ним в Париже.
Лола была вне себя от радости и немедленно переселилась в гостиницу к тете, даже не позволив той переступить порог санатория, в котором и сама она больше никогда не появилась.
КАТАМНЕЗ/ Материал этого раздела в первую очередь состоит из писем Лолы своему врачу, к которому она продолжала обращаться за советом и помощью; из писем ее родственников, снова и снова просивших его повлиять на свою пациентку, и из отчета ее врача в Париже. Этот материал охватывает четырехлетний период.
Спустя восемь дней после своего отъезда Лола написала, что поездка в Париж прошла хорошо и что она возвращает свой паспорт, потому что фотография в нем слишком сильно напоминает ей обо "всем неприятном", пережитом ею здесь. Еще два дня спустя Лола чувствовала себя прекрасно. Она радовалась своему воссоединению с бабушкой и двоюродной сестрой, делала много покупок, и все шло очень хорошо. Она даже сходила к парикмахеру. "Представляете, мои волосы подстригал горбун". Она просила передать сердечный привет всем, с кем она не попрощалась.
17 октября. Она побывала в театре и в кино, все еще чувствует себя намного лучше, но не может забыть "те вещи, о которых знает доктор"... Они часто снились ей, но, проснувшись и осоз-, нав, что видела лишь сон и находится "очень далеко", она чувствовала некоторое облегчение. Она с тоской вспоминала о лечебнице, но большое количество развлечений помогали ей отвлекаться. "Вас, должно быть, удивляет, что я отослала Вам свой паспорт, но сама мысль, что я ехала в Париж с ним, выводила меня из душевного равновесия, так как "она" довольно часть прикасалась к нему, и мне казалось, что он может заразить все остальное, поэтому я не хочу больше держать его при себе".
29 октября. "Я чувствую себя хорошо. Внешне я кажусь счастливой, и только потому, что тех опасений, что преследовали меня в лечебнице, больше нет, и поэтому я чувствую облегчение. Единственное, что меня тревожит, так это ощущение, что я заражена, главным образом тем, о чем Вы знаете". Она просит совета у врача, так как чувствует, что поступает неправильно, до сих пор не сообщив своему жениху о переезде в Париж. Для нее очень трудно взяться за письмо. Она была уверена, что доктор даст ей правильный совет по поводу того, "как сделать так, чтобы
быть уверенной в его (жениха) ответе". Но доктор должен написать ей лично, потому что "Я боюсь, что это может сделать "ее подруга"" (секретарь, бывшая подругой пресловутой медсестры).
2 ноября. Она не хотела сама писать письмо своему жениху, а желала, чтобы это сделала тетя или двоюродная сестра, но в любом случае ей хотелось знать, что он о ней думает. "'Я знаю, что не могу даже думать о замужестве и что изменюсь, если перестану чувствовать себя зараженной, но для меня это трудно". Она пытается "забыться в развлечениях", часто ходит в театр, находит все замечательным, но затем чувствует свою зараженность и боится будущего. Возможно, единственное, что ей остается — это постричься в монахини, но она хотела бы прежде дать знать "ему" об этом. "Все это во мне, и я не знаю, что мне делать".
7 декабря. Она чувствует себя по-прежнему, не совсем в порядке и немного уставшей. Не отправиться ли ей в санаторий? Желательно в тот, что известен врачу. "Я помню всех в Кройц-лингене".
24 декабря. Пожелания счастливого Рождества и Нового года. Письмо врача доставило ей радость и принесло утешение. Она осмотрела рекомендованный им санаторий; его парк напомнил ей парк Даллевю, она с нетерпением ждет отправления туда в начале следующего года.
3 февраля. Поступление Лолы в санаторий по внешним причинам задержалось. Это было ее первое письмо на испанском языке, явно написанное наспех, со множеством исправлений. Она писала о своей большой тревоге, подчеркивала свое доверие врачу и просила его снова написать ей. Она сообщала, что пишет на испанском по причине одержимости: ее жених, которого она так сильно любила и который служил объектом значительной части ее навязчивых идей, был в Париже и узнал, что и она была там, но он не знал, что она находится в лечебнице... Она ужасно боялась, что он захочет встретиться с ней. Так как она все еще была "заразной", то попросила своего врача посоветовать жениху немедленно уехать из Парижа. Для уверенности в том, что он действительно сделает это, она сообщила ему, что делает все, для того чтобы вылечиться, и увидится с ним через месяц. "Но это невозможно, и я так боюсь, что он может приехать в санаторий". Должна ли она оставаться там?
14 февраля. Она, по-видимому, забыла о своем предыдущем письме, так как преподносит сообщение о поступлении в санаторий как новость. Здание, куда ее поместили, напомнило ей закрытую палату в Бельвю. Медсестра на новом месте сказала ей,
что знает эту палату в Бельвю. Но девушка оказалась француженкой, поэтому это не имело особенного значения. Вскоре Лолу переселили в другое здание, оно ей очень понравилось. Но доктору она не могла "ничего рассказать", хотя он и был sympatisch*, так как, не верила, что сможет измениться. Должна ли она оставаться там?
1 мая. Ее врач уехал на несколько недель, вместо него прибыл другой, "посланный ее родственниками". Она не видела его, потому что он ей не понравился. Не могу ли я написать ее тете и попросить оставить ее в покое и не посылать больше "этого другого доктора".
2 июня ее тетя написала, что болезнь племянницы, к сожалению, прогрессирует. По-видимому, у нее начались галлюцинации. Уже месяц она находится в палате для самых возбужденных пациентов. Ее просьбы о переводе не могли быть удовлетворены, ибо она пребывает в состоянии крайней тревоги. У врачей мало надежды на ее выздоровление. Единственной надеждой родственников Лолы был профессор Джанет; он определил ее случай как серьезный, но заверил их, что Лола не является irremediablement perdue [неизлечимо больной]. Но после второго визита доктора Жане Лола упорно отказывается встречаться с ним, объясняя это тем, что она знает, что он "послан ее родственниками". Со времени ее поступления во французский санаторий у нее развилась враждебность по отношению ко всей семье, и того факта, что кто-то или что-то исходит от ее членов, достаточно для ее отказа встретиться с таким человеком или принять такую вещь. Профессор Жане порекомендовал другой санаторий; одобряю ли я — ее первый врач — этот совет? Лола отказывается покидать теперешний санаторий, так как рекомендовал его я; она прислушивается только к моим указаниям.
15 июня профессора Жане упомянула и Лола; она считала, что я знаю его, о нем говорят, что он "очень хороший", но она никогда не сможет принять его в качестве своего врача (без всяких объяснений). Она чувствует себя намного лучше, "предшествующая идея" реже беспокоит ее, и "никаких новых в течение трех месяцев тоже не возникало".
"Но мои родственники не могут в это поверить и думают, что лучше мне здесь не стало; ибо они считают, что человека можно вылечить быстрее, и все это меня очень сильно расстраивает".
Симпатичный (нем.). — Прим.ред.
Первый, sympatisch, врач еще не вернулся. Должна ли она оставаться здесь или ей следует переехать в какое-нибудь другое место?
8 декабря. Она часто хочет писать, но для нее это невозможно. Время с сентября по ноябрь было неприятным для нее. Она хотела уехать, отправиться в деревню; но хороший врач по требованию ее семьи, вызванному тем, что она не хотела жить с родственниками, советовал ей другое. Он запретил им посещать ее, так как знал, "что я сумею убежать от них". Теперь она была в другом санатории, но хотела вернуться в первый, ибо верила, что хороший доктор вылечит ее, "потому что он понимает меня так же хорошо, как и вы".
Спустя пять недель она написала из первого санатория, что дела ее обстоят лучше. А еще через три месяца ее врач написал: "Elle ne va pas mieux: la manie du doute, les phobies, les idees super-stitieuses persistent, aggravees par des hallucinations, des idees d'influence, et un veritable delire de persecution. Cette psychasthenie delirante menace, d'evoluer vers la chronicite, ce que je n'ai pas cache д la famffle"*.
В послание доктора было вложено письмо от Лолы. Она сообщала, что ее жених в своем письме к ней просил в течение восьми дней дать ему знать о ее намерениях, иначе ему придется строить другие планы. Ей казалось, что эти слова вложены в его уста ее семьей. Она очень расстроилась, когда узнала, что ее родственники написали ему. Ее жених также не должен был писать ее семье. Мне следовало написать ему, что сейчас она чувствует себя даже лучше, чем в прошлом году, и "через несколько месяцев" сможет увидиться с ним. Если он согласится и пообещает не писать ее семье, то она поправится еще быстрее.
25 октября. Ее почерк намного лучше и крупнее. Постоянные расстройства, "связанные с ее семьей". В июне без предварительного сообщения приехала ее мать, хотя Лола говорила, что из-за своих идей не может видеть никого из членов семьи.
"Никто не должен удивлять меня чем-то неожиданным, потому что в результате у меня возникает идея, которая остается навсегда".
Ее жених также приехал в Париж. Это очень разозлило ее, ибо он знал, что она не хочет видеться с ним. Если бы она сама желала
* Ей не лучше; мания подозрительности, фобии, стойкие суеверные представления, усугубляемые галлюцинациями, идеями о воздействии [извне] и подлинной манией преследования. Эта бредовая психастения грози! принять хронический характер, чего я не утаиваю от семьи (фр.). —Прим. ред.
его приезда, ситуация была бы иной. Она заставила его немедленно уехать и пока даже не испытывала желания писать ему. Она просила совета и детально расспрашивала о медсестре, которая была с ней в Цюрихе.
Спустя несколько дней ее тетя сообщила, что в состоянии племянницы нет никаких изменений; она уединялась в своей комнате, не желала видеть никого из членов своей семьи и была "полна маний". Тетя интересовалась рекомендованным семье профессором Вагнером фон Йауреггом.
Следующее письмо пришло четыре месяца спустя, по-прежнему из Парижа. Лола, по-видимому, оставила санаторий. Она сожалела о смерти своего внимательного врача, так хорошо понимавшего ее. Впервые она сама пишет о своих идеях отношения и преследования (неровным, нетвердым почерком):
"К сожалению, я не писала Вам раньше, какие ужасные люди преследовали меня и какими разнообразными скверными вещами они окружали меня. Я знаю, что они заходили ко мне в комнату и с жадным любопытством следили за мной снаружи*. Я их не знаю. Я расскажу Вам о них. Они южноамериканцы", и большинство из них не являются пациентами санатория; они очень лживы и, как я заметила, на уме у них только убийство. Меня сильно угнетает, что за мной так долго наблюдают и подсматривают эти чужаки. Они убедили мою семью в том, что я больна. Возможно, как-нибудь в другой раз я расскажу Вам о них побольше. Я никогда бы не поверила в то, что узнала об этих людях. Я пишу Вам только для того, чтобы рассказать обо всем, через что я прошла, и потому что мне больше не с кем поговорить об этом; они всегда подслушивают и замышляют дурное, гак что я должна быть очень осторожной. Некоторое время я собиралась отправиться в ... , или, может быть, лучше уехать отсюда прямо в Южную Америку, как Вы думаете? Очень долго у меня не было никаких развлечений. Пожалуйста, передайте привет и большое спасибо за открытку вашей жене. Я не смогла написать ей. Пожалуйста, передайте ей, что я напишу, как только освобожусь от этих людей. Надеюсь, у Вас все хорошо. Большой привет всем и Вам в том числе. Искренне Ваша..."
Последнее письмо, датированное девятью месяцами спустя, пришло из родного города пациентки в Южной Америке. Его содержание и стиль еще в большей мере, чем предшествующее письмо демонстрируют ее иллюзорную систему:
В оригинале этому обороту соответствует слово neugierten — неологизм в виде
глагола, производного от существительного Neugier. — Прим. изд.
В оригинале Лолиного письма приводятся имена ее соотечественников.
"... Мои родители находятся под влиянием всех докторов, которые дают распоряжения о таком наглом обращении со мной, подсматривают за мной [neugieren mich] в доме и убеждают всех, что я больна. Это все равно, что сфабриковать излечение больного и показать, кто был прав. Я пишу Вам это письмо, потому что получила сигнал от других людей о том, что могу написать его, и потому что хочу избавиться от всего этого. Я подумала, что могу попросить Вас помочь мне выбраться отсюда. Может быть, мне сказать, что в Z. есть более дешевый санаторий, или же Вы сможете вызволить меня отсюда без помещения в санаторий, — вот чего я хочу. Кроме того, если эти доктора имеют другие основания следить за мной, то, разрешив мне написать Вам это письмо, они будут пытаться узнать, кому я пишу и не рассказываю ли я о тех страшных преступлениях, какие они задумали. Три года они преследуют меня, и это удается им настолько успешно, что у меня не было совершенно никакой возможности избавиться от них. До моего переезда сюда они держали меня взаперти как пленницу, ибо я узнала, что когда сын президента сильно болел, его убила гувернантка — и во время своего пребывания там я громко говорила об этом, надеясь, что кто-нибудь меня услышит и поможет мне вырваться оттуда. Спустя несколько дней в газетах писали, что была убита миссис Уилсон из Северной Америки. Я узнала об этом на несколько дней раньше из некоторых слов медсестер. Они убили ее с помощью всего сказанного мной и похожего на эти слова, и посредством знаков заранее дали мне знать, что это случится. После всего, что я говорю, и даже после того, как я рассказала об их преступлениях, они преспокойно ведут себя так, как будто бы ничего и не делали, и все это сходит им с рук. Я снова и снова пытаюсь рассказать кому-нибудь об их порочности и о том, что они сделали, ибо боюсь, что могут последовать другие преступления. Эти доктора в... , как я Вам уже писала, — их друзья, и все, что исходит оттуда, нацелено на убийство, это у них вошло в привычку. Уже в парижском санатории они наблюдали за мной и совершенно несправедливо обходились со мной, когда видели, что я в хорошем расположении духа. Они ужасно обращались со мной, когда хотели, чтобы я забыла то, что узнала о них в Лондоне, и обо всех тех, что зашли настолько далеко, что стали преследовать меня на улице.
8 октября:
"Я написала это несколько дней назад, так как писать и выходить из дому мне было затруднительно, ибо мои родственника стали похожи на больных, благодаря тем людям или докторам, говорящим, что они из ... эти люди хотели убедить их в том, что я сошла с ума. Из-за всего этого я решила бежать отсюда под видом прислуги и хотела бы только, чтобы Вы
помогли мне выбраться отсюда, иначе последуют новые преступления. Я заметила, что они собираются накормить меня чем-то или сделать инъекцию, нечто такое, что делает человека больным или заставляет людей думать, что он болен. Когда недавно я хотела отправить письмо с почты, то заметила, что они делали мне знаки... потому что там был очень хороший доктор, его звали Н., на него наехала машина, и он был убит. Когда она знаками дали мне понять, что это означает то же самое, мимо меня прошел его племянник, тоже доктор, и как-то странно поздоровался со мной, как будто и со мной случится такое же; этим они хотят вызвать у меня нервное расстройство. Я все еще очень печалюсь по поводу недавних событий и уверенна, что за этим стоят они. Я говорю о происшествии с летчиками. 3 октября они заставили кого-то забрать у меня то, в чем я нуждалась на законном основании, и Вы должны знать, что они — единственные люди, которые могут забрать это и сделать что-то дурное. Кроме того, сюда приходил один из пилотов, и я подслушала, как он говорил кое-что о чем-то дурном, что должно случиться..., это было послание. И когда я несколько раз просила своего брата вывезти меня на прогулку, он отвечал, что сломана машина. И это сделали именно они, они поместили это в газету в виде карикатуры, чтобы он не узнал, от кого это исходит. Я думаю, Вы понимаете, что некоторое время я не смогу оставаться у своих родственников. С сердечным поклоном, искренне Ваша..."
Экзистенциальный анализ
В случае Лолы мы можем наблюдать крайнее выражение, названного нами приземлением [ Verweltlichung], процесса, в котором Dasein отрекается от своей реальной, свободной возможности быть самим собой и предается специфической картине мира. Во всех этих случаях Dasein больше не может свободно позволять миру быть, а скорее капитулирует перед одной конкретной картиной мира, подавляется ею, становится одержимым ею. Специальным термином для обозначения этого состояния капитуляции служит слово "заброшенность" [Gewogenheit].
Я уже показывал, какую важную роль играет формирование идеала в процессе все большего и большего подавления специфической картиной мира. Далеко не расширяя или не углубляя способность быть самим собой, экстравагантный [verstiegene] идеал ограничивает возможности этого до такой степени, что существование способно быть самим собой только внутри совершенно определенных и постоянно сужающихся границ; за
этими границами оно становится все более и более зависимым и связанным, то есть зажатым в тиски одной единственной картины или модели мира. Это то, что мы называем "заброшенностью", поглощением существования "миром"*.
Выражаясь обычным языком, общим для всех этих случаев является невоможность согласовать идеал и реальность; или, выражаясь на языке психопатологии, — то, что они представляют шизоидные типы личностей. Таким образом, их шизофренические состояния следует рассматривать только как более развитые стадии этого процесса предопределенности, наступающие по мере того, как существование все более и более подавляется одной единственной картиной мира. Подавленность в этом смысле находит свое крайнее выражение в явлении иллюзии.
В противоположность предшествующим случаям, Лола не вербализует свой идеал. Тем не менее, он легко распознается. Ее идеал — это быть одной и быть оставленной миром в покое. С самого начала она предпочитала одиночество. Она любила закрываться в своей комнате и подумывала о том, чтобы постричься в монахини. Мы можем сказать также, что ее идеал состоял в том, чтобы не подпускать к себе никого и ничего. Это требует такой картины мира, когда существующее в целом и в особенности сосуществующее [Mitdaseinenden] доступно только посредством предварительного представления о чуждости, Сверхъестественности или — в качестве альтернативы — посредством ожидания Угрожающего. Так же, как Эллен Вест следовала идеалу стройности, наличия воздушного тела, а Юрг Цюнд — идеалу уверенного положения в обществе, так и Лола стремилась к идеалу безопасного существования в целом. И как потерпела крах ("духовно пошла ко дну") Эллен, вследствие непреодолимых "требований" своего тела или ее окружения, так и Лола потерпела крах из-за "требований" причиняющего беспокойство мира в целом. Если Эллен пыталась не полнеть, прибегая к посту, Надя, чтобы не быть "заметной", пряталась, а Юрг пытался быть
* Это поглощение и заброшенность проанализированы Хайдеггером в "Бытии и времени", в первую очередь, в том, что касается "они" (то есть, сплетен, любопытства и двумысленности), другими словами, относительно повседневного бытия в мире. Этот анализ расширен Хайдеггером в обзоре второй части "Философии символических форм" Э.Кассирера (Deutsche Literaturzeitimg, Neue Folge, 5. Jahrgang, 21, 1928, S. 1000-1012). Что делает это расширение важным в случае Лолы — замена подавления бытия, в смысле брошенности в "они", подавлением (мана), в смысле "предопределенности" мистического существования.
"неприметным", нося защитное пальто, позволявшее ему выглядеть безобидным и смешиваться с представителями высшего общества, то Лола стремилась защититься от мира, нарушающего ее душевное равновесие и чувство безопасности, посредством постоянного обращения с вопросами к "судьбе". Таким образом, все незнакомое или угрожающее держалось в отдалении или устранялось. Все это представляет собой попытки сохранить или защитить полностью несвободное (ибо раз и навсегда определенное) "идеальное" я от всего противоречащего. Следовательно, новое в случае Лолы заключается не в приземлении как таковом, то есть не в усиливающейся капитуляции перед подавляющей силой специфической картины мира и не в одержимости ею, а в том, что Лола ощущает угрозу со стороны существования, которое становится сверхъестественным [Verunheitnlicking].
Как мы видели, бытие Лолы в целом истощено попытками защититься от всего, что может вывести из равновесия ее существование и поставить его под вопрос. Она спокойна, только если может защитить себя от Сверхъестественного посредством определенных ритуалов, также, как Эллен Вест успокаивалась, только когда считала, что защитила себя, прибегнув к посту и очищению кишечника, а Юрг Цюнд с помощью своих пальто и своей показной безобидности1. Там, где человеку не удается контролировать этот постоянно таящийся страх, это прохождение по канату, туго натянутому над пропастью существования, там существование падает в бездну, следуют приступы паники и тревоги. В этом случае Dasein погружается в тревогу, но не в свойственную ему или экзистенциальную тревогу, состоящую в погружении в ничто в качестве основы и окончательной проверки экзистенциальной зрелости, а в чуждую ему, производную тревогу, боязнь чего-то определенного, конкретной катастрофы*.
И все же мы должны осознавать, что формирование идеала как такового начинается уже со скрытой экзистенциальной тревоги, с необходимости принятия существования таким-то и таким-то. И поэтому, в связи с тем, что идеал уже возник в тревоге, угроза ему неизбежно ведет к приступу тревоги. Мы всегда должны иметь это в виду. Кьеркегор отметил, что желание не быть естественным (или, лучше, не быть самим собой) при одновременном упорном сохранении желания быть собой в смысле собственной личности, уже подразумевает отчаяние в смысле тревоги. (Следует помнить, что во всех этих случаях ранее уже произошло
* Позднее я покажу, каким образом мы все еще можем говорить об экзистенциальной тревоге на суеверной стадии.
отречение от любви, как от важной двойственной формы существования.) Однако в случае Лолы отчаяние —это не только отчаяние из-за необходимости пребывать в мире конкретным и никаким иным образом, как в других случаях; здесь это отчаяние из-за бытия в мире вообще!
Прежде чем перейти к экзистенциальному анализу случая Лолы, мы должны внимательнее сосредоточиться на конфликте между идеалом и сопротивлением со стороны безрадостного мира ("реальности"). Этот конфликт наиболее ясно и просто выражен в случае Эллен Вест; здесь идеалом служила стройность, а сопротивление проявлялось в форме голода. Таким образом, идеалу противоречила жизненно важная необходимость, непреодолимая сила, проистекающая из телесной сферы. Чем сильнее, ради идеала, подавлялась потребность, тем насущнее она становилась. Воздушный мир все больше и больше превращался в мрачный мир, мир безвыходного положения. Само по себе это разрастание и гипертрофия темы голода доказывает, что Dasein, вероятно, первоначально ощущало угрозу со стороны жизненной сферы, сферы тела, и что идеал (стройности) уже, должно быть, представляет дамбу, защиту от этой угрозы. Там, где дамба оказалась не совсем "непроницаема" или имела "бреши" (острое ощущение голода при виде искушающей пищи), там тревога свободно проникала через нее, и начинался ее приступ. Пост и очищение желудка были попытками заделать эти бреши. Но в конце концов возникла угроза разрушения всей дамбы и сведения существования к ненасытной алчности. Эллен Вест избежала этой опасности, покончив собой.
В другом случае, случае Юрга Цюнда, дело обстоит не так просто. Ранее говорилось, что выдвигает возражения и оказывает сопротивление идеалу мир окружающих людей. Против этого можно возразить, что окружающие Юрга Цюнда люди не причинили ему никакого вреда и что их "сопротивление", их презрение и критическое отношение существовали, главным образом, "в его воображении". Но Юрг Цюнд не только действительно страдал в детстве от презрения "улицы", и его страдания не только стали "навязчивыми" для него, кроме того, —и это важнее — сам мир окружающих людей представляет собой силу, которую ощущает всякое существование, независимо от того, как оно принимает его условия: страдая от него, или даже ломаясь под его гнетом, бросая ему вызов, игнорируя его или насмехаясь над ним. Это сила, с которой —в случае Юрга Цюнда —преимущественно связана тревога. Здесь идеал социального роста выступает
дамбой, предосторожностью против экзистенциальной тревоги, сфокусированной на мире окружающих людей. Чем плотнее дамба, окружающая существование, тем интенсивнее тревога, прорывающаяся через ее бреши. Но, в конечном счете, и здесь защиты дамбы оказывается недостаточно. Существование убегает от тревоги в пассивность, ментальную смерть. Юрг Цюнд уже больше не может прийти к соглашению с жизнью и истощается во все новых "последних усилиях". Снова идея должна капитулировать перед реальностью, перед тем антропологическим фактом, что существование не изолировано, а разделяет свое бытие с другими. Существование, которое всегда является сосуществованием, побеждает Экстравагантное желание избавиться от беспокойства со стороны окружающих и быть поглощенным только самим собой.
Предвосхищая возражение, что, в итоге Dasein одерживает победу в своей единичной, изолированной, "аутистичной" форме, следует отметить, что считать крайне аутистичное существование солипсическим —ошибочно; при полном аутизме Dasein больше уже не существует как solus ipse вообще; оно больше не существует как "я само"*. Когда Dasein отдаляется от мира окружающих людей, от того, что сосуществует с ним, оно забывает и себя или, скорее, отказывается от себя как самого себя. Это относится только к полному шизофреническому аутизму. Там, где человек просто отгораживается от мира, где он просто отступает в недовольстве и гневе, в подозрении или презрении, там он все еще существует — как недовольное, смеющееся, недоверчивое или презирающее я.
Именно такого рода размышления не просто позволяют нам увидеть в шизофреническом аутизме просто более высокую степень психологического свойства (например, интроверсии), но и помогают понять его с точки зрения аналитики Dasein как форму бытия, существенно отличную от любой психологической категории. Там, где Dasein больше уже не ориентируется в пространстве и времени, где оно перестает быть самим собой и общаться с другими, там оно больше не имеет "вот" (da), Ибо оно имеет свое "вот" только в трансцендентности [Ьberstieg] Заботы [Soige] —не говоря уже об экзальтации [Ьberschwang] Любви —или, выражаясь другими словами, в его доступности [Erschlossenheit], что является всего лишь исчерпывающим термином для обозначения ориентации во времени и пространстве, бытия самим собой и т.п. Это
* По этой причине термин аутизм (autos — сам) слишком психологистичен и вводит в заблуждение, во всяком случае в том, что касается конечных аутистичных состояний.
также объясняет, почему мы воспринимаем крайне артистичного шизофреника не как "подобного нам", а как автомат. Мы не считаем его таким же, как мы, человеком, отвечающим за свое поведение по отношению к нам, и обычно не ждем от него разумного [sinnvolle] ответа. Мы воспринимаем его как безответственное, безответное "просто существо". (Это, конечно же, не касается чисто гуманной медицинского отношения к пациенту, исходя из которого, мы продолжаем видеть в "существе" такого же человека, как мы.) Все сказанное иллюстрирует случай Лолы Восс, чей аутизм, хотя и не абсолютный, превосходит все другие случаи.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОСТЬ УЖАСНОГО/ Как и в предшествующих случаях, сведения о Лоле Восс с самого начала указывают на экзистенциальную тревогу. Ее исходное детское упрямство, очевидно, выражает не экзистенциальное богатство, а экзистенциальную слабость, страх быть подавленной "другими". В возрасте двенадцати лет Лола серьезно заболела брюшным тифом; именно тогда она впервые засомневалась в своей безопасности в собственном доме и убежала в дом бабушки. В свои двадцать два года Лола почувствовала тревогу по поводу одного платья и отказалась подниматься в нем на борт корабля. Постепенно фобия одежды Лолы развилась в преобладающий симптом. Но если психопатологию интересует генезис этой фобии, то экзистенциальный анализ занимается "картиной мира" такого существования, что всегда означает формой его бытия. Поэтому мы сразу же сосредоточимся на "мире", в котором Лола представляется нам уже как очень больной человек; мы будем делать это, абсолютно игнорируя определяющее биологическое суждение, объявляющее Лолу "больной".
Когда Лола поступила в санаторий, она уже полностью находилась во власти суеверной иллюзии (или иллюзорного суеверия), что с ней может случиться "нечто ужасное", нечто, от чего она должна защитить себя чисто суеверными действиями. Ее существование уже находилось в том состоянии, когда возможно жить далее, лишь балансируя на раскачивающейся над пропастью веревке. Любой "неверный шаг" означал неизбежное падение в "ужасную пучину" или, как назвал это Юрг Цюнд, "катастрофу". "Цивилизованный житель Запада", открыто стучащий по столу или стене или только восклицающий: "Стучу по дереву", — если кто-нибудь говорит о его хорошем здоровье или успехах в бизнесе, — надеется таким образом уговорить судьбу остаться благосклонной к нему.
Такое заклинание судьбы вызвано страхом от брошенного судьбе вызова в форме простого словесного подтверждения благополучия. Поэтому такое действие, в то же время, служит извинением за подобное заявление. Действие заклинания или выражение "стучу по дереву" представляют собой просьбу к судьбе не считать это заявление высокомерным, самонадеянным допущением [Ьbermut]. Человек, использующий формулу "постучи по дереву", ощущает присутствие силы судьбы и одновременно верит, что может воздействовать на нее в своих интересах. Такая вера в свою зависимость от судьбы, слепой и вместе с тем поддающейся воздействию или заклинанию, выдает "примитивность" современного "цивилизованного" человека или, на языке аналитики Dasein, "брешь" в его "построении" Bildung, его экзистенциальную слабость. Под экзистенциальной слабостью мы понимаем то, что человек пребывает в своем мире не автономно, что он отгораживается от основы своего существования, что он распоряжается своим существованием не самолично, а доверяется посторонним силам, что вместо себя он делает "ответственными" за свою судьбу посторонние силы. Все это в высшей степени применимо к случаю Лолы Восс.
Ранее мы сравнивали Лолину форму существования с ходьбой по раскачивающейся веревке. Нас можно простить за употребление еще одной метафоры: существование Лолы можно сравнить с ходьбой по тонкому льду озера: она знает, что на каждом шагу лед может проломиться, и отчаянно хватается за любую "соломинку", оказывающуюся под рукой. Такие метафоры выразительнее, чем любое абстрактное описание. Они точнее поясняют фундаментальное значение часто употребляемой нами фразы: прочно стоять обеими ногами на земле. Она обозначает форму безопасного существования, уверенного в себе и в мире, не нуждающегося в какой-либо помощи или поддержке "извне"*. Существование нуждается в такой поддержке только там, где оно движется по раскачивающейся веревке или по тонкому льду. Мы называем ее поддержкой суеверия, независимо от того, в целом ли существование движется по тонкому льду (как в случае Лолы),
* Поэтому фраза "прочно стоять обеими ногами на земле" обозначает большее, чем фраза "стоять обеими ногами в реальности", ибо первая помимо прочего выражает уверенность в существовании как прочно обосновавшемся на земле. То, что мы называем "реальностью" в повседневной речи, а также в психологии и психопатологии, не должно употребляться в абсолютном смысле, ибо эта реальность — всего лишь частная картина мира, картина установившегося порядка, практического взаимодействия с людьми и вещами, и уверенности, на которой она основывается.
или оно попадает на тонкий лед только время от времени, как случается с большинством людей. Стоять на земле — означает бесспорную защиту существования от падения, погружения, провала в его пучину. Ходить по тонкой корке льда — означает пребывание в постоянном страхе такого падения, погружения и провала. У Эллен Вест "хождение по льду" выражается боязнью впасть в животную ненасытность; у Юрга Цюнда — страхом опуститься до пролетарского уровня и приобрести в глазах общества дурную славу; в случае Лолы мы имеем дело со страхом погрузиться в само Ужасное, в то, что мы называем "чистым ужасом"2. Тот, кто прочно стоит обеими ногами на земле, не нуждается ни в какой опоре или внешней поддержке, но тот, кто шагает по тонкому льду, преимущественно существует в поисках какой-нибудь защиты. Для человека, стоящего на твердой земле, такое существование кажется странным и даже смехотворным; он не может понять его, а пытается объяснить себе на основе "слабой воли" или болезни. Однако мы намерены понять такое существование антропологически, то есть, в его экзистенциальной структуре.
Совершенно очевидно и следует из общего способа существования, что в случае Лолы Boca ее существование капитулировало и уступило посторонней силе в намного большей степени, чем в любом из упомянутых случаев. Оно уже не поддерживает себя, реализуя свои собственные подлинные возможности, а постоянно засасывается в водоворот неаутентичных возможностей бытия, то есть, не тех, что оно выбрало для себя, а тех, что были ему навязаны силой, чуждой я. Другими словами, оно существует как нечто "предопределенное", или в состоянии предопределенности. Но заброшенность — это все же часть существования. Поэтому "чуждую силу", хотя она и чужда я, нельзя рассматривать как чуждую существованию, как нечто, стоящее вне или выше него. Предопределенность скорее означает обольщение и временное утешение, отчуждение и запутанность существования в целом. В нашем случае она определенно отличается от предопределенности в смысле постоянной привязанности, привязанности к повседневной власти, которую представляют "они", к подчиненности ей. Если существование Юрга Цюнда находилось в полной власти сосуществования других, преобладающего общественного мнения и суждения, то существование Лолы подчиняется и подвергается воздействию совершенно иной, еще более анонимной, еще менее осязаемой сверхсилы, которая снова и снова обольщает существование, временно успокаивает его, все больше и больше отдаляет его от него самого и полностью
побеждает его. То, как существование "бросает из стороны в сторону" в этом случае, совершенно отличается от того, как его бросают из стороны в сторону "они". Здесь оно не поглощено "публичными сплетнями", любопытством и двусмысленностью простого мнения. Действительно, оно заинтересовано в утешении, но на этот раз это не кажущееся утешение, скрывающееся в непостижимости категории "они", а кажущееся успокоение, отыскиваемое в непостижимости сделок с "судьбой". Здесь другие не играют такой решающей роли, как "они"; решающую роль играет превосходящее, сверхъестественное, даже ужасное оно, перед лицом которого Dasein ощущает себя совершенно одиноким, покинутым другими (и даже в большей степени покинутым "ты") и брошенным на произвол судьбы.
Здесь существование других — это всего лишь основной повод для беспокойства, для превращения существования в сверхъестественное, с одним единственным исключением в лице врага. Он, по крайней мере до некоторой степени, выступает той опорой, за которую держится существование, когда его кружит в водовороте. От него оно ожидает помощи и защиты, что служит свидетельством того, что некоторые личностные отношения все еще возможны.
Так как в этом случае существование полностью капитулировало перед Сверхъестественным и Ужасным, оно уже не может осознавать того факта, что Ужасное появляется из него самого, из его собственного основания. Поэтому от такого страха нет спасения; охваченный страхом человек смотрит на неизбежное, и все его счастье и боль теперь зависят исключительно от возможности воздействовать на Ужасное с помощью заклинания. Единственное желание, остающееся у человека, заключается в том, чтобы как можно ближе узнать Страшное, Ужасное, Сверхъестественное и приспособиться к нему. Он видит две возможности; первая состоит в том, чтобы с помощью слов и игры слов "уловить" Ужасное и предвосхитить его "намерения"; вторая, в большей степени затрагивающая образ жизни и жизнь, заключается в пространственном отдалении от себя предметов и лиц, пораженных Страшным проклятием.
Оракул игры слов. Первый тип защиты Лолы производит впечатление крайне несерьезного. Он представляется нам очень тонкой сетью*.
* Так или иначе благодаря этой тонкости Лола в состоянии получить ответ от судьбы, будь он положительным или отрицательным. Об этой сети мы можем
Современный человек, который, несмотря на свою предполагаемую культуру, стучит по столу или довольствуется восклицанием "стучу по дереву", во многом поступает подобно Лоле, за исключением того, что он удовлетворяется одной единственной формулой защиты против "зависти" и непостоянства "судьбы". Во всяком случае, его "построение" (Bildung) обнаруживает брешь, известную нам по "структуре" Лолы. Как мы помним, важным и характерным для суеверной формы бытия в мире является вера во всемогущество слов. Этим доказывается только то, что в состоянии суеверной предопределенности все существующее и каким-либо образом обнаруживающееся имеет экзистенциальный характер сверхсилы (или "маны", в мистическом представлении). Ибо, будучи зависимым от Непреодолимого и отданным в его власть, Dasein становится "одержимым" ним и поэтому, как показал Хайдеггер, может воспринимать себя только как принадлежащее ему и связанное с ним. Поэтому все существующее и каким-либо образом обнаруживающееся имеет экзистенциальный характер Непреодолимого. В то время как слова представляют собой область, которой всегда и везде отдается предпочтение, они являются всего лишь одной формой того, что есть.
"Табу ". В вопросах, обращаемых к оракулу судьбы, мы имеем дело с "сетью условий", составленной самим спрашивающим и гарантирующей ответ в любом случае; но как только в нее вовлекаются предметы и люди, сеть становится навязанной. Ячеи сети образует заражение предмета посредством контакта или просто пространственной близости с ним человека или вещи, которые уже избегаются как табу. Пространственная близость вытесняет всякую психологическую мотивацию или объективную логику. Комплексный и многоуровневый контекст отношения к миру низводится до категории пространственного расположения ря-
сказатьто, что Фрейд сказал относительно одного из своих фобических пациентов (и что, между прочим, остается справедливым по отношению к любой фобической системе): "Сеть условий была раскинута достаточно широко, чтобы в любом случае поймать жертву; а затем она уже сама решала, хочет она се затягивать или нет" ("Totem und Tabu", Gesammelte Schriften, X, 118), с помощью которой Лола пытается защитить себя от натиска Ужасного и стремится угадать его намерения. В оракуле слогов Лола ищет указания на то, что делать и чего не делать; ибо и то, и другое уже не подчиняется ее решению, а зависит от констелляций во внешнем мире, определяется объектами и словами. В том, как Лола в своих толкованиях обращается к различным языкам, составу слогов и перестановке букв, проявляются основные отличительные черты всех суеверий: фиксация на самых незаметных, незначительных и безобидных деталях и возвышение их до сферы решающего величия судьбы.
дом друг с другом, что, конечно же, предполагает и категорию
одновременности.
Пространственно-временная близость является ключом к распространению несчастья, опасности, Ужасного, побудительных причин тревоги. Иногда преобладает смежность или совпадение во времени, как в том случае, когда Лола верила, что с ее другом что-то случится, если она напишет ему письмо, одетая в определенное платье (здесь свою роль могла играть пространственная близость платья и письменных принадлежностей); или когда ее отец купил новый зонтик, вслед за чем она встретила горбунью. В этом случае значение si [да] слова "зонтик" посредством обратной связи подтверждает представляемое горбуньей значение невезения. Но если что-то однажды приобретало значение невезения, то после этого оно могло распространять неудачу до бесконечности. К пространственно-временному контакту добавляется сходство, превратившее зонтик медсестры Эмми в символ катастрофы. Все это относится только к самой сети. Но в связи с тем, что она раскинута так широко, что может удовлетворять почти всем условиям, мы должны проследить, где и когда пациентка затягивает ее, чтобы поймать свою жертву. Учитывая "мальчишеский" характер Лолы, можно не удивляться, что в качестве жертвы она выбирает самую симпатичную и привлекательную из всех медсестер! Затягивание сети, главным образом, определяется специфическими побудительными мотивами по отношению к миру [weltliche Motive]. Но это относится к сфере психопатологии. Здесь же нас интересует образ мира, лежащий в основе такой "патологии табу" (Фрейд).
Так как в картине мира Лолы доминирующей является капитуляция перед чем-то непреодолимым, нас не должно удивлять, что такие "поверхностные" категории, как пространственно-временной контакт и подобие — настолько значимы в ней. что часто повторяющаяся последовательность встречи с горбуньей и "невезения" становится основой принудительного процесса индукции, или что даже такие психические факты, как воспоминания, вызывают контагиозное действие ("входят в новые вещи"), результат которого никогда не ослабевает.
Скорее мы должны удивляться тому, что категории и выводы вообще еще используются, так как одержимость непреодолимым Ужасным означает "специфическое гонение вокруг", которое само по себе повсюду открыто новому и потому может быть блокировано чем угодно и всем, так же, как устанавливать связи между чем угодно и всем.
"Отдача чему-то", "нахождение во власти", "капитуляция", "заброшенность" — в отношении времени все эти выражения подразумевают голое неаутентичное настоящее; "голое" — поскольку это настоящее не формируется во времени из будущего и прошлого как подлинное настоящее. Голое настоящее, в противоположность реальному моменту, может означать только непребывание [ Unvei-weilen], отсутствие местонахождения. Там, где, как в случае Лолы, существование капитулировало перед Непреодолимым в такой значительной степени, оно остается полностью закрытым для себя. Оно снова и снова успокаивается на мгновение лишь для того, чтобы его "гоняли по кругу", беспокоили и изматывали вновь.
Тут мы снова, как и в случае Юрга Цюнда, затрагиваем Неотложное и Неожиданное, "отрицание временной непрерывности". Кьеркегор формулирует это следующим образом:
"В какой-то один момент времени оно есть, а в следующий его уже нет, и тогда, когда его нет, оно снова целиком и полностью присутствует. Его нельзя ни включить в непрерывность, ни прийти через него к таковой".
Выражаясь словами Хайдеггера, это "выражение несвободы", "пребывания во власти мира" или, как называем это мы, "приземления" существования. Вернемся снова к Кьеркегору:
'"В суеверии объективности даруется способность Медузы превращать субъективность в камень, и несвобода не хочет нарушать эту магию"3.
Поскольку последовательность равноценна свободе, существованию или формированию подлинного я [Selbstigung] и поэтому равносильна и общению (без которого подлинное существование невозможно), отрицание последовательности означает несвободу, пребывание во власти непреодолимого Неожиданного и, в то же время, отсутствие независимости и общения. Действительно, "отданное" во власть сверхъестественности существование обречено быть изолированным. То, что Лола все же смогла до некоторой степени открыться второму врачу, и то, что она так долго с любовью держалась за своего жениха, демонстрирует лишь тот факт, что в состоянии ее существования еще не совсем отсутствует я [entselbstet], существование еще не полностью капитулировало перед Сверхъестественным и Ужасным. Однако подлинное общение уже невозможно. Между ней и врачом, и даже в большей степени между ней и ее женихом, постоянно вставали "стены" табу-подобных страхов и запретов, воздвигаемые Непреодолимым.
Ориентация в пространстве "мира" Лолы по обыкновению определялась ориентацией во времени. Натиску неожиданного, неугомонности и отсутствию местоположения соответствует прерывистый, порывистый, меняющийся характер ориентации в пространстве и ее зависимость от соответствующего источника "заражения". Границы пространства, в котором протекает Dasein, крайне непостоянны. Они не определяются ни "ориентированным", ни географическим, ни гармонизированным [gestimmten] пространством4, а соответствуют лишь пространству, определяемому соответствующими носителями Маны, Ужасного. Если выражаться конкретнее, это пространство устанавливается на основе предела видимости и тактильной близости. Его можно искусственно увеличить, закрыв глаза (избегание видения). Но и здесь такой процесс еще больше сужает жизненное пространство и ведет к тому, что все выходы на сцену жизни занимаются "вооруженными стражами" (Эллен Вест), и к тревожному блужданию на ощупь в подземелье. Здесь также все меньше и меньше движения, и ничего нового больше не происходит. Все вращается вокруг старого, хорошо известного — и вместе с тем такого неизвестного — Сверхъестественного, что априори превращает любую ситуацию в ситуацию, вызывающую тревогу, и предвосхищает возможность вхождения в нее и понимания ее в соответствии с ее собственным значением. Утверждение "Больше уже ничто не двигается" — это всего лишь еще одно выражением для описания явления, состоящего в том, что все, однажды появившееся, уже не уходит из существования, а — имея своим источником экзистенциальную тревогу — остается фиксированным; поэтому нет ничего страшнее, чем быть обремененным "воспоминаниями". Таким образом, Лолино окружение, мир окружающих людей и ее собственный мир [Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt] в равной мере управляются Маной, так что их разделение утрачивает свое значение; их смысл — это Мана! И поскольку уже не существует разграничения между воспоминанием об объекте и самим объектом, бремя воспоминания оказывается таким же ограничивающим и гнетущим, как и близость самих соответствующих объектов. Воспоминания блокируют дорогу в будущее, будущее здесь означает бытие впереди себя, так же, как соответствующие объекты блокируют "пространство". Вместо того, чтобы подчинить себе воспоминания, избавиться от них или проработать их экзистенциально ради возвращения свободы, пораженные предметы как таковые должны исчезнуть (их следует продать, отдать, сжечь или снять с них проклятие). Место экзистен-
циального прогресса или созревания, обретения собственного я [Selbstgewinnung] давно занято земной [weltliche] заменой, вследствие чего существование стало verweltlicht. Долина форма существования, как можно ясно видеть, отличается намного более глубокой и полной отдачей "миру", чем у Эллен Вест или Юрга Цюнда. Мы нигде не обнаруживаем никаких следов таких экзистенциальных явлений, как стыд, чувство вины, совесть и тревога, обусловленная совестью; повсюду преобладают угрозы и притеснения внутреннего мира и направленные против них усилия защиты. То, что могло быть вопросом существования, становится вопросом земной заботы. Это будет вновь проиллюстрировано в связи с анализом суеверного опрашивания оракула и подчинения его ответам, как если бы это были ответы судьбы.
В Долиной теме "судьбы" первичная экзистенциальная тревога [ Urangst] сочетается со Сверхъестественным и с суеверием. Кьер-кегор в своих основательно-просветляющих исследованиях значения тревоги видит судьбу как "от-чего ужаса", которое позднее занимает центральное положение в онтологии Хайдеггера. Здесь ничто тревоги с глубокой проницательностью интерпретируется непосредственно как бытие в мире: "От-чего ужаса есть бытие-в-мире как таковое" ("Бытие и время", с. 186). В тревоге мир редуцируется до незначительности, так что существование не может отыскать ничего такого, посредством чего оно могло бы понять себя, "оно простирается в ничто мира"; но, натыкаясь на мир, понимая его через тревогу, существование осознает само бытие в мире; "причина" (wovor) тревоги одновременно является ее "для чего" (worum). "Тревога касается голого Dasein как существования, погруженного в сверхъестественность"*.
Хотя тревога способна открывать также возможность подлинной или экзистенциальной способности быть (каким образом — в данном контексте несущественно), Лола остается погруженной в тревогу безо всякой возможности вновь обрести или даже осознать себя. Вместо этого она смотрит на ничто, как если бы оно было сверхъестественной объективной силой; но ей никогда не удается сосредоточиться на нем или вплотную подойти к нему, как бы усердно она ни старалась "прочитать" его намерения "по вещам". Именно "компульсивность вкладывать какой-то особый смысл во все" не позволяет ей успокоиться и истощает ее силы.
Здесь вновь следует отметить, что экзистенциальная тревога возможна только там, где любовь — двойственная форма, которая "увековечивает" существование как родной дом и пристанище, — уже не светит или еще не засияла.
Как мы заметили, такое вкладывание особого смысла в объекты связано с их вербальными символами и с их случайными сочетаниями в пространстве и во времени. Удачу ей предвещают не "четыре голубя", а слово cuatro, в котором она находит буквы c-a-r-t; в связи с тем, что carte обозначает "письмо", в этом она "читает", что получит пиьсмо от своего жениха. Ее тревожат не трости с резиновыми набалдашниками, а слоги "нет" ["да"] (если читать справа налево слово baston — трость) и go-ma (резина), означающие для нее "не иди!" = "не иди дальше!".
По таким "знакам" она "читает", что "должна быть осторожной", ибо "я никогда не знаю, что может случиться...". Лола спрашивает совета у "судьбы", точно так же, как греки советовались с Оракулом, и "слепо" подчиняется ей, даже несмотря на то, что признает ее двусмысленность. Но если греки принимали свою систему знаков как унаследованную традицию, то Лола разработала свою собственную, но относилась к ней так, как если бы она была объективной или передавала сообщение объективной силы. Позиция Лолы напоминает отношение некоторых людей к астрологии. Ни в том, ни в другом случае нет осознания, что практикуется всего лишь "фетишизм названий, проецированных на небо". Но опять же, в отличие от астрологического суеверия, уходящего корнями в традицию, Лолино суеверие чисто индивидуально. Общим для обоих случаев является вера во мнимую, слепо действующую силу и отбрасывание от возможности вырвать себя из предопределенности и вернуться к жизни в качестве своего реального я или принять подлинную религиозную веру.
Побуждение "вкладывать" особый смысл в вещи посредством системы вербальных символов, позволяющей получить определенное "Да" или "Нет", тесно связано со склонностью избегать и даже бежать от самих зловещих вещей и от всякого, кто прикасался к ним. Эта связь с вербальным выражением чаще всего очень ясно видна, как в случае зловещего значения зонтика, возникшего от букв s-i, и совпадения во времени этого s-i со встречей Лолы с горбуньей. Сама горбунья — причем только горбунья, а не горбун — черпает свое зловещее значение (точно так же, как и косоглазая продавщица) из "ненормальности" этого жизненного явления, ненормальности в смысле "нисходящей жизни" ("История болезни Эллен Вест"), то есть изъяна, уродства, обе-зображенности. Эти формы "нисходящей жизни" так ярко выражены в суеверии потому, что суеверие "зарождается" от тревоги бытия в мире самого по себе, от голого существования, погруженного в сверхъестественность. Эти символы нисходящей
жизни могут оказывать сверхъестественное действие только по одной причине: потому что существование, упорно остающееся в сверхъестественности, само является нисходящей жизнью! Или, выражаясь иначе, постоянная погруженность в экзистенциальную тревогу и пристальное вглядывание в ее сверхъестественное ничто наделяют существование "даром предвидения" в отношении всех явлений, которые отклоняются от "успокоительной" экзистенциальной нормы и указывают на ее неустойчивость.
То, что контакт — как тактильный, так и ассоциативный, в смысле ассоциации по близости и сходству — становится здесь настолько важным, можно понять, если принять во внимание упрощение картины мира от очень сложного взаимосвязанного целого контекста соотношений до простого пространственного "рядом-друг-с-другом" и сенсорного или абстрактного "вместе-друг-с-другом".
Здесь проявляется значительное упрощение и обеднение "мира", что, естественно, является упрощением и обеднением существования. По мере того, как существование становится все проще и все беднее, точно также упрощается и обедняется мир и вместе с тем становится все более невыносимым в своей упрощенности; ибо "за" ним находится и сквозь него смотрит голова Медузы, принадлежащая "ничто тревоги". Именно тревога заставляет мир выглядеть все более незначительным, все более простым, потому что она приводит существование в "оцепенение", сужает его открытость, его "вот" до все меньшего и меньшего круга, навязывает ему все более сложные для реализации возможности, которые предоставляются ему все реже и реже. То, что верно в отношении ориентации в пространстве, еще вернее в отношении ориентации во времени и историзации [Geschichtlichung] существования. Подлинная историзация — аутентичная история с экзистенциальной точки зрения — замещается простым "совпадением" обстоятельств и события, что служит признаком всего лишь земных "объективных" событий, а не подлинной судьбы*.
* Об этом разграничении писал Зиммель (G.Simmel, Lebensanschauung, S. 127): "То, что у кого-то отец убит, а мать выходит замуж за убийцу, несомненно, будет ошеломляющим событием для любого человека; но то, что это становится судьбой Гамлета, определяется характером Гамлета, а не тем фактом, что данное событие свалилось на него как на "кого-то". Единичные "судьбы" по существу определяются внешними событиями, то есть, очевидно, объективный фактор перевешивает все другие; но их совокупность, "судьба" каждого человека определяется его характером. Если достаточно внимательно посмотреть со стороны, то в ней можно увидеть единство, вытекающее не из единичных причин, а единство, центром которого является априори формирующая сила жизни индивида".
То, что место страхов и воспоминаний занимают реальные предметы и люди, с которыми они были связаны, служит признаком такого приземления [ Verweltlichung} или экстернализации судьбы. Но воспоминания не только связываются с предметами и людьми, они "входят в них". Поэтому "ужасающее ощущение не прекращается до тех пор, пока вещь рядом". Таким образом, земное пространственное отдаление от вещей замещает экзистенциальное (подлинно жизненно-историческое) преодоление проникшего в них ужасающего ощущения. Мы можем видеть здесь универсальную человеческую черту — "отталкивание", запирание, прятанье вещей, связанных с неприятными или печальными воспоминаниями; однако в случае Лолы это удобное свойств малодушия или "самозащиты" превращается в необходимость, "долженствование". Выражаясь психологически, можно сказать, что в данном случае место преднамеренных действий или психических явлений (в смысле Брентано) занимают "предполагаемые объекты". Но это всего лишь иная формулировка того, что в экзистенциально-аналитических терминах мы назвали приземлением. Здесь мы сталкиваемся с трансформацией жизненно-исторической пространственности в земное пространство и его ориентационный потенциал близости и удаления. То, с чем уже больше нельзя иметь дело в экзистенциально-исторических условиях, теперь должно происходить в "земном пространстве". Посредством этого существование уходит от своей фактической задачи и ее реального значения, но не избегает тревоги. За приобретенное посредством приземления — перекладывание своей собственной ответственности и вины на внешнюю "судьбу" — должно быть заплачено потерей свободы и вынужденной запутанностью в сети внешних обстоятельств и событий.
Но почему в Лолином случае настолько видную роль играют только предметы одежды — платья, нижнее белье, туфли, шляпы? Для ответа на этот вопрос нам следовало бы провести биографическое исследование. К сожалению, в нашем распоряжении нет никаких исторически отправных точек. Но вопрос: почему предметы одежды могут играть такую видную роль, — действительно представляет собой проблему экзистенциального анализа.
Если некоторые принадлежности, такие как зонтики или трости, приобретают свои зловещие соозначения благодаря вербальным символам, а другие, такие как мыло, стаканы, полотенца, пища — в результате контакта с неодушевленным или человеческим "источником" заражения, то предметы одежды становятся фактическими представителями людей, и в особенности матери.
Долины собственные предметы одежды также приобретают доминирующе роковое значение, мы помним, что она отказывалась ехать за границу, пока не уберут определенное платье, что она боялась писать своему жениху, когда на ней было определенное платье, иначе с ее женихом могло что-нибудь случиться; что она разрезала свою одежду, постоянно носила одно и то же старое платье, ненавидела свое нижнее белье и всеми возможными средствами противилась покупке и ношению новых платьев. Из того, что мы знаем о Лоле, можно сделать вывод, что, вероятно, ее одежда прониклась ее воспоминаниями. Очевидно, для Лолы платья и нижнее белье играли роль, подобную той, что полнота играла для Эллен, а все физические и психические одеяния — для Юрга Цюнда. Во всех этих случаях фокус сосредоточен на какого-либо рода ненавистном облачении, на невыносимой оболочке. Но если Юрг Цюнд пытался защититься или спрятаться за какой-то другой оболочкой (пальто, более высокий социальный статус), а Эллен Вест всеми возможными способами пыталась избежать отложения "жирового" слоя, то Долина проблема намного проще, ибо она касается лишь оболочки, создаваемой одеждой, поэтому она избавляется от нее, отдает ее, разрезает на части и удовлетворяется длительным ношением одного и того же "старого тряпья". Но все эти случаи имеют одну общую черту: приземление всего существования и трансформация экзистенциальной тревоги в ужасную боязнь "земной" оболочки. Кроме того, все эти облачения и оболочки воспринимаются как угрозы и ограничения, исходящие либо из мира окружающих людей (Юрг Цюнд), либо из мира своего собственного тела (Эллен Вест), либо, как в случае Лолы, из мира одежды. И в каждом случае псевдо-экзистенциаль-ному идеалу противостоит соответствующая оболочка. Долина форма существования кажется нам еще более странной, чем в других "случаях". То, что мы считаем "своим миром", состоит, главным образом, из нашего психического и физического мира, а также из мира окружающих нас людей, тогда как миру своей одежды мы приписываем намного меньшее значение. Однако в случае Лолы первостепенное значение принимает именно последний мир. Это достаточная причина для того, чтобы Лола казалась "больнее" других пациентов.
Мир одежды, как таковой, представляется "частью внешнего мира", но "как таковой" здесь следует понимать не в философском смысле, а в весьма нефилософски-рационалистическом или, если хотите, в позитивистском смысле. Ибо точно так же, как тело —
это не только "часть" внешнего мира, но одновременно и "часть" внутреннего мира, так и предметы одежды — это не только вещи, но и персональные оболочки. Слова "одежда делает человека" выражают ее значение в мире окружающих людей*.
Но, кроме того, можно сказать, что одежда делает нас, потому что ее антропологическое значение основывается на чем-то большем, чем наше убеждение в том, что мы привлекаем внимание своей одеждой и что о нас судят по ней. Мы воспринимаем ее не только как нечто, открывающее нас взору других и в то же самое время** защищающее и скрывающее нас от них, но и как нечто, принадлежащее нам, дающее нам ощущение душевного подъема и благополучия или дискомфорта и угнетенности; нечто не только "носимое" нами, но и несущее нас самих, помогающее или мешающее нам (в наших собственных глазах или в глазах других), расковывающее или ограничивающее нас и прячущее и закрывающее от нас наше собственное тело.
Неудивительно, что мир одежды может представлять другим нас самих. И поэтому, можно считать, что "проклятье", которым мы обременены, непосредственно связано с нашей одеждой. Более всего это можно ожидать в таком мире, как Лолин, где все определяется близостью и удаленностью! Ибо что еще, за исключением нашей кожи, "ближе" к нам, чем наша одежда? И с какой бы радостью Эллен и Юрг освободились бы от своих тел, отдали их, продали или разрезали, если бы это было в человеческих силах! Вместо этого они умоляют судьбу позволить им родиться заново с другим телом или другой душой — тогда как все, что требуется Лоле — это избавиться от платья, которое ей не нравится, или держаться на расстоянии от него. И в то время, как другие пациенты умоляют судьбу избавить их от невыносимого или банального существования, Лола верит, что может "читать"
* См. Roland Kuhn, Ьber Maskendeutunhen im Rorschach sogen Versuch, S. 17 f.: "Одежда защищает... одежда выдает... одежда маскирует".
** Нигде, за исключением, быть может, теста Роршаха, это "выражающее" значение одежды не играет большей роли, чем в сновидении. Здесь предметы одежды наиболее часто встречающиеся и откровенные выразители нашей самооценки. Следует только вспомнить о рваной, изношенной, плохо сидящей, неряшливо носимой или плохо подобранной одежде "сновидения", с одной стороны, и элегантных, бросающихся в глаза или аккуратных костюмах должностных лиц и дипломатов, — с другой. Мы также помним сновидения, в которых пояшгались полураздетыми или одетыми несоответствующим образом. Но такие ошибки случаются и в бодрствующем состоянии. Однажды я сам явился на празднование годовщины одного профессора в черных брюках и жилете от костюма, но в желтой пижамной куртке. Здесь мотив заключался не в самоуничижении, а в умалении другого: мое присутствие было вынужденным, так как я ощущал определенную "антипатию" к человеку, в честь которого устраивалось мероприятие.
намерения судьбы. Что это означает? В конечном счете это означает, что ей удается получить из неуловимого сверхъестественного Ужасного человекообразную фигуру, а именно, персонификацию судьбы, действующую согласно предсказуемым намерениям, предостерегающую или поощряющую ее и, таким образом, спасающую ее от полной капитуляции перед Ужасным во всей его обнаженной сверхъестественности.
Это видно не только по той широкой сети, которой Лола окружает судьбу, полагая, что она позволит ей узнать об ее намерениях и избежать Ужасного, но и по ее поведению в отношении фактических носителей Ужасного, предметов одежды. Когда Лола длительное время носит одно и то же платье, поступает в санаторий без нижнего белья и окружает покупку и ношение новой одежды сетью мер предосторожности против прорыва Ужасного, мы делаем вывод, что она должна "угадать" намерения "судьбы" для того, чтобы отгородиться от своей судьбы. Чем меньше одежды она носит, тем меньше она "контактирует" с Ужасным; чем дольше она может обходиться своим поношенным платьем, тем меньше она ощущает опасность новой "ужасной" катастрофы, которую подразумевает новое платье. Однако новое как таковое, сама новизна является, как мы знаем, Неожиданным как таковым, самой Неожиданностью. Определенно погруженная в сверхъестественность, Лола живет в тревоге, что прорвется Неожиданное, от которого она пытается защититься всеми возможными средствами. (Обратите внимание на ее замечание: "Никто не должен удивлять меня чем-то неожиданным, потому что в результате у меня возникает идея, которая остается навсегда".) Так как Неожиданное представляет собой отрицание последовательности, точнее — даже "полное изъятие" последовательности из Предшествующего и Последующего (сравните с боязнью катастрофы в случае Юрга Цюнда), мы снова видим, что у Лолы нет ни подлинного будущего, ни подлинного прошлого, а живет она от одного Сейчас к другому, в простом (неаутентичном) настоящем. И ее существование уже не протекает ровно и непрерывно, то есть, разворачиваясь в трех "временных измерениях" ["ecstasies of temporality"], а сжалось до одного только настоящего, простого намерения что-то сделать. Экзистенциальная последовательность, подлинное становление в смысле подлинной историчности заменяется сверхъестественно неожиданным прыжком из одной "точки сейчас" в другую. Теперь нетрудно увидеть, что ношение одного и того же платья, — внешняя земная последовательность, — замещает недостающую внутреннюю или
экзистенциальную последовательность и защищает существование от полного растворения.
То, что новое платье не должно быть красивым или дорогим, говорит об аскетическом характере Лолиного существования. Это примиряющее качество, которое, однако, "реализуется" не как искупление, а как предосторожность, чтобы не спровоцировать внушающую страх силу чем-нибудь заметным (по своему характеру Лола ни в коей мере не скупа). Но такой же провокацией будет, если она примет платье — преимущественный носитель Ужасного — из рук косоглазой, а следовательно, "зловещей" продавщицы. И если новое платье не должно быть красным, потому что красным было прошлогоднее летнее платье, то и это свидетельствует о приземленности ее существования, ибо, если подлинная экзистенциальная последовательность основывается именно на повторении*, то здесь мы имеем дело с земной категорией возвращения одинаковости. Это тоже приводит Лолу в содрогание. Она, несомненно, предпочла бы полное отсутствие перемен; но если она должна принять что-то новое, то оно должно отличаться от старого. Нам необходимо помнить, что для Лолы "вещи" означают воспоминания, так как "воспоминания переходят в вещи". Поэтому "ужасное", "страшное" ощущение "никогда не проходит, если вещь рядом". Поэтому вещи — не просто носители воспоминания, они являются воспоминаниями. Таким образом, мы видим здесь самый ощутимый признак приземления, трансформации существования и подлинной судьбы в "мир" и "земную" участь. Но даже сами воспоминания и ощущения уже не мобильны и не управляемы; их уже нельзя выстроить последовательно; не поддаваясь никакому влиянию, они застыли в чисто мнимой последовательности и непреодолимы для существования. Кроме того, воспоминания также становятся в некотором смысле одеждой, оболочкой существования, носителями несчастья, но ни в коем случае не прошлым и не воспроизводимым существованием. Поэтому брешь между существованием и такими "застывшими" воспоминаниями намного шире, чем зазор между вещью-воспоминанием и воспоминанием-вещью. Необходимость сохранять или носить старое платье, не обремененное страшными воспоминаниями, означает вынужденность оставаться в уже-бывшем, то есть, в состоянии предопределенности. Покупка и ношение нового платья означает риск сверхъестественного происшествия, шаг в будущее. Но необходимость избавиться от "зараженного" платья или вещи означает,
* См.: Kierkegaard, Repetition.
я повторяю, избавление от вещи-воспоминания посредством избавления от воспоминания-вещи. Другими словами, на смену неспособности интегрировать воспоминания в последовательность существования приходит пространственное земное дистан-ционирование пациентки и вещи-воспоминания.
СКРЫТНОСТЬ ВРАГОВ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОСТЬ УЖАСНОГО/ Нозологическая система психопатологии должна проводить, как в описательном плане, так и по существу, четкое различие между симптомами компульсивного предрассудка и мании преследования. Аналитика Dasein, напротив, пытается обнаружить именно то, что является фундаментальным для обоих этих описательных симптомов, и объяснить, как один развивается из другого.
Сама Лола в обеих формах своего существования употребляет одно и то же выражение:
"Я все время вижу в знаках, что мне следует быть осторожной (так как я не знаю, что может случиться)".
"Я никогда не представляла себе ничего подобного, всего того, что, как я обнаружила, сделали эти люди — потому что они всегда подслушивали и планировали дурное, вот почему я должна быть очень осторожной".
Осторожность в первом случае относится к прорыву Ужасного; во втором — к враждебности "людей". Сверхъестественность Ужасного превращается в скрытные действия людей: "внушение, любопытство {beneugieren), подслушивание, предательство, презрительное отношение, убийство. Но, опять же, и то, и другое сходно в том, что в обоих случаях осторожность осуществима только при наличии ключа к системе знаков и пристального внимания к ней.
При первой форме существования все еще наблюдается доверие к высшей инстанции — "судьбе" — посылающей предостерегающие знаки, толкование которых позволяет существованию защитить себя от вторжения Ужасного; однако при второй форме бытия у существования нет защиты вышестоящей силы, в которую оно продолжало бы верить. Будучи беззащитным, оно оказывается в руках врагов. Это находит свое радикальное выражение, когда Лола в первом случае говорит, что ей "следует быть осторожной", а во втором — что она "должна быть осторожной". Здесь знаки — это уже не предостережения о какой-то опасности, а выражение конкретной опасности чего-то уже существующего.
Последнего авторитета, которому существование могло бы еще доверять, последней оставшейся точки опоры для существования (какой бы тонкой, даже изношенной, ни была сеть, в которую оно пыталось поймать Ужасное) теперь уже нет. Только теперь существование полностью отрекается от себя и отдается во власть миру. На первой стадии Лола "читает" (толкует) команды и запреты судьбы посредством суеверной системы вербальных знаков, при этом она пользуется ею более или менее "независимо", но на второй стадии она уже ощущает, видит и воспринимает приметы врага в осязаемой форме, приобретшей оттенок реальности*.
С точки зрения экзистенциального анализа это означает не существенное отличие, а лишь отличие по отношению к форме, в которой проявляются Непреодолимое и "нахождение в его власти". То же самое относится и к разграничению двух стадий (стадии безличного подавления и личного поработителя). Уже на первой стадии "судьба" была квази-богоподобной личностью, имеющей "намерения по отношению к нам", которые могли быть "прочитаны"; более того, медсестра Эмми была уже — помимо носителя несчастья — личным врагом, чья близость заставляла Лолу ожидать невыразимо Ужасного. Поэтому медсестра Эмми образует связующее звено между Ужасным как роковой сверхъестественной силой и скрытными действиями врагов. Единственное остающееся различие заключается в том, что Эмми — это носитель и посредник Ужасного, в то время как "преследователи" выступают уже не как выразители намерений и носители Ужасного, а как страшные личности сами по себе. Таким образом, мы сталкиваемся с явлением персонификации, а в связи с этим — с разделением зловещей силы на несколько, даже на множество скрытных преследователей. Это напоминает нам "прием магии", включающий "наделение посторонних лиц и вещей тщательно дифференцированными магическими силами (маной)"**.
Фрейд посвятил весьма поучительное исследование сходству между Сверхъестественным и Скрытным, исходя из следующего определения Сверхъестественного Шеллинга: "Все, что должно оставаться в тайне и скрытности, но стало явным, — известно как сверхъестественное".
* Следует отметить, что эти приметы все же в значительной степени основываются на вербальных явлениях (сходстве слов).
** См. Freud, "Das Unheimliche", Samtl. Schriften, X, 393. Я хочу подчеркнуть, что никоим образом не отождествляю такое образование множества с магическими толкованиями "примитивных людей". Общее в обоих случаях — это пребывание во власти сверхъестественной силы, распространяющейся на людей и вещи.
Однако это не тот контекст, в котором следует обсуждать психоаналитическое развитие Фрейдом вопроса "диапазона факторов, превращающих тревогу в страх перед Сверхъестественным". Я предпочитаю вернуться к определению Шеллинга, кое-что добавив к нему: то, что должно оставаться тайным и скрытым, представляет собой первичную экзистенциальную тревогу, теперь "проявившуюся". Ощущение сверхъестественности вызывается всем, что пробуждает эту тревогу, всем, что может покачнуть наши обычные представления о "мире и жизни". Это может быть (необычное) повторение подобного. Видение [Doppelganger], а также все символы увядающей жизни: горбатая спина, косоглазие, умопомешательство и наконец смерть. Чем сильнее экзистенциальная тревога, тем слабее уверенность в мире и жизни, тем шире сфера, в которой эта неуверенность может проявиться. В случае Лолы воздвигается сеть мер предосторожности и защиты между экзистенциальной тревогой и Сверхъестественным, где последнее вызывается первым. Этот процесс, хотя и более драматический, по своему существу сходен с тем, что наблюдается в случае Юрга Цюнда и Эллен Вест. Защитными мерами существование пытается уберечь себя от появления Сверхъестественного. С их помощью оно продолжает находить некоторую точку опоры в "заботе" [Sorge], беспокойстве [Besorgen], сделках и осторожности, даже несмотря на то, что эта осторожность служит исключительно защите от Сверхъестественного и полностью исчерпывается обслуживанием Сверхъестественного. Тем не менее, именно я все еще защищает себя от "ничем не подкрепленного ужаса", от прорыва Ужасного в существование.
Но затем, во второй фазе, мы обнаруживаем нечто весьма специфическое. Здесь защитные меры оказываются неадекватными, и Ужасное уже не может быть предотвращено взываниями к оракулу или "устранено" посредством пространственного отдаления. В этот момент Ужасное уже не ощущается как "ничем не подкрепленный ужас", как "неопределенная" угроза существованию или даже его разрушитель; оно воспринимается как "определенная", конкретная угроза, исходящая от мира. Теряя свой сверхъестественный характер, Ужасное превращается в нечто, скрытно угрожающее, а реальное я одновременно оказывается под угрозой полного уничтожения. Теперь я больше уже не стоит, "прочно опираясь на землю" обеими ногами ни в практической деятельности, ни в фактической реальности, а уступает миру фантазии и полностью находится под его влиянием. Здесь мы имеем дело с тем миром, который сам отмечен скрытностью,
неосязаемостью и непонятностью, с миром других, с историческим "порабощением-другими" и с формирующимся по ходу дела мнимым образом [Rufgestalt]5'.
Непрекращающееся ощущение человека, что его подслушивают, ему угрожают — это лишь особый случай представления того, что человеком неотвратимо, сверхъестественным и скрытным образом овладевают другие ("люди"), судят и приговаривают его, мешают ему и нападают на него. Так как намерения "других" никогда не бывают совершенно явными, то всегда остается место для некоей скрытности. "Прочно стоящих обеими ногами на земле" не тревожит эта допустимая погрешность, они даже более или менее спокойно и оправданно игнорируют "предполагаемый образ", представляющий их существование в глазах других. С другой стороны, прорыв высвободившейся экзистенциальной тревоги наиболее легко осуществим именно в этой "области" нашего мира, непостижимой, необозреваемой, загадочной и непредвиденной по своей природе. Скрытность, усматриваемая в действиях "людей", осознание их недобрых намерений посредством "знаков", компульсивность получения информации о намерениях из этих "знаков" — все это указывает на скрытное появление сверхъестественности мира ближних. Все, что появляется совершенно "открыто", уже не сверхъестественно*.
Если в суеверной фазе "все выходы со сцены жизни" (используя метафору Эллен Вест) "заняты вооруженными людьми", то теперь, в случае Лолы, эти люди фактически окружают ее. Изменилась сама "сцена жизни". В первой фазе Лоле все же удавалось неким образом не подпускать к себе "обременяющее ее душу" Угрожающее; теперь же она вынуждена ожидать, что в любой момент может быть убита. Если прежде на карту ставилось спасение ее души, то теперь под угрозой ее жизнь. И это все приводит к умножению не только Угрожающего, но и Угрожаемого.
* Это, конечно же, не является возражением на мое утверждение о том, что в этой форме существования "намерения врагов" проявляются открыто, и поэтому им можно противостоять; ибо даже за "открыто проявляющимися" намерениями "преследователей" скрывается сверхъестественность "приводящей в замешательство" судьбы, обрекающей на преследование как таковое — на несправедливое обращение, обвинение и ущербное состояние. Отсюда и терзающие преследуемого вопросы: почему именно я должен так страдать, почему именно мне досталось такая судьба, почему я один должен бороться со своими врагами, почему никто не верит моим рассказам о том, как я страдаю, и т.д. Все эти вопросы обращены к судьбе, а затем передаются для ответа пояснительным иллюзиям. Здесь имеет значение сверхъестественность иллюзорной судьбы, ощущаемая самим пациентом, а не наблюдателем; для него источник сверхъестественности заключается в связи умопомешательства и "нисходящей жизни".
Преступления* совершаются повсюду, и весь мир теперь состоит только из убийц и убитых. По одну сторону мы находим невинных жертв, а по другую — злодеев. Сверхъестественный "мир" превратился в мир тайных преступлений, мир, в котором все имеет свои сверхъестественные предзнаменования [Vorbedeutungen], в мир скрытых значений [Bedeutungen].
Так сцена жизни становится сценой драмы, даже трагедии. Сама Лола становится беспомощным орудием сценического действия, вынужденным говорить то, что велят ее враги (для того чтобы "направлять" свои преступления). Она — лишь машина [Elfolgsapparat], которая должна воспроизводить все вводимые в нее слова или мысли. Она — не только беспомощный, но и невинный инструмент. Экзистенциальная вина трансформируется в земную виновность в глазах других: "они" считают ее плохой.
На первой стадии сверхъестественность связывалась, главным образом, с одеждой. Поэтому можно было ожидать, что одежда будет иметь важное значение и на второй стадии, как это иногда наблюдается в прогрессирующих случаях. (Мы вернемся к этому моменту в нашем психопатологическом анализе.) Возможно, это объясняется пробелами в нашем материале, но в случае Лолы мы почти не находим ничего подобного, за исключением ее намерения избежать своих врагов, переодевшись в служанку. Во всех остальных отношениях тема одежды претерпевает изменение: пространственный контакт с предметами одежды и людьми, облаченными в них, сменяется "воображаемой" маскировкой врагов. Хотя их преступления очевидны, Лола, в связи с "маскировкой" и скрытностью действий своих врагов, не в состоянии их "распознать". Ранее она могла избегать лиц, которые, как она полагала, угрожают ей, так как она знала их; теперь она движется на ощупь в темноте. Прежде отвратительно Угрожающее было неосязаемым, но его носители — "осязаемыми", теперь Угрожающее (преследование) рядом, но его исполнители неуловимы. Такова специфическая диалектика Сверхъестественного, о которой мы, психиатры, так мало знаем**.
* Krimen — снова неологизм. — Прим. первв.
** Сказанное не предлагается как объяснение "маний преследования" в целом. До сих пор нам даже неизвестно, сколько может существовать возможностей. Мы будем удовлетворены даже, если нам удалось понять диалектику одного случая, предложить некоторые рекомендации относительно других случаев, в особенности тех, где умопомешательство наступает настолько быстро, что в нем едва можно различить стадии или отделить их друг от друга.
Если на второй стадии Лола кажется еще "более больной", "более безумной", чем на первой, то это объяснимо усилением приземленное™, тем, что страх перед сверхъестественным Ужасным и суеверное взывание к судьбе (что до некоторой степени характерно для большинства людей) замещается страхом перед вершителями зла и борьбой с ними. В психопатологическом плане это может выглядеть как огромное "качественное" отличие; но с точки зрения экзистенциального анализа это не более, чем выражение прогрессирующего покорения существования "миром", все того же опустошения Dasein капитуляцией перед миром, того же процесса, который фон Гобсаттель называет "де-становлением" [Ent-werden]. Это проявление исключительно сложной диалектики существования, в психопатологии просто называемой нами аутизмом и распознаваемой по клиническим психопатологическим симптомам.
Яснее объяснить "переход" от суеверной формы существования, от ощущения угрозы со стороны Сверхъестественного к определенности, очевидности угрозы со стороны мира окружающих людей может обсуждение: (а) вербальной формы коммуникации; ориентации обоих форм существования (Ь) во времени (истори-зация) и (с) в пространстве.
Вербальная коммуникация. В своих вербальных коммуникациях — не с самим Ужасным, а с устоявшейся между ним и нею коммуникационной инстанцией — Лола неизменно придерживается формы "верю на слово". Она полагается на слова судьбы, это означает, что она общается с ней как с человеком, человеком не только отзывчивым, но и достойным доверия, то есть, на ответ которого можно положиться и с которым можно заключить устное соглашение*. В этих рамках все еще существуют определенные отношения доверия, а отсюда и отношение конфиденциальной близости. "Полагаясь на чьи-то слова", мы знаем что-то о другом, то, на что мы можем опереться, то, за что можно ухватиться. Таким образом, в подобных доверительных отношениях тот, кто полагается на слова другого, приобретает надежную точку зрения, "точку", где он может занять "позицию" по отношению к другому (в данном случае по отношению к судьбе), и от-
* См.: Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins, S. 322 ft. Все это всего лишь специфическая вариация диалектики замкнутости или, согласно Кьеркегору, Демонического: "Демоническое не замыкается с чем-то, оно замыкает себя; 'и в этом заключается таинство существования, факт, что несвобода делает пленником именно саму себя" (The Concept of Dread [Princeton, 1946], p. 110).
носительно которой он может корректировать свое собственное поведение. Считая, что она может полагаться на слова судьбы, Лола до некоторой степени делает Сверхъестественное привычным для себя и, насколько это возможно, осваивается с ним.
Все это пока еще находится в "нормальных" рамках антропологического образа действия "полагаться на чьи-либо слова". Но вполне очевидно, что этот образ действий переходит границы нормального, когда мы видим, что говорить судьбу заставляет Dasein, что оно использует искусственную систему вербальных сообщений. То, что мы называем психическим заболеванием, появляется, когда я уже неспособно различить "внутреннее" и "внешнее", существование и мир или, точнее, когда потребности существования воспринимаются как фактические явления в мире. Несмотря на это или, скорее, вследствие этого, мы все еще имеем здесь дело с утверждением я, каким бы опустошенным и бессильным это я ни было. Действительно, я отказалось от своей власти свободно принимать решения и разрешать проблемы, но оно все же защищает себя, подчиняясь авторитету, которым оно — "я само" — наделило судьбу, и повинуясь командам судьбы. Экзистенциальная тревога все еще направляется в определенное русло, она еще не вырвалась за искусно возведенные вокруг нее дамбы.
Однако при "маниях преследования" эти дамбы разрушаются. Экзистенциальная тревога заливает мир окружающих людей; Dasein отовсюду угрожают, оно для всех служит добычей. Запугивание и угрозы только в исключительных случаях сменяются разрешениями. Все это передается тайными знаками, то есть, главным образом, вербальными манифестациями: Лола слышит, как говорится нечто, что велят говорить "они"; "они" через слова медсестер дают ей знать, что миссис Уилсон была убита; "они" говорят плохие вещи о ней. Даже ее собственные слова подслушиваются и используются в "дурных" целях; вот почему она должна быть такой осторожной. И, наконец, "другие" убивают других людей "с помощью слов, которые они вкладывают в мои уста" и "с помощью всего сказанного мною сходными словами". К сожалению, мы не обладаем дополнительной информацией о связи между словами и действиями, о характере и последствиях этого "сходства слов". В любом случае, здесь мы наблюдаем "магическое всемогущество" не только мыслей, но и слов. "Пагубные последствия сходства слов", по-видимому, относятся к сходству между тем, что говорит Лола, и тем, что говорят другие, вероятно, в связи с той сетью словесных сочетаний, которой она опутывает Сверхъестественное.
Как бы там ни было, мы видим, что Лола использует все возможные средства, чтобы заставить своих врагов говорить и таким образом выведать их намерения, аналогично тому, как прежде она вынуждала говорить судьбу. Но если судьба позволяла ей вырвать у нее определенное "да" или "нет" и таким образом ясно и четко обнаруживала свои намерения, то враги, как правило, остаются скрытыми или замаскированными. Только в исключительных случаях они выдают себя и явно или косвенно объявляют о своих намерениях. Их основная деятельность заключается в тайном подслушивании, замаскированном любопытстве и скрытном преследовании. Реальные, осязаемые и устранимые предметы одежды вытесняются неосязаемой и уже не устраняемой психической маскировкой. Теперь мир окружающих физически наступает на существование, имея своим намерением физическую угрозу, то есть убийство. Место неопределимого, а потому невыразимого Ужасного (в ожиданиях и воспоминаниях) занимает определенная страшная угроза жизни. "Ничем не подкрепленный ужас", боязнь потери существования превращается в определенный страх физической потери жизни. Экзистенциальная тревога, боязнь полного уничтожения [Nichtigung] может теперь проявляться только как боязнь земного умерщвления. Вербальные манифестации уже больше не предупреждают: "Это ты можешь делать, а этого ты должна избегать" (для того, чтобы уберечься от Ужасного); теперь они прямо заявляют: "Твоя судьба решена, тебя убьют". Таким образом, экзистенциальная тревога, которая в суеверной фазе все еще была подлинной тревогой, в стадии преследования превращается в боязнь чего-то определенного, в боязнь быть убитой (Фрейдова концепция случая Шребера). Метаморфоза неопределенного Ужасного в определенный страх (то есть, в мании) никоим образом не должна рассматриваться как процесс излечения.
В этом контексте мы должны заявить, что болезнь чрезвычайно прогрессировала. Если прежде я еще было способно до некоторой степени оберегать себя, то теперь оно полностью оказывается во власти подавляющей силы мира, приводящей его в оцепенение [benommen]. То, что ранее в некоторой мере еще могло называться я, теперь уже — не автономное, свободное я, а лишь зависимое эго, в смысле просто игрушки в руках "других". Опасность того, что существование скрывает от себя, того, что ощущается как тревога, больше уже не представляется полномочием судьбы, теперь это замаскированная превосходящая сила врагов. Эта "маскировка" представляет собой форму Приземления, то есть, облачения мира в те "одежды", в которые существование облачило
себя и, найдя их "невыносимыми"*, сорвало их и разбросало по миру окружающих его людей. В Долиной фобии одежды сбрасывание все еще выражалось практическим отказом от реальных предметов одежды (их раздачей, продажей, разрезанием) и избеганием лиц, носивших их. В ее иллюзиях преследования предметы одежды, так сказать, сливаются с "другими" или, точнее, Ужасное распространяется с предметов одежды, от которых можно отказаться, и их носителей на всех людей, на все человеческое.
Томас Карлейль выбрал "философию одежды" темой своего глубокого романа "Сартор Резартус". Он пытается показать, что "все символы в действительности представляют собой предметы одежды", и отправляется в "долгое и полное приключений путешествие от внешнего общеизвестного осязаемого шерстяного покрова человека через его удивительный покров из плоти и его удивительные социальные покровы к облачениям его сокровенной души, к Времени и Пространству". Эту книгу можно назвать пробой в области "философии символических форм", идущей намного дальше сферы вербальных, мифических форм и форм знания Кассирера. Подобно немецким идеалистам, Карлейль признает, что сущность, или внутреннее, и символ, или оболочка, — взаимозависимы; он верит, что может распознать сущность в символе и найти ключ к первому в последнем. Но, по примеру немецкого идеализма, он пренебрегает диалектическим движением от одного к другому, соответствующим экзистенциальному взаимоотношению между свободой и несвободой, несвободой и свободой. Поэтому его книга, подобно всем философиям символической формы, хотя и полезна в плане экзистенциально-аналитического и жизненно-исторического прояснения, в отношении самого этого диалектического движения бесплодна. Но теории Карлейля следует иметь в виду, если мы хотим прийти к антропологическому пониманию одежды.
Обсуждение скрытности врагов привело нас к анализу вербальных способов предостережения и мер предосторожности в отношении одежды — ибо все эти темы имеют общий знаменатель: заклинания Ужасного. Через свою сложную систему вербальных оракулов Лола ловит Ужасное на слове — заклиная его — в то время как через одежду и врагов она находит его слабое место. Через одежду и врагов легче всего схватить Ужасное и таким образом бороться с ним. Но так как в случае Ужасного Лола имеет дело не с другим человеком, а со сверхъестественной, превосхо-
* На немецком "невыносимое" и "негодное для носки" обозначаются одним и тем же словом.
дящей, демонической силой, то и ловля его на слове, и использование его слабого места должно принимать характер заклинания. Однако заклинание означает постоянные взывания и мольбы, непрерывное подчеркивание, непрекращающееся повторение*. Заклинание — это выражение покорности, сделавшей себя пленницей и теперь отчаянно бьющейся о стены своей тюрьмы. С какого рода заключением и тюрьмой нам приходится иметь дело — вопрос второстепенный. Если в предыдущих случаях мы встречались лишь с одним видом лишения свободы, то в случае Лолы их уже два: это лишение свободы со стороны судьбы и со стороны врагов. Поскольку то, что Кьеркегор назвал "таинством существования" — то, что несвобода делает пленника из самой себя — действительно для всего человеческого существования, то шизофрения просто представляет особенно интенсивную и специфически построенную вариацию перехода свободы в несвободу или, как это называем мы, в существование в мир.
Ориентация во времени. Как говорилось ранее, переход от суеверной формы существования, от смутного "ощущения" угрозы со стороны Ужасного к определенности угрозы со стороны окружающих людей можно прояснить посредством вербальных коммуникаций, ориентации Dasein во времени (историзации) и пространстве. Перейдем теперь ко второй задаче.
Мы можем сразу обратиться к заклинательному характеру общения с Ужасным. Когда мы слышим о бесконечном взывании, неустанном заклинании и непрерывном повторении, мы имеем дело с временной формой безотлагательности (так хорошо известной нам из случая Юрга Цюнда), а отсюда с формой мнимой непрерывности Неожиданного и чисто нереально существующего. Это форма ориентации во времени, которую мы встречаем и в случае Лолы. Здесь также существование постоянно пребывает в ожидании опасности, которая может неожиданно возникнуть, опасности, угрожающей теперь не просто со стороны Ужасного, а со стороны "людей". Смутная тревога по поводу Ужасного превратилась в боязнь Преступников. Таким образом, существование еще больше отдаляется от самого себя, еще больше приземляется [verweltlicht]. Действительно, кажется, что Лола ближе к нам, чем на первой стадии, поскольку она более "активна" и уже
* Заклинание — это, согласно Леопользу Циглеру, Ahmung [предчувствие (нем.) — Прим. ред. ] (см.: Ziegler, Ьberlieferung [Leipzig, 1936], S. 23 fl'.), однако в форме не языка жестов, а вербального оракула. В основе всякого Ahmung лежит убеждение, что "природу" (или "судьбу") можно убедить реагировать на требования человека по его желанию (S. 25).
вышла из стадии чисто "активной пассивности" (Кьеркегор) суеверия. Когда она защищается от врагов и пытается избежать их ловушек, обнаружить их и "привлечь к ответственности", внешне ее поведение не сильно отличается от действий здорового человека. Когда она кажется "стоящей обеими ногами на земле, собирающей информацию, строящей планы "на будущее", ищущей "выход", появляется искушение верить, что здесь существование ориентирует себя во времени [zeitigt sich] способом, не отличающимся от требуемого для обычной деятельности, для нормального "действия".
Но в этом случае очень важно помнить, что в действительности означает ориентация во времени: ориентацию во времени не следует путать с земным временем, представляющим собой лишь производную форму от первого. Ориентация во времени — это не просто одно экзистенциальное явление из многих; она есть существование (Dasein). В этом случае оно уже приземлено до такой степени, что невозможно говорить ни о подлинной экзистенциальной ориентации во времени, ни об историзации, ни о "становлении" я. Но там, где за преднамеренностью мы уже не находим подлинного я, где существование стало "игрушкой" демонических сил, там оно уже не стоит обеими ногами на земле (что всегда подразумевает экзистенциальную позицию или "собственную позицию я" [Selbststand], а "висит в воздухе". Существование, как выражается Кьеркегор, отделилось от своих (исторических пространственно-временных) "основных условий", ставших теперь его врагами. Различие между ориентацией во времени на первой и второй стадиях по Хайдеггеру (см. "Бытие и время", с. 341—345) можно интерпретировать как различие между ориентацией во времени тревоги и во времени страха. В то время как тревога относится к "незащищенному существованию, отданному во власть сверхъестественного", страх вызывается беспокойством [Besoi'gen] в отношении мира окружающих людей. Но даже на первой стадии "тревога уступает чему-то беспокойному" (тревога Лолы относительно одежды), что свидетельствует о том, что здесь также есть страх. Кроме того, хотя на второй стадии в основе страха лежит как раз беспокойство по поводу происков "людей", эти люди становятся доступными для Лолы не благодаря земной системе практических действий, а потому, что они подвластны [verfallen] непреодолимому Ужасному. Поэтому временной характер [Zeitlichkeif] страха нельзя понять истолковывая практическую деятельность, а только — через состояние капитуляции, "брошенности в мир". В этом случае ориентация во времени
принимает форму бега по кругу, водоворота (см. мою работу "Ьber Ideenflucht"). Не только существование открыто потрясающему Необычному (Хайдеггер); бытие как таковое обретает характер постоянно потрясающего Необычного!
Давайте будем иметь в виду тот факт, что на второй стадии существование захвачено этим "бегом по кругу", этим водоворотом даже в большей мере, чем на первой. Действительно, на обеих стадиях мы имеем дело с фиксацией (ужасного) Необычного — диктуемой экзистенциальной тревогой — в определенное земное значение: опасность. На первой стадии опасность можно предотвратить посредством "толкования" предметов, посредством сложной системы взывания к судьбе за "Да" (ты можешь) или "Нет" (ты не должна) — то есть за указанием на возможность избежать опасность. Однако на второй стадии этот апелляционный суд отсутствует. Теперь никакой альтернативы не остается — только "Нет". Теперь все знаки читаются как "Нет", "Вернись назад", "Остерегайся", "Никому не доверяй!". Гибкая система ориентации во времени, где будущее то открыто, то закрыто, сменяется нереальным вездесущим определенным злом. Единственный путь, где все еще просматривается будущее, — это ожидание земного появления постоянно присутствующего зла в форме "преступлений". Но если на первой стадии Ужасное в своей угрозе существованию все еще имело экзистенциальный характер, то на второй стадии оно потеряло его и стало лишь земной угрозой жизни. Здесь уже стоит вопрос не о "душевном спокойствии", а о самой жизни. Там, где прежде мы видели существование в его историчности, в его потенциальной возможности становления и созревания, теперь мы наблюдаем лишь развитие угрожающих событий "во времени". Несомненно, что в такой "лишенный милостей мир" [Gebsattel] не может проникнуть ни один лучик любви. В нем нет не только экзистенциального общения, но и скрепленной любовью общности, так как существование уже давно изолировало себя в тревожном уединении и обособленности.
Как результат этого исследования нам следует помнить, что, наряду с трансформацией временной формы экзистенциальной тревоги в чисто земной страх, сверхъестественность Ужасного ушла в скрытность врагов. Без знания и понимания первой стадии невозможно понять вторую стадию, — скрытность врагов. В то же время нас поражает тот парадокс, что сверхъестественность Ужасного все еще может приниматься на слово, когда голос судьбы открыто говорит "да" или "нет", тогда как сверхъестествен-
ность врагов выражается только скрытностью. Но парадокс исчезает, как только мы осознаем, что сверхъестественность и скрытность — не противоположности, что они — одного порядка. И то, и другое представляет тревогу по поводу не имеющей себе равных демонической силы и боязнь оказаться в ее власти. Различные способы проявления этой сверхсилы (с нашей точки зрения: способы ее толкования и разгадки) тесно связаны с процессом плюрализации "Ты". С судьбой, как олицетворением Ужасного, все еще можно "дружить", все еще можно "полагаться на ее слово"; но "верить словам" необозримого множества, на которое разделилось Одно Ужасное, уже нельзя, по словам и другим знакам оно может распознаваться только как враги.
Таким образом, мания преследования оказывается последующей стадией в противостоянии существования и зарождающегося из него ужасного Непреодолимого; "последующей" стадией, потому что Непреодолимое прогрессировало от сверхъестественности — которая ближе к существованию — к скрытности врагов, в большей мере удаленной от существования, но намного ближе стоящей к миру. Непреодолимое спустилось с небес судьбы к мирской суете; оно развилось из внеземной демонической сверхсилы в сверхсилу окружающих людей. Тревога относительно сверхъестественности внеземной сверхсилы превратилась в непосредственную очевидность земного зла, в манию преследования.
Ориентация в пространстве. Нашим следующим шагом будет пояснение, с точки зрения ориентации в пространстве, перехода от суеверной формы существования к той, что характеризуется угрозой со стороны мира окружающих людей. Мы снова должны обратиться к экзистенциальному различию между тревогой и страхом. И вновь мы должны вспомнить, что первая стадия ни в коей мере не определялась единственно лишь "страшной" тревогой, а одновременно была и боязнью реальных предметов одежды и отдельных людей. Поэтому предметы одежды в качестве окружающих вещей и носители этих предметов в качестве окружающих людей на второй стадии находятся уже на одном и том же земном уровне как "люди". Проведенное нами различие между временным характером все еще экзистенциальной тревоги и временным характером земного страха в равной мере применимо и к пространственной характеристике.
Мы можем начать с ориентации в пространстве в связи с тревогой. В этом состоянии мир погружается в незначительность. Беспокойное ожидание [besorgendes Gewдrtigen] не находит ничего, что могло бы ему помочь понять себя: "оно простирается в
ничто мира". Это ожидание так ужасно потому, что оно совершенно "непостижимо", ибо по сути оно само представляет собой "Ужасное" (как это ясно видно в случае Лолы), и потому, что в Ужасном уничтожаются [genichtet] как я, так и мир. Тем не менее, даже в случае тревоги должна присутствовать причина этой тревоги. Как мы неоднократно подчеркивали, "причина" тревоги заключается в самом Dasein.
Постоянно спрашивая у судьбы ее мнение, Лола пытается пролить некоторый свет (всегда означающий некоторое пространство) на сверхъестественность своего существования.
По нашему мнению, это демонстрирует борьбу существования за создание пространства даже в ничто тревоги, пространства, в котором оно могло бы свободно передвигаться, свободно дышать и свободно действовать — быть свободным от невыносимой ноши Ужасного. Даже при ответе "нет" пространство все же оказывается открытым благодаря самому этому отрицанию; и хотя это пространство ограничено, связано определенными рамками, тем не менее это — пространство. Поэтому ориентация в пространстве в этом случае несет отпечаток суеверия. С помощью суеверия существование спасает от экзистенциальной тревоги какие только возможно остатки "мира", а следовательно и я. Без опоры на суеверие существование погрузится в ночь чистого ужаса или "с ног до головы" уступит себя миру, как это впоследствии происходит на второй стадии. Третий выход — истинно экзистенциальный — возвращение сознания к подлинному бытию (бытию я) — давно погребен.
Существование уже не может понять призыв: "Назад к я!". Второй выход — уступить себя миру — не противоречит гипотезе о том, что существование в тревоге хватается за ничто мира; ибо, уступая себя миру, существование вообще не хватается за мир и поэтому не находит ничего, через что оно могло бы постичь себя, а придумывает мир для себя. Это означает, что существование уже не проходит в беспокойном ожидании [im besorgenden Gewдrtigen], в анализе вечной мировой ситуации и ее контроле. Теперь оно всецело поглощено только настоящей ситуацией, которая раз и навсегда определяется Ужасным — то есть, ситуацией вездесущей опасности. Оказавшись перед этой постоянной угрозой со стороны приземленного Ужасного и парализованное его превосходящей силой, Dasein фактически уже не находит ничего, через что оно могло бы постичь себя. Когда Dasein уже неспособно понимать мир как опасность, подлинное свободное постижение я также прекращается. Бытие в мире теперь предполагает беспокойство уже не как форму действия, а лишь в смысле самоотре-
шенного воображения опасности (нам не следует забывать, что даже в сновидениях мы намереваемся действовать).
С другой стороны, боязнь опасности также подразумевает облегчение бремени ужасной тревоги для существования, ибо если опасности человек может смотреть в лицо или уклоняться от нее, то в случае тревоги ни то, ни другое невозможно. Именно в этом контексте нас восхищает глубокое толкование Фрейдом тревоги в сновидении: сновидение либо превращает смутную ("свободно-витающую") тревогу в страх перед чем-то, либо тревожное сновидение пробуждает нас, так как существование прежде всего стремится избежать экзистенциальной тревоги. Иллюзии также являются проявлением стремления избежать этой тревоги.
По отношению к "опасности" на первой стадии существование ориентирует себя в пространстве способом, который не сильно отличается от ориентации на второй стадии. "Пространство" открывается и закрывается не только ответами оракула, но и через носителей сверхсилы в непосредственном окружении и мире других, посредством предметов одежды и тех, кто их носит, людей, приносящих несчастье, таких как горбуны или косоглазые, гостиничные служащие, монахини и т.д. Но так как оракул не всегда отрицает, а иногда и подтверждает, то в молодом садовнике мы находим подтверждающего или обещающего удачу представителя судьбы. Подобно оракулу, эти образы соопределяют пространственные измерения и направления, продвигаются вперед и отступают назад в их пределах. Это возможно лишь потому, что в этом случае как таковая ориентация в пространстве является "магической", то есть, она определяется в первую очередь не ситуацией и ее пониманием, а подчинением, капитуляцией существования перед силой, чуждой я. Естественно, даже "мифическое мышление", даже "иллюзорная" интерпертация мира представляют собой форму понимания — все еще являются "Взглядом на Мир" [" Weltansich/"] (В. Гумбольдт). Но оба они представляют собой картины мира (одно — историко-традиционную, другое — чисто индивидуальную) в смысле предопределенности существования, а не подлинного бытия я.
Все сказанное об ориентации в пространстве на первой стадии справедливо и для второй стадии, с одним исключением — место некоторых предметов одежды и людей, их носящих, теперь занимают "люди" в целом. Почти все окружающие люди выступают "говорящими нет"; мы редко слышим исключительное разрешение. "Нет", "Вернись назад", "Остерегайся" уже нельзя распознать по ответу оракула, по одежде или человеку (когда он зара-
жен). Отрицательный ответ стал "повсеместным" или — возвращаясь к образу инъекции — "эндемическим". Широкое распространение губительного Ужасного служит выражением прогрессирующего "расширения" зависимости от мира окружающих людей. Это расширение сопровождается сокращением угрожавшего Dasein Ужасного и его переносом на "Преступников", которые теперь угрожают жизни. Как расширение, так и отступление — это выражения полного подчинения существования Ужасному или, иными словами, полного экзистенциального опустошения.
Исходя из этого, мы находим, что ориентация в пространстве теперь открывает "вот" существования ("цfa" в Dasein) как несоразмерно большее враждебное пространство и несоразмерно меньшее дружественное пространство (последнее все еще вмещает "второго доктора" из первой лечебницы и "сочувствующего" доктора из второй, в дополнение к другим неопознанным лицам)*. Теперь снова может создаться впечатление, что Лола "сократила расстояние между собой и нами". У нас возникает искушение сказать, что Лола ведет себя совершенно как нормальный человек, оказавшийся перед лицом своих врагов, то есть, с подозрением, осторожно, хитро, защищая себя, обвиняя их и т.д.
Причина в том, что она снова кажется действующей "в мире", который нам более понятен, чем страшная боязнь Ужасного. Нам снова "понятны" ее страхи и меры предосторожности. Однако мы склонны забывать, что это "понимание" относится только к реакции Лолы на врагов как таковых, а не к ее тревоге по отношению к миру, управляемому Враждебным! Таким образом, впечатление, что поведение Лолы теперь понятнее, —- обманчиво. На обоих стадиях она, несомненно, не настолько аутична, чтобы не сохранить некоторые формы поведения из ее прежнего мира. Но этим формам поведения не хватает того, что делало бы их понятными в полном смысле слова, а именно: непрерывности я. В результате капитуляции я перед чуждой силой и сопровождающей ее потери я в целом, общая структура бытия-в-мире настолько меняется, что психологическая "эмпатия" становится невозможна, и остается только феноменологическое описание и понимание. Таким образом, экзистенциальный анализ по-прежнему дает возможность строгого научного понимания там, где так называемая эмпатия не оправдывает ожиданий.
Как нам известно из отчета, первый доктор полностью заменил оракула: по поводу своих "да"- или "ист"-решений Лола теперь обращалась только к нему. ("Я ничего не предпринимаю без Вашего совета".) Она подчинялась ему так же, как прежде оракулу.
В том, что касается появления Преступного, мы, к сожалению, слишком мало знаем предысторию нашего случая, чтобы объяснить его с точки зрения биографии. Во всяком случае, тревога Лолы в возрасте двенадцати лет, когда она после заболевания брюшным тифом "усомнилась в своей безопасности" дома, и последовавшее за этим бегство в дом бабушки, по-видимому, были вызваны скорее боязнью грабителей, чем видений, и их происхождение, вероятно, можно проследить до "детских корней". Боязнь "преступлений" в этом случае необходимо рассматривать как результат инфантильной тревоги и, следовательно, как симптом регрессии. Но в данном контексте это нас не интересует. Наше внимание привлекает то обстоятельство, что мир всегда представляется смыкающимся вокруг Лолы. На это указывают не только ее вызывающее поведение и сварливость, но даже в большей мере сообщения о том, что она "всегда" была склонна к одиночеству, любила оставаться в своей закрытой комнате, уединяясь таким образом от теснящего ее мира, и о том, что она часто задумывалась о постриге в монахини. Я упоминал об этом ранее, при обсуждении ее жизненного идеала: быть оставленной в покое, — и идеала безопасности. Поэтому вполне можно предположить, что фундаментальная особенность существования Лолы не отличается от той, что обнаруживается в других случаях. Это особенность, названа Кьеркегором "таинством существования", когда "несвобода становится собственной пленницей". В шизофреническом существовании это явление проявляется намного радикальнее, чем в обычной жизни. Свобода заключается в полном принятии Dasein своей заброшенности как таковой, несвобода — в ее автократическом отрицании и нарушении на основе экстравагантного идеала. При шизофреническом существовании такое прегрешение по отношению к существованию весьма жестоко наказывается. Мы никоим образом не пытаемся "морализировать". Здесь перед нами не моральная вина — которая была бы намного безобиднее — а обусловленная экстравагантностью ущербность существования как такового. Однако экстравагантность — это игнорирование человеком того факта, что не сам он полагает основания своего существования, что он — ограниченное существо, основания которого вне его контроля6.
Материальность "Мира". Когда в конце концов мы задаемся вопросом, в какой стихии или материальном аспекте, в случае Лолы, Dasein материализуется как "мир" [sich weltlicht], то поначалу затрудняемся с ответом, ибо нигде не находим прямого обращения ни к одной из четырех стихий: ни к Воздуху и Воде, ни
к Огню и Земле. Это связано с тем, что наше тесное знакомство с Лолой датируется временем, когда она уже оказалась отрезана от всего "природного" существования — когда она была почти "потухшим кратером". Такое выражение, напрашивающееся в подобных случаях, может указать направление, в котором следует искать ответ на наш вопрос. Если существование создает у нас впечатление потухшего кратера, то это подразумевает, что огонь жизни, пыл жизни и даже тепло жизни покинули его. Это существование, превратившееся в "пепел" и "землю" [verascht und ve-rerdey] — в смысле мертвой земли! В случае Эллен Вест мы все еще можем проследить этот процесс превращения в землю шаг за шагом... от легкой, яркой и сверкающей области к растительному разложению, а затем к болоту и отброшенной шелухе. В лице Лолы мы видим почти конечный продукт этого процесса, хотя под пеплом еще тлеет несколько искорок (любви, доверия).
Если далее мы зададимся вопросом, на что израсходовали себя экзистенциальный огонь, экзистенциальное тепло, то должны будем ответить — как в случае Эллен Вест и Юрга Цюнда: на экзистенциальную тревогу. Именно экзистенциальная тревога высосала из этого существования его "внутреннее тепло" (la cha-leur intime)1, которое мобилизовало все свои ресурсы на борьбу с тревогой. Она превратила существование в мучение и вынудила его отгородиться от тревоги любой ценой, даже ценой жизни.
Это означает, что экзистенциальная тревога отрезала существование от его глубочайших корней, от его первоначальной "свободной" тональности (в экзистенциальном смысле слова, от способности настраиваться). В этом случае существование загнано в постоянную несвободную тональность тревоги и ее продукта — земного страха. Вместе с этим существование начинает свой путь к смерти (как мы ясно видели в случае Эллен Вест). Экзистенциальная тревога свидетельствует не о жизненном огне и тепле, а о противоположном — холодящем и губительном — принципе смерти. В этой мере, и только в этой мере, можно по праву говорить, что любая тревога — это тревога по поводу смерти. Во всех наших случаях Ужасное, невыносимое, несомненно, является смертью; но не "исходящей извне" смертью, не разрушением жизни, а "прекращением" [Nichtigung] существования в неприкрытом ужасе. Рассматриваемое в этом аспекте последующее приземление экзистенциальной тревоги — боязни умерщвления, наблюдающейся в маниях преследования — фактически является "облегчением" для существования. Мы должны признать, что Лолины описания "преследования" уже не вызывают
у нас впечатления чего-то невыносимо ужасного, в чьей власти в ужасе оказалось существование, а представляют, скорее, угрозу со стороны мира (окружающих людей), которой можно избежать с помощью земных средств, таких как меры предосторожности, хитрость, обвинения и т.п. Суеверные действия и пространственное избавление от одежды, несомненно, также служат земными защитными мерами, но мерами, заметьте, направленными не на борьбу с врагом (то есть, с миром окружающих людей), а на уклонение от экзистенциальной тревоги! Таким образом, перед нами снова специфический диалектический процесс, превращающий невыносимую тревогу прекращения существования в более или менее терпимый страх по поводу угрозы жизни.
Именно это облегчение перенесения тревоги создает впечатление "выздоровления", хотя с биологической точки зрения на здоровье и болезнь оно, напротив, должно пониматься как развитие "болезни". То, что для страдающего пациента означает облегчение его страданий в существовании и от него, в медико-биологическом плане, в том, что касается заболевания, на самом деле означает увеличение страданий совершенно иного рода.
Состояние вьгжженности, потеря "chaleur intime" помогает нам понять способ и средства, с помощью которых Лола пытается постичь намерения судьбы и своих врагов. Если Башляр прав, утверждая, что "le besoin de penetrer, d'aller д l'interieur des choses д l'interieur des entres" * является "seduction de l'intuition de la chaleur intime"**, тогда в случае Лолы это искушение уже не "симпатическое" явление, уже не явление "de la Sympathie thermique"***, а явление, отгораживающее и защитное, и поэтому практическое****. Постижение "замыслов" судьбы и "других" уже происходит не посредством симпатии и антипатии, а с помощью рационально интерпретируемых знаков. Поэтому это уже не "ощущение", а, выражаясь собственными словами Лолы, "толкование". Компульсивность толковать все вещи (и людей) по-своему — уже не искушение интуиции de la chaleur intime, а искушение, мотивируемое страхом, или, если точнее, питаемой тревогой компульсивностью суеверно разгадывать и интерпретировать любой ценой.
* Необходимость проникновения, вхождения вглубь вещей, вглубь бытийноетей
(фр.). — Прим. ред.
** Соблазн интуиции [идущей] от внутреннего тепла (фр.). — Прим. ред. *** [Явление] "тепловой симпатии" (фр.). — Прим. ред. ****В противоположность случаю Лолы, в не так далеко чашедшем и очень остром
случае Эльзы это "желание постичь" все еще было проявлением заботы.
Клинический анализ психопатологии
Так как имеющегося в нашем распоряжении материала недостаточно для психоанализа случая, наш отчет мы продолжим клиническим психопатологическим анализом. Мы можем, однако, обратить внимание на тот факт, что в пубертатный период Лола вела себя как мальчик и утверждала, что она мальчик. Если связать это с несомненным преобладанием (негативного) комплекса матери, с "возведением" симпатичной медсестры в ранг фактического носителя несчастья и с боязнью горбуний и монахинь, то можно предположить наличие (подавленного) гомоэротичес-кого компонента в Лолиной сексуальности. В связи с этим следовало бы сделать вывод — в соответствии с теорией паранойи Фрейда — что последующие враги Лолы тоже будут женского пола. Однако эта гипотеза не подтверждается данными. Кроме того, Лола, несомненно, проявляет некоторые нормальные, гетеросексуальные склонности; создается впечатление, что она искренне любила своего жениха; присутствие молодого садовника предвещает, по ее мнению, удачливую перспективу путешествия; ей, по всей вероятности, нравятся балы и танцы. Ее нарциссизм явно проявляется в непослушании, упрямстве, вызывающем поведении и сварливости, а позднее в склонности оставаться одной и закрываться. Нам известно лишь одно ее сновидение — о медсестре, которая ложится на кровать, посланную бабушкой Лолы, а также на кровать Лолы, и о ее боязни, что бабушке тоже придется лечь на одну из этих кроватей. Кроме того, особенная любовь Лолы к бабушке выражается бегством в ее дом после брюшного тифа в детские годы. Но этих скудных упоминаний совершенно недостаточно для психоанализа суеверия Лолы и ее мании преследования.
Психопатологический интерес представляет некоторая информация, касающаяся детства Лолы. Мы помним, что она была "исключительно избалованным" ребенком, ни с кем, кроме себя, не считалась и, подобно Юргу Цюнду, обычно искала и находила защиту у других. Поэтому говорить о каком-либо дисциплинирующем воспитании [Erziehung] мы не можем. С точки зрения подготовки к совершеннолетию [im pдdagogischen sinne] Лолу можно назвать "упущенной". В том, что касается возможности "внутренней поддержки", она ничего не знала и ничему не научилась. Ей было известно лишь о внешних убежищах и защите. Как мы видели, эта тенденция пронизывала всю ее жизнь и занимала
ведущее место в ее болезни. Еще будучи ребенком, в психическом отношении Лола уже "не была нормально развита". Причиной этому служили как ее характер, так и воспитание. Ее умственные способности, по-видимому, были ниже средних. Во всяком случае, во всем отчете нет никаких свидетельств хорошо развитого интеллекта.
Недостаточность внутренней поддержки усилилась после серьезной болезни (брюшного тифа) на двенадцатом году ее жизни и переросла в тревожное ощущение опасности в собственном доме. Так как мы не находим никакого упоминания о боязни привидений, то ощущение "опасности пребывания" дома можно рассматривать как страх перед грабителями, происхождение которого, в свою очередь, можно проследить до беспокойства в отношении мастурбации. С другой стороны, такой страх можно объяснить и "постинфекционной слабостью нервной системы". Это может склонить нас к предположению, что возникшая в таком состоянии тревога патопластически повлияла на последующий психоз и в значительной степени определила его "содержание". Но я не разделяю этого мнения. Напротив, я считаю, что постинфекционная слабость просто предоставила ощущению "небезопасности", присущему складу характера, благоприятную возможность вырваться наружу и вырасти в острую тревогу; и что именно характером Лолы, вероятно, усугубленным отсутствием морального воспитания, можно объяснить ее первое тревожное ощущение опасности, а также ее последующую боязнь судьбы и врагов. Так как эта полиморфная форма шизофрении обычно появляется в раннем возрасте, то мы по праву можем интерпретировать это первое появление тревоги как ранний симптом зарождающегося шизофренического процесса.
Когда на тринадцатом году жизни Лола находилась в немецком пансионате, то, согласно отчету, она вела себя по-мальчишески, деспотично, агрессивно и сварливо. Однако в непосредственно следующие за этим годы внешне она была довольно неприметной, наслаждалась жизнью и любила танцевать; одновременно она проявляла склонность к одиночеству и предпочитала закрываться в своей комнате. Это могло совпасть с началом ее болезненного суеверия, которое, по ее собственному утверждению, появилось в возрасте между семнадцатью и девятнадцатью годами. Все это должно возрождать подозрение о начинающемся шизофреническом процессе. Действительно, вызывающую позицию Лолы в отношении отца по причине его неодобрения ее помолвки, ее частые посты, безрадостность, депрессию и угрозу пост-
ричься в монахини можно рассматривать и как чисто "психогенную" реакцию шизоидного психопата; но все эти симптомы скорее усиливают указание на зарождающуюся шизофрению.
Подходя в истории болезни Лолы к двадцать второму году ее жизни, мы впервые слышим об ее необычном поведении относительно одежды, — видимо, ее собственной: она отказывается подниматься на борт корабля, если из багажа не уберут определенное платье. Здесь она снова добивается своего. Из отчета нам известно, что во время посещения Германии, где она встречалась со своим женихом, Лола немногим более обычного интересуется одеждой и становится открытее. Но из ее собственных сообщений мы знаем, что уже в то время ее "очень сильно" мучили навязчивые идеи. И только на следующий год — двадцать третий год ее жизни — болезнь Лолы была замечена окружающими. После того, как ее жених отсрочил их бракосочетание, она "пала духом, стала меланхоличной и особенно суеверной". В связи с этим нет никакого сомнения, что Лолин так называемый "невроз компульсивности" был уже полностью сформированным в ее двадцать два года, возможно, даже ранее, и только намного позднее он был замечен ее родственниками (исключая тот случай, когда она отказывалась отправиться за границу с определенными предметами одежды). Таким образом, то, что "невроз компульсивности" явился дальнейшим проявлением шизофренического процесса, — уже не подозрение, а твердое научное убеждение... Теперь ее "антипатия" к матери принимает такие болезненные формы, что Лола считает заколдованным все, исходящее от нее; предметы, получаемые от матери, она прячет, раздает, "теряет" или продает на улице, упакованными в небольшие свертки. Опыт говорит нам, что такое поведение выходит за рамки симптомов, проявляющихся при простом неврозе компульсивности.
СУЕВЕРНАЯ СТАДИЯ: "КОМПУЛЬСИВНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ" И "ФОБИЯ ОДЕЖДЫ". Уже на этой стадии мы можем наблюдать, хотя только однажды, определенно бредовую перцепцию. Пребывая в смятении, когда возникла ее тревога по поводу симпатичной медсестры, Лола почувствовала, что за ней наблюдают два человека: "Я лежала внизу в шезлонге и увидела две фигуры, наблюдавшие за мной из коридора; когда я повернулась к ним, они убежали, поэтому я осталась внизу; но это было очень жутко".
К этому мы должны добавить Лолину боязнь гипнотического воздействия. Хотя "мания гипнотического преследования" еще не присутствует, тем не менее, в ее боязни быть загипнотизиро-
ванной, в ее требованиях "не смотреть на нее таким образом" и торжественного обещания не гипнотизировать ее — мы уже видим выражение "ощущений гипнотического воздействия".
Но присутствовали и другие симптомы шизофрении, которые можно было наблюдать в лечебном заведении. Поначалу Лола оставляла впечатление жесткого и равнодушного человека, небрежного и безразличного во всех отношениях, очень скрытного, мстительного, уязвимого и подозрительного, исключительно упрямого и даже склонного к негативизму, не находящего никакого интереса или удовольствия в работе и отстающего в своем умственном развитии. Мы должны добавить сюда ее непредсказуемое поведение и решения, ее непостоянство и ипохондрическую реакцию на лечение. Кроме того, мы должны принять во внимание ее внезапный переход — в течение одного дня — от явной боязни гипноза к страстному желанию быть загипнотизированной; такая поразительная амбивалентность, прибавленная к другим симптомам неуравновешенности, позволяет нам говорить о диссоциации личности в шизофреническом контексте.
То, что картина несколько меняется, когда Лола находит приемлемого для себя врача, не должно удивлять нас. Лола все еще эмоционально восприимчива, и ее потребность в поддержке и руководстве ни в коей мере не исчезает. Теперь она становится более управляемой, намного более открытой и даже доверчивой, что дает возможность глубже понять ее психическую жизнь. В результате общее впечатление о личности пациентки определенно меняется на более благоприятное, особенно в связи с тем, что теперь явно видно, как сильно она страдает.
Возвращаясь к "компульсивным явлениям" Лолы, мы снова должны проводить различие между "компульсивным толкованием" (компульсивным опрашиванием судьбы) и компульсивным "наложением табу" со стороны ее окружения и мира других людей. Насколько тесно одно и другое взаимосвязаны, мы уже показывали. Здесь возникает следующая психопатологическая проблема: имеем ли мы здесь дело с подлинными компульсивными идеями, как при неврозе компульсивности, или эти идеи уже маниакальные? Сам по себе диагноз шизофрении не обязательно представляет решение, так как в ходе шизофрении мы часто наблюдаем настоящие фобии, компульсивные идеи и компульсив-ные действия (из личного опыта мне известно, что чаще всего они состоят из боязни микробов и компульсивного мытья). Поэтому в каждом случае смешанной шизофрении мы должны точно выяснить, действительно ли перед нами подлинные и чистые
симптомы невроза компульсивности, основанного на механизме замещения, или просто анормальные психические явления, которые навязывают себя пациенту помимо его воли, ощущаются и оцениваются им как "принуждение". Мы знаем, что едва ли существует психопатологический симптом, который не называли бы "компульсивным"8. В нашем случае мы должны задать вопрос: являются ли Лолины "компульсивно-суеверные" идеи и действия принуждениями вообще или они уже означают мании. Предположим, мы все же хотим вести речь о компульсивных идеях. В этом случае перед нами все равно стоит альтернатива, заключающаяся в том, что эти идеи могут быть намного ближе к мании, чем к компульсивности (Кречмер советовал тщательнее искать различия между компульсивностью и манией, чем между манией и манией). Здесь мы снова встречаемся с широко обсуждавшейся, но, по моему мнению, весьма нечетко сформулированной проблемой: могут ли маниакальные идеи брать начало от компульсивных идей? Я считаю, что следует выяснить, не являются ли компульсивность и мания всего лишь различными стадиями или периодами одного и того же антропологического "изменения формы" [Gestaltwandel], и если да, то в какой мере. На этот вопрос психопатология пока еще не ответила. Ее в первую очередь интересует строгое разграничение между компульсивностью и манией как психопатологическими симптомами. Основным критерием этого разграничения, начиная с Вестфаля, служило понимание или отсутствие понимания бессмысленной и чуждой эго особенности болезненного события. С симптоматической точки зрения, этот критерий обоснован, хотя такое понимание зачастую неустойчиво, и поэтому данный критерий часто неприменим для какого-то конкретного случая. Но вопрос в том, может ли психопатология удовлетвориться этой описательной психопатологической точкой зрения и ее чисто "функциональной" интерпретацией, которая всегда будет определять направление клинического и, в особенности, судебного суждения. Не должна ли психопатология в чисто исследовательских интересах руководствоваться другими, более глубокими перспективами? Придерживаясь последней точки зрения, мы верим, что психопатология посредством антропологического изучения и исследования действительно может прийти к "более глубоким" перспективам.
*'Компульсивность толкования". Как мы видели, Лола воспринимает свое "толкование" как "необходимость", как компульсивность и, как все настоящие компульсивные невротики, чув-
ствует ужасную невыносимую тревогу, если не может уступить этой компульсивности. Но в противоположность компульсивно-му невротику, Лола не только повинуется компульсивному импульсу в мышлении, ощущении или действии (как, например, импульсу повторять, продумывать все до самого конца, считать, мыться, уничтожать, проклинать, молиться и т.п.), но, кроме этого, уступает "бессмысленной" компульсивности добиваться разумного ответа от "вещей". Таким образом, "чтение" и толкование, воспринимаемые ею как навязываемое, чуждое эго "долженствование", имеют результатом решение, наделенное смыслом для ее личности, от которого зависят ее благополучие и счастье, в то время как при подлинной компульсивности благополучие и счастье зависят только от повиновения бессмысленному компульсивному требованию как таковому, которому необходимо следовать постоянно или в определенные периоды времени. Отсюда смысл подлинной компульсивности, если рассматривать ее чисто описательно, заключается в выполнении действия, которое почти или полностью лишено смысла — совершенно независимо от того, какой "смысл" может найти в этом действии или за ним психоанализ. В нашем случае смысл чистой компульсивности совершенно независимо от действия заключается в избегании тревоги, возникающей, как только игнорируется действие (толкование также является действием).
Долина компульсивность "толкования", несомненно, также относится к этому типу избегания тревоги, но, в дополнение к этому, она имеет вполне определенную задачу прочтения "да" или "нет" по вещам, особенно по словам и названиям, обозначающим вещи, совпадающие в пространственно-временном отношении. В этом случае фактически мы можем говорить о "обязательности извлекать смысл" [Sinnentname]9. Вещи теперь функционируют не согласно их собственному "объективному" значению, а исключительно для выражения "высшего" значения, определяющего судьбу. Имеем ли мы здесь дело все еще с ком-пульсивностью или уже с манией? По моему мнению, — и с тем, и с другим: с компульсивностью постольку, поскольку толкование навязывается как чуждое эго "долженствование"; с манией постольку, поскольку она основывается на уже не чуждой эго, иллюзорной идее о том, что "судьба" вещает через предметы и предоставляет побудительные намеки в отношении будущего поведения "толкователя". На это можно возразить, что всякое суеверие основывается на такой "иллюзорной идее", не заслуживая при этом названия "мания". Но здесь мы имеем дело (как под-
черкивают большинство исследователей, начиная с Westphal и включая Блейлера) с градационными оттенками психических структур; кроме того, Долину компульсивность толкования следует назвать манией даже по одной той причине, что она непоколебимо "верила" не только во "всемогущество судьбы", но и в каждое из своих толкования и приписывала им характер реальности. Мы можем добавить, что ее система опрашивания и толкования как таковая представляет собой логически мотивируемую "иллюзорную систему". Тот факт, что ее "логическая мотивировка" крайне скудна и поверхностна, даже нелепа, скорее подкрепляет наше мнение, чем противоречит ему.
Мы, разумеется, ожидаем появления крайне бессмысленных действий при подлинных неврозах компульсивности; но здесь бессмысленность признается как таковая пациентом, тогда как Лола солидаризируется с бессмысленностью, и это указывает на то, что она воспринимает и понимает ее как нечто, имеющее смысл!
Поэтому мы должны понимать, что знаки, по которым она читает намерения судьбы, интерпретируются таким же иллюзорным образом, как и знаки, по которым она "читает" намерения "врагов". В обоих случаях она "проецирует" (как бы назвали это в психопатологии — но, несомненно, не феноменологически, а чисто теоретически) на предметы и людей "нечто" такое, "чего в них совсем нет". Однако мы должны пока оставить без внимания эту общую черту, ибо толкование по предметам до некоторой степени все еще воспринимается как компульсивное, в противоположность "толкованию" по людям; кроме того, толкование по предметам требует особой системы интерпретации, в то время как толкование по людям представляется независящим от какой-либо искусственной системы интерпретации и ориентируется только на естественные человеческие способы выражения. Что нам дает антропологический анализ нашего случая, и особенно сопоставление двух стадий, — это осознание того, что за толкованием по выражению лица, словам и другим "знакам людей" должна стоять искусственная, самостоятельно разработанная система интерпретации, которую сам толкователь уже не осознает. Простой констатацией "иллюзорного толкования" ничего не достигается. (Мы вернемся к этому моменту при обсуждении Долиной мании преследования.)
В связи с отсутствием каких-либо данных относительно Долиной внутренней истории жизни, вопрос о том, до какой степени опрашивание судьбы служит выражением "инфантильной per-
рессии", должен оставаться без ответа. Однако я хочу указать на возможность того, что Лолин поиск и нахождение защиты, особенно со стороны ее бабушки, могут быть связаны аналогичным отношением к "личности", которую она видела в судьбе. Эти поиск и нахождение защиты периода детства, несомненно, развились в компульсивность "толкования", что дополнительно подтверждает наше мнение об ее инфантильном характере.
"Фобия одежды". Если "ответы" судьбы обладали некоторыми чертами запрета, то в отношении определенных предметов одежды и людей, их носивших, а также других предметов, упоминавшихся Лолой, эти черты стали намного более выраженными. Здесь снова возникает вопрос: Фобия это или Мания?
То, что поведение Лолы в этой области отличается фобическими симптомами, почти не требует доказательств, но ее фобия одежды выходит за рамки психопатологического содержания фобии чисто компульсивного невротического типа. На это указывает очень тесная связь между фобией и иллюзорной системой чтения и интерпретации знаков, а также тот факт, что сама эта фобия ощущается уже не как чуждая эго, а как гармонирующая с ним.
Лола воспринимает свои фобические симптомы не как чуждое ее личности "долженствование", а как нечто, полное значения, то есть, опять же, как нечто "судьбоносное" в прежнем смысле слова. Здесь также решающим фактором служит иллюзорное ощущение нахождения во власти непреодолимой силы судьбы. Действительно, для Лолы судьба обнаруживает себя не только через посредников вербальных оракулов, но и в материальной форме. Мы обнаружили достаточно чисто экзистенциальных оснований того, почему предметы одежды явились основными объектами, посредством которых судьба проявляла себя, но нам недостает индивидуальных биографических "пояснительных" причин этого явления.
Так как воля судьбы выражается в материальной форме одежды и других утилитарных предметов, последующие защитные меры также являются чисто "материальными". Они заключаются в удалении "зараженного" материала. Это удаление "роковых или обремененных запретом" предметов одежды радикально выражает основную схему Лолиной борьбы с судьбой: отвергая, выбрасывая, отдавая, продавая и разрезая эти предметы одежды, она, насколько это возможно, отвращает свою судьбу. Как мы знаем, "ее" судьба заключается в погружении в тревогу неприкрытого ужаса, от которой ее фактически освобождает — если мы примем во внимание степень ее субъективного страдания — ее мания
преследования. Здесь "фобия" выражает боязнь полного порабощения непреодолимой силой этой судьбы и, в связи с этим", "отрицания" существования в целом. Поэтому то, что фобия не ощущается и не оценивается как чуждая личности — не единственный ее иллюзорный компонент; другим является закоренелое иллюзорное убеждение в том, что судьба обнаруживает себя в материальных формах.
К сожалению, нам также недостает материала, который пролил бы свет на психопатологический генезис этих иллюзий. Мы не знаем, в какой мере сыграли свою роль анормальные соматические ощущения или даже соматические галлюцинации, или ощущения пребывания под чьим-то влиянием (но это не сказывается на нашем чисто антропологическом понимании случая, так как изменение антропологической структуры следует понимать как предшествующее по отношению к путям и способам последующих форм его выражения). Однако из истории болезни другой пациентки (Розы) мы знаем, что надевание и снятие одежды оказалось связано с иллюзиями того, что она психически или сексуально разоблачается, опустошается, лишается и открывается, а психическое давление и "тяжесть на сердце" отождествлялись с давлением и весом одежды на теле. На немецком словесная аналогия несомненна: "ausgezogen...", "entzogen...", "seelisch ausgezogen... "и т.д. Конечно же, пациентка не обязательно должна осознавать существование такой аналогии, так как за нее "думает" язык. Со времен Лютера в Германии вошло в обиход выражение "сбросить ветхого Адама", так говорили о том, что должен сделать человек, чтобы стать "новым человеком". С другой стороны, в памяти возникают идиомы типа: "менять свои убеждения, как перчатки". Концепции о внешнем одеянии как символе внутреннего человека — предложенной Карлейлем в Sartor Resartus — здесь недостаточно. Необходима демонстрация общего основания возможного совпадения ("символ" берет свое начало от symballesthai: брошенные вместе) предполагаемого объекта и используемого слова. Именно это общее основание допускает взаимозаменяемость. Дополнительным фактором, конечно же, служит тесная близость одежды и ее носителя, как в его собственном мире, так и в глазах окружающих (то есть, "Одежда делает человека")*.
* Как ни странно, "одежда" редко принималась во внимание в психопатологии. См.: R.Kuhn, "Ьber Kleider", Die Irrenpflege, 21. Jahrgang, Bd. 8 (1941); R.Kuhn, Ober Maskendeutungen im Rorschach'sehen Versuch, 1944, S. 71-74.
В случае Розы, о котором мы только что упоминали, содержание словесной метафоры, что так часто бывает при шизофрении, становится абсолютным, то есть отделяется от обоюдно взаимосвязанных звеньев сравнения. В связи с этим уже не существует никакого различия между психической оголенностью или прикрытием и снятием и надеванием одежды; между психическим давлением и тяжестью на душе и давлением и весом одежды на теле. Это явление связано с одновременностью видения и ощущения и с устранением границ личности (то есть, с растеканием мыслей). Когда эта пациентка видит, как другие делают то или это, она ощущает это на своих волосах, на своей руки и на своей одежде. Она особенно подвержена давлению во время шитья. Одежда "принадлежит", подобно ее душе и телу, и ей самой, и другим, и наоборот. Надевая одежду, она окутывает себя вульгарностью, а, избавляясь от нее, — добром, до тех пор, пока в конце концов сама одежда не персонифицируется и не превращается во врага, грозящего покинуть чемодан и начать мучить ее. Смена одежды отождествляется с переменой личности.
К сожалению, нам ничего не известно о последней стадии психоза Лолы. Но даже в том, что имеем, мы можем видеть аналогии, хотя в иллюзиях Лолы предметы одежды не персонифицировались, и враги действовали во многом подобно реальным людям. Случай Розы более впечатляюще демонстрирует перенос бреда отношения и посягательства на одежду, что может вызвать подозрение, что в Лолиной фобии одежды бред отношения и посягательства играл более заметную роль, чем это представлено в отчете. То, что подобные "идеи" уже существовали в период фобии одежды, установлено определенно. Поэтому фобию Лолы во многих отношениях можно рассматривать как прелюдию к мании "одежды" — лишь как прелюдию, ибо она сама (то есть, как я) пока еще не позволяет одежде "добраться до нее", а все еще "снимает ее", "разделывается с ней...", тогда как Роза фактически ощущает, что сама одежда одевает или раздевает ее.
Но мы не должны забывать, что наблюдаемое здесь нами — это лишь различные степени "вторичного развития" тревоги. Поэтому "причина" тревоги в обоих случаях по своему существу одна и та же, а именно: Угрожающее, Причиняющее Вред, Враждебное, использующее в случае Лолы предметы одежды только в качестве носителей, посредством которых оно проявляется, тогда как для Розы предметы одежды сами являются Угрожающим, Причиняющим Вред, Враждебным. Эти две позиции указывают нам только на различия в степени возможностей предотвращения
угрозы. Для Лолы угроза все еще может быть предотвращена избавлением от предметов одежды или избеганием людей, которые их носят. Для другой пациентки, Розы, это может быть сделано только посредством отгораживающей стены или оскорбления. Ужасная Лолина боязнь медсестры Эмми и других владельцев предметов одежды образует связующее звено между двумя случаями. Действительно, Лола все еще разграничивает предмет одежды и его владельца; но этот человек уже становится врагом и, хотя и не откровенным убийцей, но тем не менее врагом как носителем всего злонамеренного и ужасного. Пока мотивировка враждебности определяется только эмоционально, а не логически; но в обоих случаях мотивировка непоколебима и недосягаема для логических контраргументов. Единственное остающееся различие состоит в том, что Лола, в противоположность другой пациентке, все еще понимает нас в наших попытках изменить ее представления. И хотя это понимание не спасает ее от маниакальной боязни Ужасного, тем не менее оно, до некоторой степени, поддерживает контакт между ней и "нами", тогда как в другом случае он полностью разорван.
Все это подводит к заключению о том, что Лолина фобия одежды, хотя и фобическая по своему характер, тесно связана с иллюзиями. Это служит еще одним подтверждением часто наблюдаемого факта, что смешанная форма шизофрении характеризуется двусмысленностью своих психопатологических симптомов.
МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. Появление мании преследования отмечает завершение смешанной формы шизофрении и ее переход в параноидный синдром. Сцена, пронизанная компуль-сивными и полуфобическими симтомами, амбивалентностью, иллюзорными перцепциями и ощущениями гипнотического воздействия, превращается в картину, где господствует мания.
Уже на суеверной стадии мы наблюдаем различные маниакальные компоненты:
1. Обособленное иллюзорное ощущение слежки, предтеча того, что позднее Лола назвала beneugiert, наблюдением, подсматриванием за ней и подслушиванием.
2. Ощущение, что ее гипнотизируют: ("Вы хотите меня загипнотизировать, не смотрите на меня так!"). Это уже может рассматриваться как маниакальный страх постороннего воздействия.
3. Иллюзорный компонент в "компулъсиновности толкования": попытка узнать намерения судьбы с помощью самостоятельно разработанной системы вербальных символов и безоговорочное
подчинение этим "приметам". Здесь компульсивность уже чисто вспомогательная. "Компульсивность" спрашивать судьбу постоянно защищает Лолу от прорыва Сверхъестественно-Ужасного, но пока еще не представляет его трансформацию в скрытность врагов — манию преследования. Императив необходимости "прочитать" выступает кнутом, движущим Лолу вперед таким образом, который позволяет ей избежать Ужасного, угрожающего всему ее существованию.
4. Иллюзорный компонент в фобии одежды: он признается тождественным таковому компульсивности "толкования". Его можно было бы назвать разновидностью мании преследования, если бы это выражение не предназначалось для обозначения иллюзий преследования со стороны окружающих людей. Лола фактически ощущает, что ее преследует Ужасное, которое всегда и везде следует за ней по пятам, которое угрожает ей и прячется рядом. Она пребывает в настроении, очень удачно названном Джаспером "иллюзорным настроением, которое не следует путать с психастеническими настроениями и ощущениями. В иллюзорном настроении всегда есть "нечто", имеющее в себе зерна объективной действительности и значимости, какими бы неопределенными они ни были. Общее иллюзорное настроение не имеющее определенного содержания, должно быть совершенно невыно симым"1 °.
Таким образом, фобия одежды также помогает нам понять не только то, что иллюзии не "берут свое начало" в фобии, как они не "берут свое начало" и в компульсивности "толкования", но и то, что фобия уже является выражением иллюзорного настроения, "состояния настроенности" [Gestimmtheit] "невыносимым" Ужасным. Случай Лолы демонстрирует существование фобий и компульсивных идей, основывающихся на иллюзиях, на иллюзорном настроении.
Джаспер соглашается с Хагеном, утверждающим, что здесь в пациенте возникает "ощущение отсутствия опоры и неуверенности, которое с силой инстинкта гонит его на поиск чего-нибудь стабильного, за что можно было бы ухватиться и держаться"; и что "он может достичь этого и найти утешение только в идее, почти точно так же, как здоровый человек при аналогичных обстоятельствах". Однако такое объяснение процесса включает настолько разнородные элементы, что требует более подробного рассмотрения. Аналогия со здоровым человеком не представляется обоснованной. Действительно, в печали или отчаянии здоровый человек точно так же может искать определенную идею и
хвататься за нее с целью найти какую-либо стабильную опору. Но если такое описание справедливо для происходящего с не настолько серьезно больными пациентами, то для случая Лолы оно не подходит. Рассматривая генезис иллюзий преследования, мы должны быть особенно осторожны в принятии этого объяснения в том, что касается феноменологических фактов. Оно верно лишь теоретически, если мы сосредоточимся на результате: в своих иллюзиях преследования Лола страдала не так сильно, как на суеверной стадии. Но она не порождает эти иллюзии "сама" и не воспринимает их как "достижение своей цели, укрепление или утешение". Здесь мы размышляем строго с точки зрения "нормальной психологии". Как показал экзистенциальный анализ, в случае Лолы более или менее "активное" решение я искать опору заменяется приземлением существования, которое идет своим собственным курсом и следует своим собственным нормам. Мы не должны вменять я нечто такое, что в своих иллюзиях оно уже не может выполнить! Ожидать от я, чтобы оно все еще принимало решения или, по меньшей мере, оказывало какую-то помощь, противоречит антропологическому явлению иллюзии как таковому, ибо там, где есть иллюзия, никакого подлинного я уже быть не может. Говорить об "иллюзорном я" было бы противоречием in adjecto*.
То, что Хаген утверждает, как бы неопределенно это ни было, что ощущение "гонит пациента с силой инстинкта" (что, во всяком случае, предполагает отсутствие участия со стороны я), само по себе демонстрирует, до какой степени нам все еще не хватает в психопатологии твердых фундаментальных концепций и базисных предпосылок. За неудачу психопатологии в области иллюзий ответственны, главным образом, два подхода. Либо предпринималась часто подвергавшаяся критике попытка понять и объяснить иллюзии с точки зрения нормальной психологии, либо они объявлялись научно "необъяснимыми" и рассматривались как непостижимая загадка, которую в лучшем случае можно объяснить с точки зрения церебральной патологии.
По моему мнению, изучение историй болезни в ключе аналитики Dasein, по меньшей мере, продемонстрировало наличие пути к научному пониманию иллюзий (которое не следует путать с эмпатическим и психологическим пониманием), и что это — путь феноменологического антропологического исследования.
Как уже было здесь показано, мы можем приблизиться к научному пониманию иллюзий, только если осознаем, что имеем
* В определении (лат.). —Прим. ред.
дело с определенной формой экзистенциального лишения правомочий [Entmachtigung] или, используя синоним, с определенной формой приземления. Мы намеренно говорим "определенной формой"! Поэтому наша задача заключается в том, чтобы продемонстрировать и точно описать каждую стадию этого процесса лишения полномочий, учитывая все возможные звенья в структуре существования или бытия в мире.
В предыдущей главе я показал, что иллюзии, как и подлинные фобии, можно понять только с точки зрения экзистенциальной тревоги (и никоим образом не посредством "аффекта тревоги"). Теперь "мир" означает не совокупность условий, с которыми без усилий справляется существование, а обстоятельство, четко определяемое бытием как пугающее, обстоятельство враждебности, чего-то раз и навсегда враждебного или угрожающего. Это система мира, в которой больше нет места любви и доверию или близости к людям и вещам, вытекающей из этих чувств*.
АУТИЗМ И ТРЕВОГА/ "Аутизм" — как подчеркивалось в предшествующих работах — это не "пассивная настроенность" и не настроение, и поэтому он не должен интерпретироваться в экзистенциальном анализе подобным образом. Случай Лолы подтверждает эту точку зрения. Нам стоит только вспомнить, что мы говорили об отсутствии материальности или плотности в ее системе мира. Там, где "мир" больше уже не обнаруживает материального облачения, где "огонь жизни" потух и осталась только "зола", там ломается или совсем исчезает "ключ" [Gestimmt-heit] существования, его "способность настраиваться". Мы описывали Лолу как "потухший кратер", то есть как человека, у которого почти все свободно развивающиеся, непосредственные ощущения подавлены. Вместо этого существование подавляется, даже поглощается (испепеляется) тревогой. Но эта тревога (как я неоднократно подчеркивал) в своей основе является не ощущением или аффектом, а выражением экзистенциальной тревоги, то есть, опустошения существования и его прогрессирующей утраты "мира". Утрата мира, конечно же, сопровождается утратой я. Там, где существование уже не в состоянии свободно планировать мир, оно также претерпевает потерю я. Это ясно осознавал
* Настоящая статья была закончена в 1945 г. В 1946 г. была опубликована работа Силази "Macht iMid Ohnmacht des Geistes (Francke, Bern), где автор, следуя интерпретации Платонова Филеба, с непревзойденной выразительностью и ясностью указывает на существенное единство тревоги и доверия как "первоначальной трансцендентальной силы..."
и изложил Шопенгауэр. Он первым упомянул о возможности "нашего осознания себя через самих себя, независимо от объектов познания и желания", хотя впоследствии он добавляет: "Но, увы, мы не можем сделать этого, и как только пытаемся это сделать и направляем наше познание внутрь для полного созерцания, то теряемся в безграничном вакууме и становимся похожими на полую стеклянную сферу со звучащим из ее пустоты голосом, голосом, источник которого нельзя обнаружить внутри; и, пытаясь таким образом понять себя, мы, содрогаясь, хватаемся не за что иное, как за лишенное содержания видение"*.
Возможно, это (психологическое) представление взаимосвязи мира и я может яснее показать психопатологу, что мы имеем в виду, чем представление в ключе аналитики Dasein. Говоря о "потухшем кратере", мы говорим о потерях как в существовании, так и в мире, даже если их можно проследить до одного корня. "Причина" тревоги и содрогания, о котором говорит Шопенгауэр, "причина" неприкрытого ужаса, как мы его называем, — это не предмет и не враг, а призрачность или "бессодержательность" [Bestandlosigkeit] существования (лишенного "мира") как такового. В результате, с точки зрения экзистенциального анализа, мы говорим уже не о настроении или аффекте (как в случае страха), а о потере мира и я.
Поэтому, говоря об аутизме, мы в первую очередь должны думать об экзистенциальном анализе и о потерях мира и я (или, по крайней мере, о сокращении потенциальных возможностей мира и я); и мы должны осознавать тот факт, что это "сокращение" прежде всего проявляется в уменьшении "способности настраиваться". Не удивительно, что этот факт привлек внимание еще Э.Блейлера, автора концепции аутизма, хотя он в первую очередь думал об усиливающихся барьерах в отношении положительных ощущений**.
Именно это уменьшение потенциальной "способности настраиваться", вызванное экзистенциальной тревогой, объясняет
* См.: The World as Will and Representation, IV, 54. Эту же ситуацию сжато излагает Силази (ссылаясь на Хайдеггера) следующим образом: "Существование принимает за внешний мир то, что исконно является им самим (существованием)".
** См.: "Das sutistische Denken", Jahrbuch Bleuler und Freud, IV, 241: "Очевидно, процесс dementia praecox как таковой затрудняет формирование таких положительных аффективных оттенков [Gefuehlsfцne], иначе "механизм удовольствия" намного чаще имел бы своим результатом экстатические состояния или ощущения крайнего восторга; с другой стороны, следует признать, что создание для себя совершенного галлюцинаторного рая требует определенных творческих способностей, которыми обладает не каждый шизофреник".
"отсутствие контакта с реальностью", ослабление fonction du red* (Жане), отсутствие созвучности окружающей обстановке и миру других людей, резонанса (Блейлер) или синхронности (Минков-ский), что в особенности обуславливает аутичный образ мышления. То, что аутичное мышление "определяется" стремлениями, то, что "мышление протекает на языке стремлений без учета логики и реальности", — психопатологически все это не первопричина, а следствие экзистенциальной тревоги и уменьшения или исчезновения потенциальной возможности настраиваться, сопровождающих ее.
ПРОБЛЕМА ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ/ Наши знания о Лолиньгх галлюцинациях слишком скудны для подробного обсуждения. Тем не менее, этот случай все же может пролить некоторый свет на проблему, поднимаемую галлюцинациями.
Тот факт, что галлюцинации связаны с аутизмом, то есть, с определенным состоянием существования, уже подчеркивался Блейлером. Но мне известна только одна статья, точно объясняющая проблему галлюцинаций на основании "структурно-аналитических" соображений. Я имею в виду короткую работу Мин-ковского "Относительно проблемы галлюцинаций" ( E.Minkow-ski: "Apropos du probleme des hallucinations") (1937)11. В ней Мин-ковский ясно заявляет, что галлюцинации следует изучать не как изолированные нарушения, а как "en fonction ... du fond mental qui les conditionne"**.
To, что Минковский в своем обсуждении называет явлением "десоциализации", в действительности представляет собой тот факт, что пациенты совсем не удивляются, когда видят, что другие не замечают того, что, по их мнению, воспринимают они сами. Но все это по-прежнему не помогает нам продвинуться дальше обычного понимания аутизма. Мы можем преуспеть в этом, только если, вместе с Минковским, осознаем, что перцепции в целом имеют значение, намного превосходящее их сенсорную и когнитивную функцию — что можно продемонстрировать "сенсорными метафорами" ("иметь такт", "иметь нюх" и т.д.) — и если сосредоточимся на них не просто с пространственного (измеримого) расстояния, а скорее с "ощущаемого расстояния". Галлюцинации и, в особенности, "голоса" нельзя понять посредством "рациональной" концепции близости и отдаленности, наличия и отсутствия, а только с точки зрения динамики и переживания (я бы сказал, "посредством феноменологически-антро-
* Функция реальности (фр.)- — Прим. ред.
** В функции ментальной основы, которая обусловленна (фр.). — Прим. ред.
пологического понимания"). Не углубляясь в статью Минковс-кого, я хочу лишь отметить, что в случае Лолы иллюзорные перцепции (восприятия враждебных знаков, враждебных намерений, враждебных голосов) ни в коей мере не представляют собой изолированные явления, и безнадежно было бы пытаться понять их только на сенсорной основе. Их следует понимать как частные явления особой картины мира — и в особенности картины мира окружающих людей — представляемой в (незнакомом и полностью обусловленном тревогой) аспекте Угрожающего и Враждебного*. Они служат самым сильным выражением враждебного наступления, то есть физической близости (в особенности ощущений гипнотического воздействия и физических галлюцинаций, возможно, связанных с ними или с фобией одежды).
Принимая во внимание бегство Лолы от мира, мы также можем предположить, что в ее случае мир "зажал ее в кольцо" и "повис на ее душе слишком тяжким бременем" (Юрг Цюнд). На стадии суеверий она все еще была способна избегать этой близости и давлений; на стадии иллюзий преследования и в ходе сопровождающих их галлюцинаций это ей уже не под силу. Выражаясь более правильно, иллюзии преследования и соответствующие сенсорные галлюцинации служат подлинным выражением этого "переживаемого" враждебного наступления мира и давления этого враждебного мира. Действительно, эти иллюзии помогли ей одолеть призрачность и непостижимость существования (Шопенгауэр), представленную здесь мною экзистенциальную тревогу, но только ценой возвращения близости и давления мира в особо выраженной форме. Верно, что иллюзии помогли существованию удержаться на своем месте или прийти к удовлетворению [Stand oder Bestand]; оно снова имело нечто, посредством чего могло понимать себя — но ценой своей свободы! То, что мы называем иллюзорными перцепциями или галлюцинациями, — это не что иное, как изолированные мостики или связующие звенья "между" несвободной субъективностью и соответствующей "воображаемой" объективностью; они представляют собой всего лишь изолированные аспекты сильно изменившейся экзистенциальной структуры.
Всем этим я хотел лишь указать на позицию и метод, используя которые, можно, по моему мнению, подходить к решению проблемы галлюцинаций посредством экзистенциального анализа.
* Очевидно, что там, где трансцендентальное единство тревоги и уверенности нарушено в пользу превосходства или тирании одного или другого, мы имеем дело с тем, что клинически известно как психоз.
ПРИМЕЧАНИЯ
См.: Binswanger, 'The Case of Ellen West", in: Rollo May, Ernest Angel, Henri F.Ellenberger (eds), Existence, Binswanger, "The Case of Jurg Zung"' in: Schizophrenie.
Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins (Zьrich 1953), S. 445 ff. '
Kierkegaard, The Concept of Dread.
См.: Binswanger, "The Spatial Problem in Psychology" Zeits fiir Neurolo-. gie, Bd. 145, Nos. 3, 4 (1933), S. 598 ff.
6 См.: Binswanger, Grundformen, S. 328ff.,375ff.
В отношении проблемы экстравагантности сравните с анализом Богостроительства в моей работе Henrik Ibsen und das Problem der Selbst-
7 realisierung in der Kunst (Heidelberg, 1949).
См.: Gaston Bachelard, La psychoanalyse du feu (Paris, Gallimard, 1939),
о. отТ.
СМ. также: Binder, Zur Psychologie der Zwangsvorgange (Berlin, 1936) "Zwang und Kriminalitдt" Schweizer Archiv fiir Neurologie und Psychiatrie Bd. 54, 55. os,
См.: Erwin Straus, Geschehnis und Erlebnis (Berlin, 1930); см. также мою
статью под таким же заглавием в: Monatsschrift fiir Psychiatrie, Bd 80
No. 5, 6 (1931).
K.Jaspers, Allgemeine Psychopathologie (1922), S. 63.
Annales Medico-Psychologiques, No 4 (April, 1937).
Экстравагантность (Verstiegenheit)"
Человеческое существование проецируется в измерениях широты и высоты1; оно не только движется вперед, но и поднимается вверх. Поэтому в обоих отношениях человеческое существование может слишком далеко зайти, стать экстравагантным. Если мы хотим понять антропологический смысл экстравагантности, нам следует отыскать то, что делает возможным превращение экзистенциального подъема в экстравагантный способ существования. Антропология никогда не может ограничивать свои исследования одним лишь только экзистенциальным направлением, а будучи, по сути, антропологической, всегда должна иметь перед собой общую структуру человеческого бытия. Поэтому основание этого перехода, или превращения экзистенциального подъема в экстравагантность с самого начала будет не просто рассматриваться как движение вверх, но пониматься как часть koinonia2, или единства других основных потенциальных возможностей человеческого существования. Как я пытался показать в другой работе3, экстравагантность фактически обусловливается определенной дисгармонией в отношении между подъемом вверх и движением вперед. Если такое отношение, в том случае, когда оно "удачно"4, называть "антропологически пропорциональным", тогда мы должны говорить об экстравагантности как о форме антропологической диспропорции, как о "несостоятельности" взаимоотношения между высотой и широтой в антропологическом смысле.
В русском языке нет ни одного слова, адекватно передающего значение немецкого versieiegen.Ta&Toa sich versteigen означает "подняться так высоко, что невозможно спуститься, затеряться среди крутых горных вершин, высоко взлететь, слишком далеко зайти" и т.п. Поэтому как имя прилагательное данное слово неточно переводится такими словами, как:"экстравагантный","эксцентричный", "странный", "необычный" или "высокопарный" — ни одно из которых не передаст смысл безвыходности. Термин "экстравагантность", выделенный курсивом, целесообразно использовать здесь потому, что несмотря на несоответствие общепринятого его смысла немецкому, его латинские корни (extra, "вне" и vagari, "блуждать", взятые вместе передают значение "выходить за пределы". — Прим. изд.
Восхождение человеческого существования вверх не следует понимать в рамках контекста его бытия-в-мире5 и соответствующей его ориентации в пространстве и времени. Скорее его следует понимать в контексте бытия-вне-мира в смысле обретенной обители и вечного присутствия любви, где не существует ни "вверх" ни "вниз", ни "близко" ни "далеко", ни "ранее" ни "позднее". Если же, вопреки этому, человеческое существование, как имеющее пределы бытие, все-таки "остается" и "перенесенным" в плоскости высоты и ширины, тогда оно может "зайти слишком далеко" именно там,где оно покиджает обитель любви с присущим ей измерением вечности и целиком погружается в "пространство и время". Ибо только там, где отсутствуют communio* любви и сот-municatio** дружбы и где простое взаимодействие и общение с "другими" и со своим собственным я становятся исключительным направлением нашего существования, только там высота и глубина, близость и отдаленность, настоящее и будущее могут иметь такое важное значение, что человеческое существование может зайти слишком далеко, может достичь конечной ц&ш и сейчасности, откуда нет хода ни вперед, ни назад. В таком случае мы говорим о переходе в экстравагантность. Это может быть экстравагантная "идея", идеология (идеологии экстравагантны по самой своей сути), экстравагантный идеал или "чувство", экстравагантное желание или замысел, экстравагантное притязание, мнение или точка зрения, простая "прихоть" или экстравагантный поступок или проступок. Во всех этих случаях "экстравагантность" обусловлена тем фактом, что Dasein "застряло" в одном определенном эмприческом местоположении [Er-Fahmng], когда оно уже не может, используя выражение Гофмансталя7, "свернуть свой лагерь", когда оно уже не может вырваться оттуда. Лишенное communio и communicatio, Dasein уже не может расширять, изменять или пересматривать свой "эмпирический горизонт" и остается привязанным к своей "узости", то есть четко ограниченной позиции. В этом отношении Dasein оказывается "застревающим" или упорствующим, но еще не экстравагантным*** ибо дополнительной предпосылкой экстравагантности выступает подъем Dasein на высоту большую, чем.
* Общность, единение (лат.). — Прим. ред.
** Сообщение (лат.). — Прим. ред.
*** Из всех известных мне языков четкое разделение здесь проводит только немецкий. В английском и романских языках соответствующие выражения выводятся почти исключительно из сферы земного (aller trop loin, andar troppo lontano или troppo oltre, go too far или so far as to maintain). Исключением является испанский язык. Он признает как irse demasaido lejos (слишком далеко или слишком широко), так и tomarsu те/о demasiado alto (взлететь слишком высоко).
та, что соответствует широте его эмпирического и интеллектуального горизонта, то есть другими словами, непропорциональное соотношение высоты и широты.
Классическим примером этого из области психиатрии служит концепция Блеймера относительно определенного вида психического слабоумия как "диспропорции между стремлением и пониманием"; классическим примером из художественной литературы — строитель Сольнес Ибсена8, который "строит выше, чем может подняться"*. Однако эту диспропорцию между широтой и высотой ни в коем случае не следует понимать как отношение между конкретными "способностями" или характеристиками и, менее всего как отношение между "интеллектом и потребностью в том, чтобы вызывать восхищение"; скорее мы должны искать антропологические предпосылки, делающие возможными такое непропорциональное соотношение. Мы не рассматриваем экстравагантность как нечто присущее отдельным группам (партиям, кликам, сектам и т.п.), которые явно воплощают односторонний набор "черт", "идентификационных характеристик". Поэтому в целом ее нельзя понимать как черту характера либо же некоего рода поддающееся определению психологическое, психопатологическое, социальное явление или "симптом". Скорее к ней следует подходить в ключе аналитики Dasein* — то есть как к чему-то, требующему понимания в рамках общей структуры человеческого существования — короче говоря, как к антропологической, онтологической возможности. Только принимая такой подход, мы можем прийти к подлинному пониманию всей многообразной "симптоматики" экстравагантности. Только тогда мы сможем, к примеру, увидеть, каким образом и до какой степени можно проводить антропологическое различие между так называемыми (отнюдь не правильно) "экстравагантными идеями" маньяка10, "экстравагантными" ("ненормальными", "странными") жестами, языком или действиями шизофреника11, и фобиями невротика — хотя мы и психопатологи, и обыватели, называем
* На то, что Ибсен ясно видел ("видением" сам он называет поэзию) значение отношения между высотой и широтой для осуществленное™ или несостоятельности человеческого существования, указывает тот факт, что он рисует также фигуру, явно противостоящую строителю Сольнесу. Строитель дорог Берггейм представляет собой другой персонаж: он не стремится "строить выше", чем он реально может подняться. Действительно, видно по его профессии, он не строит, как подобно Сольнесу, взмывающие в небо башни с тем чтобы однажды они обрушились на землю. Берггейм строит хорошие дороги на земле. Он не стремится к недостижимому "счастью", не желает больше того, на что способен. Поэтому он достинает того, что ищет, и таким образом развивается.
всех их "экстравагантными". По моему мнению, даже шизофреническое помешательство можно понять12,только если с самого начала признать его экзистенциальной формой экстравагантности. То же самое верно и по отношению к "массовым явлениям" экстравагантности.
Однако вернемся к экстравагантности, рассматриваемой как структурное смещение антропологических пропорций. Горизонталь, как смысловой вектор, "выход в широкий мир" — в большей мере соответствует "дискурсивности",опытному постижению "мира", осмыслению его и овладению им, "расширению поля зрения", расширению понимания, перспективы и открытости навстречу "разноголосице" внешнего и внутреннего "мира". Аналогичным образом, вертикаль, как смысловой вектор — подъем вверх — в большей мере соответствует желанию преодолевать "земное притяжение", подняться над "тревогами земными" и давлением, а также желанию обрести открывающуюся "с большей высоты" перспективу, "возвышенный взгляд на вещи", как выражается Ибсен,— точку зрения, позволяющую человеку формировать, подчинять себе или, одним словом, использовать "познанное". Такое освоение мира в плане становления и реализации самости означает выбор самого себя. Выбор, будь то отдельного действия или же дела всей жизни, предполагает подъем или самовозвышение над конкретной земной ситуацией, а следовательно над сферой знаемо-го и видимого. Но что означает это "над"*? Как красноречиво описано у Ницше в предисловии к произведению Человеческое, слишком человеческое, это не означает "кругосветного плавания" искателя приключений, то есть земных переживаний; скорее это означает напряженное и многотрудное восхождение по "ступеням лестницы" проблемы оценивания**, то есть определение порядка предпочтения.
Таким образом, подъем вверх — это не просто познание своего пути, знание в смысле опыта, кроме того он подразумевает "обретение собственной позиции", выбор самого себя в смысле самореализации или достижения зрелости. Однако мы должны быть осторожны и не путать этот подъем вверх с собственно волей, в смысле психологического разграничения понимания, чувства и
* *Это вознесение себя над земной ситуацией не следует путать со "вне" бытия-вне-мира в смысле любви.
** Гастон Башляр выражает ту же точку зрения (см.: L 'Air et les Songes), когда характеризует вертикальный подъем как оценивание, как постижение и определение значимости. Вспомним, например, решение Антигоны.
воли*. Скорее мы должны понимать (как намекает термин Блей-лера "стремление"), что при подъеме человек, увлекаемый ввысь ("на крыльях" страстей, желаний, настроений, а в конечном счете "фантазии", воображения) плавно переходит к решительному** "выбору позиции". Тем не менее, антропологически мы должны четко проводить различие между определяющим настрой состоянием влекомости желаниями, идеями, идеалами и напряженным, многотрудным действием подъема по "ступенькам лестницы", позволяющего сравнивать эти желания, идеи и идеалы друг с другом в жизни, искусстве, философии и науке, переводить их в слова и деяния.
Эта концепция проливает свет на диспропорцию высоты — широты, лежащую в основе самой возможности "маниакальной идеации". Мы скоро увидим, что эта форма диспропорции настолько отличается от лежащей в основе экстравагантности, что мы даже не можем говорить о ней как об "экстравагантной идеации", но скорее как о "полете идей" (термин, также используемый в психопатологии). Диспропорция высоты — широты присущая тому типу бытия-в-мире, который выражается в полете идей? отлична от той, примером которой служит экстравагантность. В первом случае диспропорция заключается в том, что вместо продвижения вперед размеренным шагом происходит скачок "в бесконечное". Горизонт, или поле видения "безгранично расширяется", но в то же время подъем вверх остается исключительно "vo/ imaginaire", влекомостыо на крыльях желаний и "фантазий". В результате невозможно ни общее видение, как эмпирическая мудрость, ни проникновение в проблемную структуру конкретной ситуации (подъем в своей основе — это одновременно и проникновение, так как alьtudo по существу относится как к высоте, так и к глубине), ни, таким образом, какая бы то ни было решительная позиция. Эта диспропорция высоты — широты уходит своими корнями в "чрезмерное" расширение рамок маниакального мира, с его всепроникающей изл/ет/то<?0стб/о;чрезмерное именно в том, что сфера подлинного одновременно подвергается процессу "'уравнивания"1^. Под "подлинным" мы подразумеваем те высоты
* Я полностью согласен с Э.Минковским (см.: "La Triade psychologique", in: Vers une Cosmologie, p.57 ff.), когда он оспаривает эту тройственную классификацию психологических явлений и действительно приводит аргументы против самой возможности подобной классификации.
** В связи с этим следует безоговорочно согласиться с Башляром, когда он пишет: "II est impossible de faire la psychologic de la volonte sans aller a la racine meine du vol imaginaire" [Невозможно создать психологию воли, не добравшись до самого корня полета воображения]. — Прим. ред..
(или глубины), которые могут быть достигнуты, только если Dasein пройдет через многотрудный процесс собственного выбора и созревания. С точки зрения аналитики существования, о диспропорции, наблюдающейся в образе жизни человека, страдающего манией, можно говорить как об "изменчивости ". Это означает невозможность достижения подлинно устойчивой позиции на "лестнице" человеческих проблем, а значит, кроме того, невозможность подлинного принятия решения, действия и достижения зрелости. Обособленный от любовного communio и от подлинного communicatio, слишком далеко и стремительно увлекаемый вперед и возносимый вверх, страдающий манией человек парит в иллюзорных высотах, где он не может занять позицию или принять "самостоятельное" решение. В этих "нереальных" высотах любовь и дружба теряют свою силу. Человеческое общение низводится до уровня психотерапии.
Экстравагантность, присущая шизоидной психопатологической личности, и бесчисленные формы шизофренического бытия-в-мире совершенно отличны15. Здесь антропологическая диспропорция уже не уходит корнями в чрезмерность широты ("скачков") и высот чистого vol imaginaire, превосходящих (подлинные) высоты "принятия решения". Она обусловлена чрезмерной высотой решения, которая превосходит широту "опыта". Временно абстрагируясь от существенного различия между психопатическим шизоидом и шизофреником, мы можем сказать, что их способ "заходить слишком далеко" отличает их от людей, страдающих манией, именно в том; что они не уносятся в "иллюзорную высь" оптимистических настроений: они в одиночку, "не обращаясь к к опыту", поднимаются на некую конкретную ступеньку "лестницы человеческих проблем" и остаются там. Высота этого подъема вверх не имеет никакого отношения к широте или узости и непоколебимости опытного горизонта ("опыт" понимается здесь в самом широком смысле, то есть как "дискурсив-ность"16 как таковой). Здесь экстравагантность означает нечто большее, чем просто "остановленность", так как предполагается не просто невозможность эмпирического продвижения вперед, а скорее жесткая привязанность или зависимость от конкретного уровня или ступени человеческого опыта (Problematik). В этом случае широта изменчивости человеческой "иерархии высот" понимается по существу неправильно и одна конкретная идея или идеология становится навязчивой или абсолютизируется. В той мере, в какой "опыт" еще осознается, он не оценивается или не используется в собственных интересах, ибо его "смысл" установ-
лен непоколебимо. Таким образом, экстравагантность означает "абсолютизацию" одного единственного решения. Кроме того, такая "абсолютизация" возможна только там, где Dasein "в безысходности" изгоняется из обители и вечного измерения любви и дружбы, и в силу этого уже не знает или не ощущает "относительности" "верха" и "низа", очевидной на фоне неоспоримой веры в Бытие (Sein), несомненной онтологической защищенности. Это отлучение от бытийной защищенности и от общения или взаимодействия с другими, а значит — от сомнений и поправок, возможных только в ходе такого общения. Таким образом, замкнутый на сообщение или взаимодействие исключительно в собе такой процесс может лишь "истощать себя" до тех пор, пока не превратится в простое лицезрение медузоподобной, психотичес-ки жестко фиксированной проблемы, идеала или "ничтойной тревоги"17. В результате освобождение из экстравагантной позиции становится возможным лишь посредством "посторонней помощи", как спасение альпиниста, слишком высоко поднявшегося по отвесной скале*.
Невротик также можно "избавиться" от экстравагантности и ограниченности своего существования (например, в случаях фобии) лишь посредством посторонней помощи, в смысле общения и сотрудничества с кем-то другим. Пожалуй, именно по этой причине случаи невротической экстравагантности яснее любых других показывают то, что экстравагантность (в физическом или психическом смысле) всегда основывается на отсутствии понимания или узости кругозора относительно конкретного смыслового контекста, или "области мира", где Dasein пытается превзойти себя. Поднимаясь на гору, человек может зайти слишком далеко, только если общая структура отвесной скалы скрыта из виду, и неизвестна. Аналогично, человек заходит слишком далеко в области ментальной или психической, только когда ему недостает понимания общей "иерархической структуры" человеческих онтологических возможностей, и в силу этого незна-
* Пожалуй, здесь нелишне отметить, ссылаясь на формулировку Генриха Вольфли-на (Heiniich Wolfflin, "Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur", Kleine Schriften (Basel, 1946), S.23), что: "Образы нашего телесного существования" повсюду представляют "стандарт", согласно которому мы оцениваем все другие явления. В первую очередь, это справедливо в отношении "стандарта", следуя которому язык схватывает и именует "все другие явления". Языку это доступно, ибо в отличие от аналитического понимания, ему дано наше существование в его единстве и общности. Это не означает, что язык "материализует" нематериальные "феноменологические формы" нашего существования. Скорее он обнаруживает психическое и духовное в материальных явлениях и наоборот.
ния он поднимается все выше и выше. Таким образом, экстравагантность никогда нельзя понять исключительно с субъективной точки зрения, а только исходя из единой перспективы (трансцендентальной) субъективности и (трансцендентальной) объективности. То, что мы называем психотерапией, в своей основе — не более, чем попытка подвести пациента к состоянию, в котором он сможет "увидеть", каким образом структурирована тотальность человеческого существования, и "бытия-в-мире", а также увидеть, в какой из узловых точек структуры бытия-в-мире он взял на себя слишком много. То есть: цель психотерапии заключается в том, чтобы благополучно вернуть пациента из его экстравагантности "вниз, на землю". Только из этой точки возможно всякое новое отправление и восхождение.
Я попытался в общих чертах описать понимание антропологического смысла экстравагантности. При этом я сосредоточил внимание на интерпретации пространственных аспектов и оставил на заднем плане куда более важный временной аспект. Но он, несомненно, подразумевался когда речь шла о "созревании", "принятии решения", "дискурсивности", "скачках", "увлекаемом ввысь" человеке, "восхождении по ступенькам лестницы", "остановленности" и, наконец,об "антропологической пропорции" и "диспропорции". Экзистенциальная высота и широта в конечном счете означают две различные "пространственные" оси одного временного направления, поэтому они разделимы только концептуально.
ПРИМЕЧАНИЯ
Бинсвангер "Сновидение и существование" [в настоящем сборнике]; Gaston Bachelard, L 'Air et les Songes: Essai sur I'imagination du mouvement (Paris, 1943). В отношении введения в феноменологическую космологию в целом см.: T.Minkowski, Vers tine Cosmologie (Paris, 1936). О теории жизненного пространства см. также Erwin Straus, в: Nervenarzt, No. II (1930); E.Durckheim, "Untersuchungen zum gelebten Raum", Neue psychologische Studien, Bd. 6, No. 4 (1932). W.Szilasi, Macht und Ohnmacht des Geistes, S.46.
Binswanger, Henrik Ibsen und das Pmblem der Selbstrealisierung (Heidelberg, 1949).
W.Szьasi, S. 19.
Martin Heidegger, Sein und Zeit; Vom Wesen des Grundes. Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins (Zьrich, 1953).
7 Bьiswanger "Ober das Wort von Hofmannsthal: Was Geist ist, erfasst nur der Vedrдngte" (Festgabe fьr RA.Schmder), Schweizer Studio philosophica, Bd. VIII (1943).
8 Binswanger, Henrik Ibsen.
9 Binswanger, in: Schweiz. Arch., Bd. 57 (1946), S. 209.
10 Binswanger, "Ober Ideenflucht", Schweiz. Arch., Bd. 27-30.
11 Binswanger, in: Mschr. Psychiatr., Bd. 110 (1945), S. 3-4.
12 Binswanger, in: Schweiz. Arch., Bd. 63 (1949)
13 Binswanger, "Ober Ideenflucht".
14 Binswanger, in: Schweiz. Mwd. Wschr., No. 3 (1945).
15 Binswanger, Schizophrenie. (Pfullingen, 1957).
16 Binswanger, Grundformen, I.
17 Binswanger, Schizophrenie.
Якоб Нидлмен
Критическое введение в экзистенциональный психоанализ Людвига Бинсвангера
Посвящается моим отцу и матери
Перевод выполнен по Jacob Needleman. Critical Introduction to Ludwig Binswanger's Existential psychoanalysis, в кн.: Being-in the-World. Selected Papers of Ludwig Binswanger. Basic Books, inc., N.Y., 1963 (при участии О.Попович).
Предисловие
Dasein-анализ Людвига Бинсвангера — это попытка переосмысления того понимания человека и человеческого опыта, которое присуще фрейдовскому психоанализу. Такое переосмысление является именно философским, и его можно проинтерпретировать, если не упускать из поля зрения связь с практическими психологическими и клиническими проблемами. К сожалению, в Соединенных Штатах преобладает тенденция рассматривать работу Бинсвангера прежде всего как клиническую альтернативу фрейдовскому психоанализу, в то время как философской основе обеих школ мысли уделяется незначительное внимание. Но именно там и происходит "битва", как, надеюсь, мне удалось показать в представленной Вашему вниманию работе. Dasein-анализ покажется беспомощным и ненужным, если рассматривать его как эрзац научной психиатрии. Необходимо понять, что его сила совершенно иного рода, чем у естественных наук, и эта сила крайне необходима знанию, рассматривающему человека в качестве объекта исследования.
В своей работе я использовал термин "экзистенциальное a priori" для того, чтобы выделить кантианские элементы в способе мышления Бинсвангера и Хайдеггера. Выделяя только этот аспект бинсвангеровского наследия, я, конечно же, обошел вниманием некоторые его грани, которые сам автор считал жизненно важными. Взять хотя бы его уникальную концепцию любви, изложенную в работе Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins. Мой выбор пролегал между точным изложением и интерпретированием, и я чувствовал, что последнее открывает мне возможность более четко наметить ту линию, по которой проходит водораздел между Бинсвангером и Фрейдом. Если мне это удалось, то, каким бы ни было внесенное выбором искажение, его можно считать оправданным.
Мною также двигало желание достичь целостности и взаимосвязанности моего исследования и представленных в настоящем издании избранных работ Бинсвангера. Остается надеяться, что будет осуществлен перевод его книги Grundformen. Этот монументальный труд не только утверждает, что бытие человека может быть постигнуто в аспекте хай-деггеровского понятия "Заботы" (Sorge), но и представляет обширный анализ столь же фундаментального онтологического понятия любви. Хотя позже Бинсвангер заявит, что в основе этой работы лежит "творчески неправильное понимание" хайдеггеровской философии, эта работа, на мой взгляд, остается серьезным, необходимым и исключительно далеко идущим дополнением к хайдеггеровской мысли.
Якоб Нидлмен Август 1963
I
Понятие экзистенциального a priori
Кантовская "Коперниканская революция"
Когда Декарт разделил реальность на две отдельные области сознания и материи, он оставил в наследство последующим философам проблему объединения их таким образом, чтобы наше знание природы могло представляться истинным. Следуя декартовской неудовлетворительной апелляции к Богу как к конечному гаранту знания, целая плеяда искусных мыслителей приложили свою руку к ответу. В результате этого философия, а также ее мир, в течение долгого времени была расколота на две непримиримые области, которые известны как рационализм и эмпиризм. Первый в своих крайних проявлениях провозглашает, что для разума нет никакой нужды вступать в контакт с природой для того, чтобы иметь знание о ней. Последний же в конечном счете настаивает на том, что знание о мире мы получаем из пассивного или же сравнительно скудного контакта с природой, который обеспечивают наши ощущения. Таким образом, рационализм может предложить некоторую достоверность знаний, но не гарантирует, что это знание и есть знание о природе. Эмпиризм же говорит о контакте с природой при помощи ощущений, но не гарантирует достоверность этого знания.
Так сложились две аксиомы, которым, как мы покажем дальше, и суждено было сформировать философскую перспективу кантовской "Критики чистого разума".
Вот эти две аксиомы: (1) разум сам дает нам истинное знание о природе (синтетические суждения априори) и (2) все знание должно находиться в контакте с тем, что нам известно. Для рационализма несовместимость проистекает из положения о том, что разум — это субстанция (res cogitanf), чуждая и отдельная от природы (res extenscT). Для эмпиризма же несовместимость происходит из утверждения, что природа, будучи противопоставленной разуму, является строго упорядоченной реальностью, и единственно возможный контакт между разумом и природой — это чувственные впечатления, то есть влияние природы на разум. Следовательно, получить истинное знание только из разума невозможно, так как его контакт со знанием является пассивным, вторичным по отношению к объектам природы.
* Вещи познаваемые (лат.). — Прим. ред. ** Вещи протяженные (лат.). — Прим. ред.
Для Канта оставался только один оправданный способ объяснения его двух аксиом. Он сравнивал направление своего мышления с революцией, произведенной Коперником в астрономии. До Коперника царило мнение, что Солнце и звезды вращаются вокруг Земли. Но Коперник, пытаясь объяснить изменения в расположении небесных тел, представил гипотезу того, что сама Земля находится в движении. До Канта считали, что наше знание об объектах должно соответствовать им; Кант представил гипотезу о том, что объекты должны соответствовать нашим способам познания. Сознание является конститутивным по отношению к объектам мышления. Оно создает их, познавая. Этой своей гипотезой Кант мог объяснить происхождение априорного знания объектов. Ибо если предполагать, что знание соответствует либо просто копирует объекты, которые уже даны "готовыми" в опыте, то вряд ли удастся объединить возможность априорного [то есть внеопытного знания]. Если же предположить обратное, то есть, что объекты познания соответствуют нашим способам познания, и что разум является конститутивным и объекты сознания определяются нашей способностью мышления, то в той мере, в которой они определяются, они могут быть познанными еще до всякого опыта.
Именно так Кант объясняет тот факт, что мы можем иметь достоверное и неопосредованное знание природы. Пробираясь через дебри основных положений рационализма и эмпиризма, Кант утверждает две вещи: во-первых, разум не является полностью отделенным от природы; и во-вторых, контакт разума с природой не ограничивается пассивным подчинением влиянию природы. Этим Кант ни в коем случае не говорит, что влияния природы на разум не существует. Совсем наоборот. Этим Кант как раз хочет сказать, что, поскольку знание состоит из восприятий, получаемых в процессе пассивного контакта с природой, то оно также требует определенных составляющих, источником которых может быть только сама способность познания. "Листья зеленые" — это знание. Но само восприятие "зеленого" ощущениями еще не является знанием, пока это восприятие не будет организовано идеями материи (листья) и качества (зеленые): идеи проистекают из Рассудка. Но наша способность познания не может работать, пока не получит эмпирического материала из чувственных восприятий. Таким образом, знание является соединением активной, организующей (конститутивной) функции разума с его более пассивной и воспринимающей функцией — "чувствительностью". Все, что мы можем с достоверностью знать о природе — это общий способ, при помощи которого разум организует свой материал. Кант называет его "категориями Рассудка". Можно сказать, что такой способ познания не дает знания о вещах, но скорее есть знание о средствах познания (о том, каким образом мы познаем вещи). Это так, но поскольку, познавая вещи, мы в то же время навязываем им некоторую общую структуру, то такое знание есть также знание объекта вообще. В кантовской терминологии такое "знание" называется "трансцендентальным". То, что разум черпает из самого себя, является трансцендентально истинным. Это знание того способа, каким вещи даны нам, если только у нас может быть некий опыт, который, несомненно.
имеется. Следовательно, такие априорные истины, как "каждое событие имеет свою причину", являются истинами о том, каким образом Рассудок приводит в порядок разнообразие чувственных восприятий, делая возможным опыт.
Кантовская философия нанесла смертельный удар по глубокому убеждению или надежде традиционной метафизики — надежде на то, что можно достигнуть позитивного знания реальности как она есть в себе, независимо от нашего знания. Поскольку познавая вещь, мы придаем ей форму, то мы никогда не можем знать, что она есть сама по себе. Хотя Кант не отрицает дуализм разума и природы. Конечно же, он не сталкивает их друг с другом, как это делают идеализм и материализм. Кант говорит, что мы можем иметь достоверное знание о реальности только в той мере, в какой мы сами придаем ей форму. Вещи как они есть сами по себе навсегда скрыты от нас. На языке Канта это звучит так: мы можем знать феномены, но у нас никогда не может быть знание о ноуменах (вещах в себе). Поэтому, хотя разум и отличен от природы как она есть "в себе", но он тесно и сущностно связан с природой, потому что она познается и переживается человеком.
Теперь важно подчеркнуть, что кантианские категории Рассудка (категории количества: единство, множественность, целокупность, качества: реальность, отрицание, ограничение; отношения: субстанция-и-ак-циденция, причинность и зависимость, взаимодействие; модальности: возможность, существование, необходимость) не имеют смысла или значения пока мы не говорим об объектах ощущений, которые им соответствуют. Все категории должны быть связаны с восприятиями чувств (или ''интуицией"). Утверждение Канта о том, что в разуме есть категории, которые делают возможным опыт, не должно восприниматься как утверждение о "существовании" таких категорий самих по себе "в разуме, свободном от всяких содержаний", подобно сосудам, которые только и ждут, чтобы их наполнили. Категории — это только их использование и функция упорядочивания многообразия восприятий. Категории не являются идеями, которые имеют функции и могут быть использованы определенным образом. Они и есть это пользование. Рассуждать о конститутивной функции разума — это не значит предполагать существование некоего положения вещей еще до всякого опыта. Конститутивные функции разума — это именно те, которые дают возможность понимать вещи как до или после, так и реальные или нереальные.
Поэтому эти категории Рассудка полностью сводятся к сфере чувственного опыта. Так как они не могут описывать реальные свойства и отношения вещей в себе, то самое большее, чего может достичь Рассудок — это предвидеть форму возможного опыта вообще; он не может дать нам априорное нетавтологичное знание вещей вообще. Существует, однако, другая функция ума — которую Кант называет Разумом — она организовывает деятельность Рассудка таким же образом, как Рассудок организовывает чувственные ощущения. Точно так же, как Рассудок упорядочивает многообразие чувственных содержаний (интуиции), так же и Разум объединяет понятия и суждения Рассудка, имея опосредо-
ванное отношение к объектам. Поэтому Разум можно назвать чистым, так как данные чувственных содержаний не согласовываются непосредственно с его организующими принципами. Цель чистого разума — предоставить принципы безусловных, абсолютных оснований для использования Рассудка. Безусловное, конечно же, не может быть обнаружено в сфере опыта. Наш опыт причинности, например, не содержит опыта абсолютной первой причины. Идеи разума, которые резюмируют деятельность Рассудка, не являются конститутивными, так как им не соответствует никакой опыт. Поиск философией ответов на такие вопросы, как имеет ли мир начало или нет, проистекает из неправильного употребления разума (который сам по себе ничего не говорит о мире), и поэтому-то есть не что иное, как химера. Идеи разума трансцендентны, то есть они выходят за пределы всякого возможного опыта. Понятия или категории Рассудка являются трансцендентальными — они есть то, что делает возможным опыт вообще.
Понятие конститутивной функции рассудка и соответственно — новый метод в философии
В "Критике чистого разума" Кант задает вопрос: какие условия должен осуществить разум, чтобы объяснить тот факт, что мы знаем мир и законы природы такими, как мы их знаем1? Такое вопрошание о предпосылках есть отличительный признак трансцендентальной философии, которая не спрашивает прежде всего "Что я знаю" или "Каким образом я знаю то, что знаю", но скорее "Вот то, что я знаю, и вот тот способ, которым я знаю это — какие условия были осуществлены Рассудком, чтобы оно стало возможным?" В идеале это особенная форма философствования, которая зависит от истинности отдельных предпосылок. Поскольку весь опыт должен иметь чувственную составляющую, и поскольку существуют синтетические суждения априори об объектах знания, то коперниковская аксиома будет звучать так: рассудок является конститутивным.
Специфика кантовской мысли заключается в тех очень синтетических положениях, существование которых он утверждает и которые требуют трансцендентального подхода. При ближайшем рассмотрении эти положения оказываются трансцендентально истинными: это значит, что они необходимо истинны только потому, что их истинность является необходимой предпосылкой опыта. К примеру, если бы количество материи не оставалось бы неизменным, то это могло означать, что либо появилось что-то абсолютно новое, либо что-то исчезло навсегда. В любом случае единство опыта не было бы возможным, и следовательно и сам опыт был бы невозможен.
Можно сказать, что в перспективе кантовской философии эти синтетические суждения таковы, что "третьим" — тем, что соединяет субъект и предикат — должно быть это сугубо кантовское понятие возможного опыта. Любая другая альтернатива привела бы, в кантовской системе значений, к одному из четырех неудовлетворительных заключений.
Во-первых, суждение не было бы необходимым и универсальным (то есть содержало бы эмпирический элемент). Во-вторых, суждение могло бы быть универсальным, но не относиться прямо к объектам знания (регулятивный принцип). В-третьих, оно бы представляло функцию сознания, которая не существует (интеллектуальная интуиция). И наконец, оно было бы истинным только аналитически (очевидная связь в этом случае является всего лишь еще одной формой предиката, который содержится в субъекте).
Таким образом, кантовская критическая философия содержит специфическое дублирование. Если в опыте есть компонент чувственных данных, и если есть синтетические априорные суждения об объектах знания, тогда для того, чтобы опыт имел единство, которое у него есть, Рассудок должен быть конститутивным. Но синтетические априорные суждения об объектах знания являются результатом конститутивной силы сознания, что, очевидно, должно быть "выведено" или "подтверждено". Кант поэтому не может утверждать как очевидный факт существование синтетических априорных суждений об объектах знания. Он может только сказать, что если есть такие суждения, то Рассудок конститутивен. Поскольку такие суждения возможны только как результат конститутивной силы сознания, то подразумевающаяся зависимость является взаимной: если и только если Рассудок конститутивен, то есть и синтетические суждения априори. Обе стороны импликации должны быть истинны, чтобы само суждение было истинным. Одно нельзя выводить из другого.
Здесь есть только две альтернативы. Либо идея того, что Рассудок конститутивен, является основополагающей, либо мы должны изучать природу опыта, отталкиваясь от иной точки зрения. Но такая попытка будет означать либо поиск необходимых законов в самом объекте, либо их поиск в том способе, которым мы познаем объекты. Первая возможность автоматически исключается, так как является наиболее вопиющим отрицанием той критической точки зрения которую мы надеемся оправдать. Что касается второй возможности, то нам пришлось бы искать через эмпирическую психологию ИЛИ через метафизику разума факт или склонность сознания иметь опыт и знать объекты под защитой категорий. Но в случае такой попытки нам пришлось бы рассматривать сознание как объект среди объектов или как вещь в себе. Нам еще нужно было бы оправдать трансцендентальный эпистемологический статус этих категорий, снова прибегнув к помощи той критической точки зрения, которую мы пытались оправдать независимо.
Следовательно, идея конститутивной функции Рассудка — это закон, и мы приходим к экспериментальной формуле: Рассудок не может обнаруживать свое функционирование в мире, который он создает, и создавая, переживает; он также не может строго проследить себя в таком качестве. Он может познавать мир, но никогда не может дойти до понятия своей конститутивной силы как результата строгой мыслительной цепочки. Поэтому все кантовские аргументы — включая его положение о возможности опыта, идущее от его предположения, что объекты под-
чиняются Рассудку — это не более чем отслоения базового закона, что сознание создает свой мир, и базового факта, что опыт имеет и должен иметь чувственный элемент*.
Трансцендентальные дедукции Канта — это не больше и не меньше чем изложенные по буквам импликации коперниканской революции. Они являются импликациями в смысле дедукции того, что должно осуществляться, если сознание конститутивно (например, учение о единстве апперцепции, а также в смысле структуры акта познания (например, разделы о разнообразных синтезах воображения). Таким образом, "Трансцендентная диалектика" заключает в себе не только завершение коперниканской революции, но и ее сильнейшую и единственно возможную философскую опору. Ибо, пока мы не можем с уверенностью прийти от неудачной попытки всей метафизической спекуляции объяснить природу мира, Бога и самости, к конститутивной силе Рассудка, и хотя нам и приходится продолжать систематическое философствование, понятие конститутивной функции Рассудка представляется нам весьма привлекательным".
Я называю концепцию конститутивной функции Рассудка законом, а не теоретической конструкцией или гипотезой. Теоретическая конструкция или гипотеза относится, объединяет или истолковывает уже данные факты или другие теоретические конструкции и гипотезы. А понятие конститутивной функции Рассудка предлагает новую концепцию природы самого опыта, а также тех фактов, которые являются предметом объяснения теории, как научной, так и философской. Это закон в том смысле, в каком разрубание гордиева узла было отказом принять те критерии, которые традиционно тесно связывались с определенными проблемами философии. Он навязывает новые стандарты и вписывает старые проблемы в другую иерархию не только потому, что старые стандарты кажутся тщетными или не приносят результатов в течении многих лет"* (это само по себе не оправдало бы их забвение), но потому, что
* Читатель, несомненно, успел отметить откровенно круговую природу аргументов Канта, в том виде, в котором я их представил. Заметим (это будет предметом обсуждения в следующей главе), что систематическая аргументация имеет круговую структуру; это не является недостатком, ибо круговая структура проистекает из самого замысла системы и объяснения. Критерий адекватности зависит (как мы покажем далее) от границ и размера круга. — Прим. автора (далее не указ.)
** Его привлекательность заключается в том факте, что оно указывает с такой железной необходимостью на поражение метафизики, и, как мы увидим потом у Хайдеггера, позволяет нам преодолеть, а не оставить в стороне предыдущие тщетные попытки метафизики.
*** Нечто похожее мы встречаем в логическом позитивизме, который также навязывал новые стандарты и ограничения философским спекуляциям, но в первую очередь потому, что предыдущие попытки не принесли плодов. Это указывает на недостаток необходимости в его целях и структуре, что ставит его на более низкую ступень по сравнению с критическим подходом. Он не в состоянии, как уже неоднократно отмечалось, приспособить недостоверность своего главного предположения к теории. Он отрицает истину в смысле достоверности, но само это утверждение, будучи недостоверным, не истинно и не ложно. С другой стороны.
сами эти стандарты, как Кант, по его мнению, показал в "Трансцендентальной диалектике", приводят к противоречию и поэтому невозможны в качестве стандартов разума, ведь принцип непротиворечивости — это основная каноническая структура разума.
Хайдеггер: понятие конститутивной "функции" и соответствующий ей метод применительно к науке о бытии человека
Если мы и уделили некоторое время кантовской эпистемологической критике старой метафизики — осуществленной главным образом через понятие "конститутивной функции Рассудка" — то потому, что хайдег-геровские аргументы, изложенные в "Бытии и времени", можно рассматривать как тщательно разработанное развитие той же концепции конститутивной "функции".
Я хочу сказать, что для Хайдеггера Забота и ее составляющие функционируют строго аналогично кантовскому Рассудку. Хайдеггер не предпринимает явной попытки провести некую Трансцендентальную дедукцию экзистенциалов, и вся аргументация "Бытия и времени" может быть прочитана как "оправдание" (в кантовском смысле, как он изложен в "Трансцендентальной дедукции") сущности Dasein — бытия-в-мире. Здесь не предлагаются традиционные доказательства этой основы бытия; ибо, как я уже пытался отметить, здесь не может быть доказательств: "самость" не может ни найти себя в своем собственном мире, ни проследить себя как создателя этого мира. Все, что остается философу — это предположить конститутивную природу самости как основополагающий принцип*.
И понятие Dasein, которое Хайдеггер использует вместо термина "самость", содержит внутри себя такую же основу. Часть определения Dasein или бытия человека — это то, что оно уже-в-мире: Dasein не появляется в качестве Dasein, пока оно не закончило конституирование собственного мира.
... о чем тогда еще будет спрашивать, если предполагается, что познание уже состоит при своем мире, который оно впервые призванодостичь в трансцендировании субъекта?2
Познание есть фундированный в бытии-в-мире модус Dasein/ Поэтому бытие-в-мире как основоустройство требует предварительной интерпретации3.
Бытие-в-мире требует первичной интерпретации, а не дедукции или объяснения. Свойственная Dasein структура такова, что предполагает бытие-в-мире; оно предшествует всяким другим формам опыта или бытия Dasein.
коперниканская революция является в принципе и по необходимости непроверяемой. Она говорит только: если сознание конститутивно, то... и т.д. * Эту особенность хайдеггеровского метода аргументации отметил также и Сартр: "В его резкой, скорее варварской манере — разрубать гордиевы узлы, а не пытаться их распутывать, он дает в ответ на вопрос чистое и простое определение."
Но теперь пришло время показать, что это бытие бытия-в-мире является конститутивным по отношению к миру. Мы могли бы сказать, что для Канта рассудок обязательно в-мире, так как он конституирует мир, осознавая его и проявляясь в своей функции понимания. И в самом деле, говоря, что самость или функция самости неотъемлемо в мире, можно ли вкладывать в это какой-либо иной смысл, чем тот, что эта самость до определенной степени конституирует свой мир? Отношение самости к тотально другому не может рассматриваться как присущее структуре самости, как определяющее ее природу, хотя оно сохраняет свою роль в качестве тотально иного. Также не имеет смысла принимать другой единственно возможный путь понимания того, что самость неотъемлема в мире — а именно, что мир конституирует самость полностью или частично. Полное конституирование миром самости невозможно, ибо в таком случае самость становится одним бытием посреди другого бытия в мире, и поэтому утверждать, что мир конституирует самость — это равнозначно утверждению, что мир конституирует дерево или планету. Взаимное конституирование мира и самости, конечно же, не исключается — ведь если самость не выходила бы "добровольно" к миру, тогда то, что "конституирует" мир, было бы случайным, а не сущностным для самости. То есть сказать, что самость (или Dasein, или рассудок) неотъемлемо и сушностно в-мире — это в некоторой мере наделить ее конститутивными "силами". Поэтому если Хайдеггер заявляет, что бытие-в-мире это "базовая структура Dasein", он также должен признать у Dasein конститутивную "функцию".
Но какую именно конститутивную "функцию"? Конститутивную для чего? Конституируемую кем или чем? В случае с Кантом ответы на эти вопросы относительно понятны. Не индивидуальная самость создает свой мир, но скорее рассудок, который в то же самое время меньше, чем индивид (он только лишь одна функция наряду с другими, и безусловно, он не расположен в феноменальной самости), и в то же время больше, чем индивид (он не подчиняется склонностям индивида до тех пор, пока применяется должным образом, и также присущ всем разумным существам в равной степени.) Что касается специфики конститутивной функции у Канта, то она есть функция синтезирования — при единстве апперцепции и через категории многообразия интуиции. Что до того, что она конституирует, то ответ также относительно ясен: мир, природу, объекты знания и науки, деревья, столы, планеты, животных, объект-самость, и все объективные отношения между этими вещами.
Тут мы обнаруживаем, что хайдеггеровская терминология существенно отличается от кантовской, хотя отношения понятий внутри каждой из них изумительно похожи. Хайдеггер делает ударение не на рассудке, но на человеческом бытии , на Dasein. Более того, мир не рассматривается онтически*, как тотальность сущностей, которые могут быть пред-* Онтология — это изучение бытия как такового, и как отдельного от любого другого бытия. Понятие "онтичный" является хайдеггеровским новшеством и в свою очередь отсылает к отдельным элементам, у которых есть бытие. Это аналогично различию между Бытием (Sein) и существующим (Seiende). Разные науки, напри-
ставлены в пределах мира или как область, которая содержит в себе эти сущности, но "мир" рассматривается как то, в чем обитает Dasein. "Мир" для Хайдеггера — это то, на языке чего выражает себя Dasein, благодаря силе чего способ бытия контекста или значения (Bewandtnis) становится возможным. Бытие Мира, таким образом, зависит от Bewan-dtnis-zusammenhang (точки зрения или значения).
Поэтому становится понятным, что у Хайдеггера мы не находим мира, явно отделенного от самости, а позже мы обнаружим, что, как и у Канта, он конституируется самостью. Скорее тут перед нами "мир", определяемый через Dasein, и снова мы наталкиваемся на основополагающую природу хайдеггеровских аргументов. В то же время ясно, что Dasein конституирует этот мир, как его определяет Хайдеггер — ведь само понятие Bewandtnis-zusammenhang проистекает из активности Dasein: в частности, из его понимания. Мы можем сделать вывод, что такие понятия, как "Dasein", "мир" и т.д., (в отличие от кантовских понятий мира, природы, самости и рассудка) не представляют конечного результата функционирования и деятельности Dasein. Скорее, они представляют то, как должно понимать эти понятия, чтобы объяснить факт функционирования и деятельности Dasein именно таким образом. Для Канта "мир" — это понятие, выражающее результат категориальной, конститутивной природы рассудка, а также результат работы разума. Но Кант, в отличие от Хайдеггера, не задается вопросом о том, каким должно быть бытие мира и самости, чтобы это самое функционирование могло быть возможным.
Именно в этом смысле работу Хайдеггера можно назвать онтологически трансцендентальной или онтологически критичной. Хайдеггер ищет онтологически необходимые предпосылки всех онтических или местных деятельностей и функций в человеке.
"Проблема трансценденции" не может быть сведена к вопросу: как выходит субъект вовне к объекту, причем совокупность объектов отождествляется с идеей мира. Надо спросить, что делает онтологически возможным сущее, как оно может быть внутримирно встречным и как встречающееся — объективироваться?4
Трансцендентальная "всеобщность" феномена заботы и всех фундаментальных экзистенциалов имеет с другой стороны ту широту, какою задается почва, по которой движется любое онтически-мировоззрен-ческое толкование присутствия (Basein)5...
Онтично говоря, мир — это не-самость. Онтологично говоря, Dasein есть в-мире различными модусами; оно конституирует бытие-мира той сетью значений, через которую открывается мир. Zuhandenheit и Vorhandenheit — это два модуса, в которых Dasein конституирует бытие-мира. Следовательно, в онтологическом смысле для Хайдеггера не может быть отдельной "самости" и отдельного "мира", так как онтологически эти
мер, являются онтичными дисциплинами, поскольку имеют дело с существующим (а это животные, световые волны, математические функции и др.). В определенном смысле каждая дисциплина за исключением онтологии, является онтичной.
понятия представляют один модус Бытия-в-мире: Vorhandenheit. Именно из этой сети значений возникает "индивидуальная самость". Dasein поэтому всегда уже-в-мире, и выражение бытие-в-мире — это пустая формула, ничего не говорящая о людях, но только о человеческом бытии, и о бытии-мира ("мир" понимается как то, что должно быть разъяснено человеком, и это заложено в человеческой природе: в Bewandtnismsam-menhang).
Соотношения значимости, определяющие структуру мира, суть поэтому не сетка форм, набрасываемая безмирным субъектом на некий материал. Скорее фактичное Dasein... возвращается из этих горизонтов к [уже] встречающему в них сущему6.
Бытие-в-мире, которое Dasein структурировал значениями (смыслами, контекстом), является онтологической почвой (или в кантовском смысле — трансцендентально-онтологической основой) появления не только знаемого мира, но также эго или самости. И человек онтологически рассматривается не как сущее, наделенное качествами, но скорее вот как:
Сущностное определение человека как понимающего Бытия подразумевает в то же время, что [теоретически] отделяемые свойства человека не могут быть имеющимися в наличии [vorhanden] "качествами", которые "проявляются" так-то и так-то. Скорее, сущностная структура человека определяется как его модусы бытия, и ничто иное . Сущность человека есть все его возможности, которые он "имеет" — но не так, как наличное бытие качества. Сущностное определение человека, поэтому, не может быть дано путем объяснения фактического содержания объекта [ein Was], ибо сущность человека заключается в следующем: он должен иметь свое бытие как свое. Действительно, сущность человека озаряется им же самим как бытие-в-мире — не через иное бытие, но таким способом, что его сущность и есть свет. Dasein несет "внутри него" эту сферу озарения, его "тут" [Da], и фактически, и сущностно, от этого нельзя отказаться. Только такое сущее может иметь доступ и к тому, что проявлено светом, и к тому, что спрятано во мраке. Именно потому, что человек, таким образом, сам есть свет Бытия, Хайдеггер выбирает понятие "Dasein" для выражения Бытия этого сущего7.
Здесь мы обнаруживаем полностью проанализированный Боссом конечный сущностный элемент хайдегтеровского метода и мысли. Это, как уже упоминалось раньше, принятие как факта того, что человек — это сущее, чья онтическая природа является онтологической. "Эта сущностная структура человека заключается в понимании Бытия не как теоретического постулата, но как факта"8. Эта причастность человека к природе Бытия является фактом для Хайдеггера, точно так же, как необходимость чувственного элемента для опыта и знания является фактом для Канта.
Теперь мы можем в общих чертах схематически изложить соотношение факта и основополагающих принципов у Хайдеггера и Канта:
ХАИДЕГГЕР:
Факт: Человек есть сущее, причастное к Бытию.
Принцип: Dasein есть бытие-в-мире.
Оба вместе: Dasein как "уже-бытие-в-мире, предшествующее-себе, как Бытие-свойственное-сушему, внутримирно встречное''^
Изложенная выше формула есть хайдеггеровское выражение того, что он рассматривает как Онтологическую априорную структуру человека. Этой формуле он дает название "Заботы".
КАНТ:
Факт: Все знание содержит в себе интуитивно данный элемент.
Принцип: Сознание конститутивно.
Оба вместе: рассудок объединяет многообразие чувств в единство объектов так, что опыт или знание становятся возможными.
Эта формула является кантовским выражением источника и основы априорного знания. Она выражает работу категорий.
Таким образом, Хайдеггер расширил до сферы Бытия то, что Кант осуществил в сфере объективного знания — или, говоря словами Хайдеггера, в сфере vorhanden.
Так и позитивный урожай кантовской критики чистого разума покоится в приготовлении к разработке того, что вообще принадлежит к какой-либо природе, а не в "теории" познания. Его трансцендентальная логика есть априорная предметная логика бытийной области природы10.
Что я пытаюсь подчеркнуть здесь, так это то, что для Хайдеггера Dasein, понимаемый онтологично, несет в своей сущностной структуре (бытия) конституирование (через наделение смыслом) бытия мира и самости (также понимаемых онтологично). Аналогия с Кантом, тем не менее, заходит дальше и распространяется на метод, употребляемый Хайдеггером в том, чтобы "подойти" к этой позиции. Это метод основоположения, метод, который, как я попытался показать, особенно необходим для доказательства конститутивных (во всех смыслах) сил "самости". "Забота" и ее составляющие, экзистенциалы, функционируют, по мнению Хайдеггера, способом, аналогичным кантианским категориям в том смысле, что они являются формами, через которые онтическая реальность может раскрывать себя в Dasein.
Однако, следует отметить одно важное различие. Эти экзистенциалы не есть формы, которые создают объекты, рассматриваемые как не-са-мость в мире, подобно кантианским категориям. Они не есть пустые формулы, но матрицы, представляющие возможные модусы, в которых Dasein, понимаемый только в качестве бытия, относится к миру, также понимаемому в качестве Бытия. Я употребил здесь слово "матрица", потому что оно выражает ту особенную роль этих "форм" более точно, чем понятие "формула". Слово "матрица" может означать место, из которого развивается организм или вещь, лоно. Или оно также может означать набор возможных групп переменных, определенных внутрен-
ним отношением, общим для каждого набора возможных групп: это формула, отсылающая к формулам. В обоих смыслах Бытие-в-мире, заботу и экзистенциалы {Verstehen, Verfallenheit, Befindlichkeit, Rede), а также Vorhandensein и Zuhandensein, нужно понимать как матрицы различных масштабов и определенности. Это понятие матрицы, особенно в его приложении к значениям — значение-матрица — с особой важностью предстанет перед нами из работ Бинсвангера.
После всего вышесказанного мы можем справедливо говорить о Бытии-в-мире и заботе как об онтологических а priori, учитывая кантианский подтекст "априорного" и хайдеггерианский — "онтологического". Эти экзистенциалы могут быть определены как частичные или вторичные а priori, так как представляют бытие-в-мире в отдельных модусах. В работах Бинсвангера эти онтологические а priori рассматриваются с точки зрения индивидуального, экзистирующего Dasein. Способ применения этих онтологических а priori к Dasein в его конкретной экзистенции и породил то, что я называю понятием экзистенциального а priori.
А priori Гуссерля
О том, что и Хайдеггер, и Бинсвангер многим обязаны Гуссерлю, сказано достаточно. Поэтому здесь я ограничусь общим изложением того, какое место отведено для а priori у Гуссерля, исходя из контекста предыдущих замечаний. Нужно четко разграничить два аспекта этого вопроса: (1) метод, посредством которого Гуссерль пришел к этим а priori, и (2) привнесенная в них функция сознания. Что касается второго, то я думаю, можно с уверенностью сказать, что вопрос конститутивной "функции", который развивался Гуссерлем в дальнейшем, не был тем аспектом его феноменологии, который повлиял на Хайдеггера или Бинсвангера. Для Хайдеггера чистая гуссерлианская феноменология может достигать постижения сущностных структур сознания как такового. Но отсюда невозможно сделать выводы о том, каково отношение сознания к объектам научного знания в их статусе эмпирической реальности, а также о бытии сознания и мира. Рассматриваемая в таком свете чистая феноменология не может и не должна стремиться к какой-либо позиции в отношении конститутивной функции сознания. Само понятие конститутивной функции было бы просто одной из многих возможных характеристик интенциональности. Спрашивать, конституирует ли самость каким-либо образом свой мир или самое себя было бы столь же неуместно, как ставить под вопрос реальность внешнего мира.
В этом отношении Хайдеггер представляет значительное развитие или даже трансформацию чистой феноменологии. Для него феноменология является инструментом более адекватного понимания не сознания, но бытия человека и, в конечном счете, бытия как такового.
Когда мы будем говорить о Бинсвангере, то обнаружим, что в этом он следует Хайдеггеру. Заявляя о своей преданности Гуссерлю, Бинсвангер использует этот метод как инструмент для понимания "психи-
ческих" феноменов в их отношении к реально существующим людям. Таким образом, и Хайдеггер, и Бинсвангер широко открыли дверь для действенного функционирования a priori, уходящего далеко за пределы чистого, эйдетического описания феноменов сознания как таковых.
Именно благодаря феноменологическому методу получения таких a priori Хайдеггер и Бинсвангер остаются в строгом смысле гуссерлиан-цами, но никак не кантианцами.
Хорошо известно, что Кант различает "априорные формы как в сфере чувственных восприятий, так и в сфере рассудка, которая "выходит за пределы чувственного". Первые являются чистыми формами интуиции, пространства и времени; вторые — чистыми категориями мышления или рассудка. Это категории причинности, реальности, необходимости и т.д. Чистые формы интуиции в сфере рассудка не признаются Кантом. В контексте этого нам становится ясно то новое, что несет в себе учение Гуссерля. Согласно ему, объекты рассудка или мышления могут быть постигнуты интуитивно, те самые объекты, которые "выходят за пределы чувственного"; это выражает категориальную интуицию. Акты категориальной интуиции, таким образом, направлены на объекты рассудка. Сами по себе они не являются актами рассудка, но интуицией особого рода, которой мы не встречаем у Канта11.
Сущностные формы и структуры сознания достигаются с помощью интуиции, интуиции, которая несет в себе все обязательные требования гуссерлианской феноменологической редукции, но тем не менее, остается интуицией. Тут мы сталкиваемся с явным выражением того, что я назвал откровенно основополагающей природой хайдеггеровских аргументов по сравнению с менее явными основоположениями Канта. Мы уже отмечали, что если Канту действительно не удалось дедуцировать что-либо относительно конститутивной функции рассудка, то Хайдеггер даже не предпринимает попытки такой "трансцендентальной дедукции". Гуссерлевская "первая философия" — феноменология, таким образом, наделяет трансцендентальную философию — философию необходимого основоположения — определенной и само-сознатель-ной точкой зрения.
Для такой философии — которая полагает необходимой основой конститутивные силы самости — идеальным методом был бы тот, который ни в предпосылках, ни в выводах не соотносится с "Реальностью" во всех смыслах, и который основывается на вполне определенной дисциплине Интуиции (Wesenschau). Поскольку самость не может дедуцировать себя или обнаружить себя в мире, конституируемом ею, ей не следует, в философии, объяснять или описывать свой мир с любой предпочитаемой точки зрения. Причина этого — в том, что само понятие предпочитаемой точки зрения предполагает, что самость не фокусирует свое внимание на основании опыта, знания, реальности или чего бы то ни было, что самость конституирует, когда она конституирует свой мир. Она скорее фокусируется на конечном продукте этих самых функций, конституирующих мир. Говоря более кратко, противостоять миру с предпочитаемой точки зрения — это не значит понимать мир как конституируемый самостью, а фактически, конституировать его! Поэтому
феноменология — это par excellence метод постижения того, что конституируется самостью в ее непосредственности, и поэтому par excellence метод постижения природы и формы этого процесса конституирования.
Общая характеристика понятия экзистенциального a priori
Dasein-анализ Бинсвангера в наиболее общем смысле можно рассматривать как применение "Dasein-аналитики" Хайдеггера к проблемам психиатрической теории и терапии.
Определяя основополагающую структуру Dasein как бытие-в-мире, Хайдеггер дает в руки психиатра ключ, посредством которого он, независимо от предрассудков какой-либо научной теории, может установить и описать исследуемые им явления во всей полноте их феноменологического содержания и в свойственном им контексте12. Таким образом, нам открываются два направления для предварительной характеристики экзистенциального а priori. Мы можем начать с откровений Бинсвангера о том, что он считает необходимо ограниченными и искривленными предпосылками психиатрии относительно природы человека и его опыта — включая также и его попытки {Антрополог) уравновесить ограничения, присущие научному методу как таковому. Или мы можем изучать его понятия априорных или сущностных потенций человеческого существования как философское развитие и модификацию хайдеггеровской мысли. На самом деле оба направления следует рассматривать одновременно, что мы и сделаем в следующих главах; но ввиду моей собственной позиции, я хотел бы сделать особое ударение на втором философском направлении.
Точно так же, как хайдеггеровское понятие бытия-в-мире вынесло гуссерлевскую "интенциональность" сознания из "разреженного пространства"13 трансцендентального эго и поместило его в онтологическую структуру, так же и бинсвангеровское экзистенциальное а priori переносит онтологично определенные экзистенциалы Хайдеггера в структуру конкретного человеческого существования. Недостаточно просто сказать, что Dasein-анализ Бинсвангера — это расширение хайдеггеровской онтологии до онтичного уровня, ведь Dasein-анализ пытается быть в идеале наиболее полным или даже единственно возможным продолжением оптического уровня хайдеггеровской онтологии и феноменологии. Таким образом, в работе Бинсвангера содержится особенное отношение к хайдеггеровской онтологии, и хотя Dasein-анализ делает онтические утверждения относительно "фактических обнаружений действительно существующих форм и конфигураций существования"14, эти утверждения в то же время являются предположениями о возможности и основании опыта отдельных людей. Поэтому, хотя Dasein-анализ Бинсвангера и не является онтологией, его можно назвать "мета-онтичным" в том смысле, что эти самые утверждения о возможности опыта должны пониматься более точно как относящиеся к возможности реального человеческого существования как оно есть: вот, фактически, один из общих
способов понимания понятия "экзистенциального а priori". Иначе говоря, любая дисциплина, имеющая отношение к трансцендентальным априорным сущностным структурам и возможностям конкретного человеческого существования, является, строго говоря, ни онтологической, ни онтической, но находится скорее где-то между ними.
Следовательно, мы можем предварительно определить экзистенциальное а priori вот так: это универсалы или формы, которые так соотносятся с опытом каждого человека, как кантианские категории рассудка соотносятся с объектами знания. Мы сразу же должны добавить, что понятие опыта в Ztoe/я-аналитике гораздо шире кантовского. В "Критике чистого разума" Кант рассматривает опыт как необходимо относящийся к знанию. Известные строки введения — "... все знание начинается с опыта" — под весом всей критической аргументации, скрывающейся за ними, могут быть прочитаны как "весь опыт начинается со знания". Это строгое определение понятия опыта, а именно то, что он неотделим от знания, идет рука об руку с критической концепцией знания как конституирующего собственные объекты. Поскольку с точки зрения Канта, какими бы ни были объекты опыта — будь это мир, его отдельные объекты или законы природы — сами объекты в значительной степени являются результатом нашего упорядочивания многообразия интуиции. Опять-таки, это упорядочивание многообразия рассудком и есть знание. Для Канта является неоспоримым, что мы не можем знать того, что не дано нам в опыте, поэтому так же неоспоримо, что нам не может быть дано в опыте то, чего мы не можем знать.
Итак, мы можем сказать, что для Канта опыт является формой знания.
...[категории] служат только для возможности эмпирического знания, которое называется опытом^.
Следовательно, весь синтез, благодаря которому становится возможным само восприятие, подчинен категориям, и так как опыт есть познание через связанные между собою восприятия 16..
... знания об опыте вообще и о том, что может быть познано как предмет опыта, дается нам только упомянутыми априорными законами17.
Опыт есть эмпирическое знание, то есть знание, определяющее объект посредством восприятий18.
С другой стороны, в Dasein-анализе знание является формой опыта; знание представляет один модус человеческого бытия-в-мире. Разумеется, Бинсвангер не подразумевает этого, например, в опыте оплакивания смерти любимого человека — здесь кантианские категории оказываются "не при деле". Эта проблема, очевидно, имеет второстепенное значение, ибо вопрос в Dasein-анализе — это не что я знаю, но что я знаю-чувствую-желаю: как я существую? Кантианские категории in toto представляют условия лишь одного модуса бытия-в-мире — модуса объективного знания, или, говоря языком Хайдеггера, модуса Vorhandensein. Знать объект или событие, его структуру, его причины и следствия, его соотношение с другими объектами — значит, на языке Хайдеггера, те-
матизировать объект, рассматривать его в себе и для себя. Безусловно, этот метод существования является сущностным, и только таким. Бинсвангер с большим успехом допускает, что рассудок конституирует объекты опыта даже в случае глубокого эмоционального переживания, но для него вопрос скорее должен стоять так: как человек в целом относится в этот момент к объектам, конституируемым таким образом? Действительно, вопрос одинаково относится и к случаю наиболее абстрактных и "неэмоциональных" состояний бытия — скажем, к изучению математической проблемы.
На самом деле, здесь нет настоящего спора с Кантом. Кант никогда не приравнивал работу категорий к сознательному суждению, возникающему в процессе рассмотрения, скажем, академической проблемы. То, что имел в виду Кант — это применить объективность в качестве стандарта подлинного опыта, и это понятно вот по какой причине: неважно, насколько широко наше понятие о том, чем может быть опыт, в нем всегда есть элемент явного иного-чем-самость. У нас есть опыт чего-то. "Субъективный опыт", поэтому, для Канта — бесполезный термин, ибо он предполагает, что нечто в пределах самости переживается как иное самости, не попадая под действие категорий. Это невозможно, поскольку само понятие "иного" уже подразумевает категории. Для Канта может существовать субъективное знание, но не субъективный опыт. "Я ощущаю эту книгу как тяжелую", — это субъективное знание книги, и в то же время объективный опыт ощущения или восприятия.
Но в Dasein-анализе понятие "субъективный опыт" не отрицается. Не то, чтобы Dasein-анализ провозглашал, что в некоторых случаях категории "не при деле". Скорее для Бинсвангера объективное знание представляет отношение человека, модус бытия-в-мире, не претендующий на приоритетность и существующий в пределах значения-контекста, которые открывают человеку мир объектов, Vorfianden. To, что "там" есть объект опыта (даже если он — это чувство феноменальной самости, и "там" в смысле бытия, противопоставленного трансцендентальному я) — это уже отношение, точка зрения, присвоение значения-матрицы бытию-в-мире Dasein, бытие-в-мире которого предшествует субъект-объектному разделению. Бинсвангер не отрицает субъективный опыт, но он больше не называется "субъективным". Понятие "субъективного" (применимо к опыту или знанию) само по себе предполагает наличие точки зрения. Такая точка зрения конституирует свой мир через наделение смыслом. Таким образом, мнение, что опыт должен быть связан с объективным эмпирическим знанием, конституирует свой мир настолько же определенно, насколько категории конституируют объекты, за исключением того, что единицей конституирования тут является не объект, но объ-ект-для-меня.
Поэтому для Бинсвангера чувство является таким же подлинным опытом, как и все другое, и не в том смысле, что любовь к кому-то — это объективный и истинный опыт любви, но скорее, что любовь к кому-то _ это подлинный опыт того человека, которого любишь. Видение Бога — это истинный опыт; таковым же является и страх скорой смерти; таковым же будет параноидальный страх преследования со стороны населения целого города.
Пришло время для переломного момента в понимании Dasein-шали-тической концепции опыта. Безусловно, психотическое видение Святой Девы не есть истинным опытом, как, скажем, опыт видения нормальным человеком частичного затмения солнца. Ответ Бинсвангера: да, это так — если только мы уверены, что понимаем, что на самом деле переживает психотик. Под таким определением Бинсвангер не подразумевает, что, возможно, психотик не видит Святую Деву в реальности, но только думает так, и что это в самом деле такой же подлинный опыт, как и любой нормальный опыт. Скорее дело обстоит так, что для Бинсвангера психотик видит Святую Деву — вопрос только в том, что значит для него Святая Дева. В "нормальном" опыте нет места факту, чистому, абсолютному восприятию, отдельному от общего мировоззрения. Опыт солнечного затмения не является абсолютным событием, которое одинаково переживается любым человеком в любой момент истории. Древний египтянин видел не солнце, покрытое тенью, но угрожающий жест божества. А сегодня, когда мы видим затмение солнца, то не можем отделить его от мировидения, помещающего Солнце в центр Солнечной системы, а Луну — на орбиту Земли, мировидения, которое выделяет эти светила как объекты в себе. Существует огромное количество того, что мы знаем, что предполагается простым опытом видения частичного солнечного затмения и ничего более. Но, что более интересно, есть нечто, что мы выбираем; есть мировоззрение, которого твердо придерживаемся: а именно, мировоззрение естественных наук.
Так же следует отнестись и к психотику. Понять его мир — это не объяснить его поиск Святой Девы, опираясь на естественнонаучное мировоззрение, или мировоззрение "нормального" человека. Понять его мир — значит "сделать видимой отдельную априорную экзистенциальную структуру, которая делает возможными эти феномены..."13, те феномены, которые клинически диагностируются как симптомы психоза. Посредством феноменологического метода, не допускающего предварительной привилегированной точки зрения в задаче понимания пациента, различные явления его мира описываются в мельчайших деталях в том виде, как они излагаются им самим. Нет ничего вначале, что имело бы больший вес в пользу чего-то еще. Для феноменологического психиатра то, что у пациента есть именно такой опыт переживания последовательности времени, настолько же существенно, как и то, что он ненавидел своего отца. Хотя, например, в психоанализе существует обратная значимость событий в пользу ранней истории жизни пациента. Для феноменологического психиатра это не так.
Получив возможно большее количество информации, феноменологический психиатр, в нашем случае — Бинсвангер, — переходит к "У_)я-je/w-аналитике". Теперь его задачей становится постижение той общей трансцендентальной структуры, благодаря которой феномены возможны как феномены для пациента; благодаря которой возможны факты как факты во всех сферах опыта пациента: темпоральной, пространст-
венной, личной, социальной и т.д. Эта трансцендентальная структура не может проистекать из какой-то одной сферы опыта пациента и применяться ко всем остальным. Как станет ясно позже, в обсуждении Da-даи-аналитической концепции символов, мы не можем подвести весь опыт пациента под, скажем, категорию агрессии или слишком тесной связи с матерью. Такие категории понятны только как появляющиеся в и проистекающие из одной из двух сфер опыта пациента как целого — социального или личного (Mitwelt и Eigenwelt). Здесь Бинсвангер обращается к Хайдеггеру, который осуществил попытку изложить онтологически необходимые предпосылки человеческого бытия-в-мире. Трансцендентальная структура, наделяющая смыслом и посредством этого конституирующая мир пациента, должна рассматриваться как проявление пациентом заботы и ее компонентов, экзистенциалов. Эту трансцендентальную структуру Бинсвангер называет Transendentale Kategorie20. Трансцендентальная категория, представляя собой манифестацию заботы в пациенте, должна быть способна к тому, чтобы с равной силой и подлинностью быть выраженной не только на языке личных и социальных понятий, но также в терминах темпоральное™, прост-ранственносги, причинности, выбора и т.д. Это должна быть такая категория, которая объясняла бы весь мир пациента, не требуя, чтобы один аспект этого мира, скажем, социальный или темпоральный, был основой для "объяснения" остальных.
Хотя онтологически бытие-в-мире является одним и тем же, и должно быть таковым для всех людей (мы будем помнить, что хайдеггеровская [матрица -] формула пуста), мета-онтически оно может быть достаточно разнообразным. Эта трансцендентальная категория — ключ к пониманию психотика, потому что она дает значение-матрицу, в которой все феномены появляются как феномены для пациента, и в этом она представляет тот способ, которым онтологически универсальная структура заботы действительно проявляет себя в отдельном человеке относительно дел и положения вещей в его повседневной жизни — эта трансцендентальная категория есть то, что я обозначаю как экзистенциальное а priori. Мир пациента конституируется этой трансцендентальной категорией; она и является его мировидением.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Кант И. Критика чистого разума. — М., Мысль, 1994.
2 Хайдеггер М. Бытие и время — М., Ad Marginem, 1997, с. 61. " Там же, с. 62.
4 Там же, с. 366.
5 Там же, с. 199-200.
6 Там же, с. 366.
7 Medard Boss, Psychoanalyse und Daseinasnalytik (Bern, 1957), S. 62-63.
8 Ibid., S. 61.
9 Werner Brock, Existence and Being (Chicago, 1949), pp. 64-6?.
10 Хайдеггер M. Бытие и время — М., Ad Marginem, 1997, с. 10-11.
11 Binswanger, Ausgewдhlte Vortrдge und Aufsдtze (Bern, 1947), Bd.I, S. 17n.
Бинсвангер, с.77 данного сборника.
Там же.
Binswanger, "The Existential Analysis School of Thought", in: Rollo May, Ernest
Angel, and Henri F.EUenberger (eds.), Existence (New York, 1958), p. 192.
Кант И. Критика чистого разума. — М., Мысль, 1994, С. 108.
Там же, с. 115.
Там же, с. 117.
Там же, с. 145.
Binswanger, Schizophrenie (Pfullingen, 1957), S. 464.
Binswanger, "The Existential Analysis School of Thought", Existence, op. cit., pp.
191-213.
II
Систематическое объяснение и наука психоанализа
Идеал объяснения
Бинсвангер утверждает, что постижение априорных структур человеческого существования, экзистенциальных a priori, предоставляет терапевту более полное понимание мира пациента, чем, например, психоанализ. Бинсвангер утверждает, что естественнонаучному методу в принципе недоступно полное понимание пациента, хотя его способность объяснять психологические явления не поддается сомнению1. Главная цель этой главы — это общее исследование естественных наук, в особенности психоанализа, понимаемых как система объяснения в противовес феноменологическому подходу, на котором основывается Dasein-анализ по его собственным утверждениям. Конечной целью будет установить некое поле значений, в котором философские рассмотрения позиций психоанализа и Dasein-анализа можно изучать более углубленно в последующих главах.
Различение между пониманием (Verstehen) и объяснением (Erklдrung) можно, для начала, грубо приравнять к различению между феноменологией и философской системой. Феноменология утверждает, что стремится быть непредубежденной — и это отличает ее от философской системы. Системы всегда утверждают наличие бесспорных предположений, и ни одна из них не претендует на их полное отсутствие. Мы убедимся, что уверенность феноменологии, а также и ее бессилие, происходит именно от отказа полагать.
В первой главе мы уже отмечали кругообразность кантовских аргументов, мы также сказали тогда, что это не означает обязательно некий изъян в его мышлении. Действительно, целью философской системы является исключительно эта кругообразность. Как сказал об этом Вайсе:
Вывод, повторяющий предпосылку, четко подчиняется требованиям наиболее точной логики. Недостаток кругового аргумента в том, что он часто неинформативен и слишком стремительно возвращается к своему собственному началу. Но если этот круг содержит в себе все, если он вмещает в себя все существующее, то он соответствует всем требованиям к философской системе*.
* Paul Weiss, Modes of Being (Carbondale III, 1958), p.193. Я могу лишь добавить, что различие между началом и концом кругообразной системы — это, возможно различие между предпосылкой самой по себе и предпосылкой в применении ко всему остальному во вселенной.
Иначе говоря, система, не являющаяся кругообразной, сильна или слаба настолько, насколько сильными или слабыми являются ее предпосылки. Только когда выводы в некотором смысле есть доказательства предпосылок, система может быть завершенной. Круг должен содержать все — то есть он должен вмещать в себя все, что есть. Но что есть? Если бы не было спора о том, что на самом деле существовало или имело бытие во вселенной, о расхождениях между философскими системами, а все они главным образом кругообразны, говорили бы гораздо меньше, да и разговоры бы эти сводились только к проблеме акцента или начальной точки. Но в действительности каждая философская система имеет свой собственный пред-установленный критерий, посредством которого что-либо признается как реально существующее, как нечто, заключенное в системе или то, относительно чего все остальное существующее, заключенное в системе, может быть "объяснено".
Поэтому утверждение о том, что систематическая философия есть нечто кругообразное, не исчерпывает полностью ее сущности, ибо философская система должна изначально полагать точную "качественную окружность" круга. Рискуя усилить метафору, мы можем сказать, что систематическая философия начинается с маленького круга, который со временем перерастает в большой — радиусом этого круга становится диаметр маленького круга.
Маленький круг представляет неизбежные, основные предпосылки любой системы; он очерчивает контуры большого круга. Если первый круг относительно невелик, то мы имеем систему (большой круг), которая сравнительно хорошо определена и уверена в себе (то есть ее критерий для принятия основного факта относительно ограничен), но это в ее окружности не объясняет многого (я приведу в качестве примера логический позитивизм). Если размеры меньшего круга слишком большие, то перед нами система, которая, хотя и вмещает многое, но сама основывается на предположениях, нуждающихся в дальнейшем подтверждении.
Маленький круг представляет критерии, определяющие то, что конституирует исходный факт, объясняемый систематической связью в большом круге. Маленький круг представляет стандарт качества данных, которые принимаются как таковые и объясняются предпосылками и правилами вывода в большом круге. Это правило трансформации, в соответствии с
которым философ, продвигаясь в пределах большого круга, принимает некоторые данные как нередуцируемые и первичные, а другие — как производные и поддающиеся трансформации в нередуцируемые.
Гегелевская система, как она выглядит в "Феноменологии духа" — это пример системы, в которой маленький круг сравнительно велик. Этот первичный круг Гегеля говорит: все в науке, искусстве, религии и философии, что проявляет себя, является истинным и реальным. Предпосылки большого круга (предпосылки "системы") таковы: действительное разумно, и разумное действительно; разум продвигается вперед в неизбежном диалектическом процессе. Этими предпосылками Гегель вводит огромный и искусный круговой аргумент о том, как все можно объяснить, то есть упорядочить в систему. Тут перед нами красноречивый пример того, как большие размеры маленького круга требуют огромного большого круга. В системе Гегеля немногое из того, что рассматривается, трансформируется в нечто более "базовое". По крайней мере, каждый момент имеет свою реальность и не изменяется, но неизбежно влечет за собой обратное движение, которое тоже имеет свою реальность. (Безусловно, Абсолютный Дух наиболее реален, но это не влияет на то, что каждый момент в себе имеет некоторую степень реальности, целостности).
Основная критика гегелевской системы направлена на маленький круг, а именно — на слишком мягкий критерий реальности, содержащийся в нем. Ничто не допускается как недействительное, никакая точка зрения не рассматривается как полностью ложная — все во вселенной человека принимается на своих собственных условиях, в результате же не объясняется ничего или почти ничего. Тут мы приходим к первому важному утверждению этой главы: систематическое философское объяснение должно находиться посредине между двумя противостоящими силами человеческой мысли — (1) тенденцией к редукции, которая пытается свести все явление к минимуму основных реальностей и (2) тенденцией к согласию, принимающей каждую вещь или идею на ее собственных основаниях. Первая, осуществленная в неуместных масштабах, приводит к тому, что заявляет: "квартет Бетховена — это всего лишь скрип конского хвоста по кошачьим внутренностям", если рассматривать уже известный нам пример. Вторая тенденция в своих крайних проявлениях заканчивается энциклопедией, а не системой объяснения, и поэтому терпит крах как систематическая философия, поскольку не выполняет своего задания: объяснить содержание энциклопедии.
Логический позитивизм Венского кружка был примером систематического философского подхода, и если бы прожил достаточно долго, чтобы перерасти в философскую систему, то представил бы прекрасный пример скудности слишком маленького первого круга, рассматриваемого в качестве производящего по отношению к объясняющему большому кругу. Здесь маленький крут требует эмпирического, опытного наполнения для любого понятия и эмпирической верификации любого утверждения.
В свете этого, утверждения относительно моральности, эстетической ценности, религиозного сознания и прочих подобных вещей рассматриваются как не имеющие смысла или трансформируются, редуцируются к уровню реальности, что совершенно противоречит поведению человека в этических ситуациях, творческих актах и религиозной борьбе. (В результате этого все три ситуации — этическая, артистическая и религиозная — рассматриваются как следствие взаимодействия молекул в клетках мозга.)
Но настолько же немыслимо для благочестивого католика утверждение о том, что все религии, от верований каннибалов Фиджи до дзэн-буддизма являются разными способами постижения одного и того же Бога. Рассудительный католик хочет понять, в чем некоторые религии похожи на его религию, и даже, в определенном смысле, говорят то же самое — но он будет требовать, чтобы убедительное объяснение истории религии классифицировало религии на языческие, варварские, дерзкие, слепые, идолопоклоннические и т.д. Он не позволит, чтобы эти дьяво-лопоклонники приходили ко Христу через слишком узкий смысл Всего.
Дополнением вышесказанного в философии является система, утверждающая, что все системы в некоторой степени истинны, что все идеи относятся к некоторой реальности, что нет ничего всецело ложного или иллюзорного. Убедительное объяснение начинается и заканчивается высказыванием, что вода была полностью нереальна, что в реальности был только песок и ничего кроме песка. Философская система должна нести в себе некоторое зерно, должна отбирать и отрицать, а также принимать истинность некоторых других систем и систематический философ не может позволить большому кругу быть настолько большим, насколько ему этого хочется. Он должен ограничивать этот круг пристальным вниманием к маленькому кругу.
Следовательно, идеал объяснения должен совмещать две взаимно противостоящие цели: удерживать то, что объясняется, в целостном виде, по мере того, как оно возникает, и в то же самое время, сводить его, насколько возможно, к тому, что уже известно, о чем есть знания, или, говоря обобщенно, к тому, что считается первичной реальностью. Игнорировать первое требование — значит подвергаться опасности, которая настигла "квартет Бетховена", опасности, которую формально можно определить так: если А объясняется через редукцию (А подводится под "пред-установленные " законы или разбивается на "приемлемые " компоненты) как реальное abed, и если, исходя только из abed, невозможно вернуться к А, не зная предварительно способ, которым А вообще возникло — тогда то, что объяснялось, было не А, но в лучшем случае только аспект А. В нашем несколько утрированном примере о квартете Бетховена вряд ли возможно от понятия конского хвоста и кошачьих внутренностей прийти к заключению о чем-то музыкальном (не говоря уже о квартете), если только мы с самого начала не знаем, что скрипичные струны и смычки производятся именно из таких вещей. Опасность здесь кроется в недостаточной дифференцированности границ "основной реальности" мира как его видит система. С другой стороны, игнорировать
второе требование — значит остановиться на объяснении феноменов как они предстают перед нами. Такой способ философствования — это "негодный брат" феноменологии, которого можно назвать "феноменог-рафией"2. В такой философии наблюдается соответствующая неспособность отстаивать точку зрения. Ведь если точка зрения доказывается, то подразумевается, что ее отрицание противоречит предпосылкам или утверждениям, происходящим из предпосылок в системе (большой круг). Но поскольку маленький круг, если его размеры слишком велики, очерчивает систему, в которой мы имеем избыток первичной реальности, то для всех "сущностей" и утверждений о них существует тенденция, что они будут поглощены целиком, по мере того, как возникают. Доказательство ведет к уподоблению. Дополнительная тенденция в такой философии — быть только экспликацией или раскрытием — обостряет эту ситуацию, ибо мы постоянно теряемся: что считать предпосылками, а что — происходящими от них утверждениями?
Феноменография возникает тогда, когда маленький круг начинает бесконтрольно увеличиваться, когда критерий первичного факта становится бесконечно размытым. В таком случае вообще исчезает возможность появления большого круга, и вместе с этим исчезает сама возможность системы, хотя такая попытка и предпринимается. Результат здесь энциклопедический, а не объясняющий. Может показаться, что феноменология с ее сознательным игнорированием попыток редукции — ее не следует путать с гуссерлевской феноменологической редукцией как методом устранения редуктивного и интерпретативного элемента в изучении феноменов — должна быть готова к такого рода обвинению. Однако существует разница между принятием сущности или феномена как он есть, и методичным поиском сущности феноменов, как они предстают перед человеческим сознанием. Это аналогично разнице между тем, чтобы принять Бога как бытие высшей реальности и исследовать сущность феномена веры-в-Бога; а также разнице между принятием феномена веры-в-Бога как мирского объекта и исследование сущности веры, переживаемой верующим. Следовательно, это разница между принятием бытия как первичной реальности со всей авторитетностью первичного акта и исследованием содержания сознания с тем, чтобы открыть сущностную феноменальную структуру бытия. В первом случае исследование останавливается радикально быстро, факт, что нечто является реальным — это стандарт; в последнем случае исследование длится, пока "чистый опыт... с его сущностью"3 не станет различимым. "Решающий фактор состоит прежде всего в абсолютно точном описании того, что действительно находится в феноменологической чистоте и в отстраненности от всех интерпретаций, которые трансцендируют данность"4.
Теперь можно сформулировать скрытое здесь различие между "объяснением" и "пониманием". Понять сущность, феномен, идею или опыт — значит подойти к объекту понимания на его языке, увидеть в нем структуры, возникающие из него самого, а не из нас. Понять объект — значит участвовать в нем, пока он не откроет свою сущность понимающему. Важнейшим требованием для осуществления этой зада-
чи остается "удерживаться от всех интерпретаций, которые трансцен-дируют данность". И редуктивная, и "феноменографическая" философия с их слишком маленьким и слишком большим первичным кругом не в состоянии осуществить это. Первая потому что стремится редуцировать явления к некоторым предельным основаниям5 или первичной реальности. Последняя — в силу менее очевидной причины: вместе с явлением она "регистрирует" и все его интерпретации, поэтому она представляет не явление каким мы его видим, но явление, инкрустированное трансцендируюшими его ссылками и интерпретациями, то есть явление как уже редуцированное.
В объяснении феномены как они есть, трансформируются в том смысле, что они либо подводятся под законы, относящие их к другим явлениям, либо разбиваются на части, где каждая рассматривается как более реальная, чем конфигурация частей, составляющих феномен, о котором идет речь. Оба пути объяснения могут быть названы редукцией, поскольку явление не сохраняет целостность и отдельность.
Возможно, покажется странным рассматривать возможность полного объяснения чего-либо без предварительного его понимания. Я подразумеваю под этим следующее: предмет объяснения редуцируется к тому, что уже понято. Безусловно, мы понимаем объясняемое явление но только потому, что оно соотносится, редуцируется и трансформируется в нечто уже понятное для нас, вероятно тем же путем, в первичном смысле понимания как мы его обозначили выше.
Естественные науки как объясняющая система
В контексте вышеизложенных определений естественные науки могут рассматриваться как одна из многих объясняющих систем в истории мысли, или, если быть более точным, как класс объясняющих систем — физики, химии, биологии и т.д. Объясняющей системой мы можем назвать ту, в которой первичный круг невелик и хорошо определен. Например, физика:
Первый шаг Галилея заключался в абстрагировании. Только материальный аспект вещей и мира вообще не берется во внимание. Единственный предмет изучения — это пространственные конфигурации и пространственно-временные события6.
Здесь только один аспект явлений, процессов, вещей имеет привилегированное значение первичного факта: пространственно-временной. В физике малый круг — правило трансформации феноменов — является таковым, что все феномены, объясняемые в систематической связи с большим кругом (физикой в узком смысле слова) сначала редуцируются к пространственно-временному аспекту. Это общее понятие объективного пространства-времени самого по себе есть результат иной предпосылки, не самой физики, но естественных наук в целом, рассматриваемых как объяснительная система; и эта более фундаментальная предпосылка — та, что определяет материальность.
В биологии понятие материальности претерпело дальнейшую модификацию. Вместо вещей здесь изучаются организмы, которые представляют собой особый род вещей, но все же остаются вещами, то есть явлениями, рассматриваемыми в объективном пространстве-времени. Для до-холистической биологии организм — это сложная вещь, внутри которой находятся процессы и более мелкие "вещи" (снова только в смысле объективного пространства-времени). Там, где в физике мы имеем силы, в биологии — инстинкты, тропизмы и влечения (драйвы); там, где в физике мы имеем элементарные частицы, в биологии — гены и т.д. Первичный круг биологии — это модификация первичного круга физики: нередуцируемая для биологии реальность — это пространственно-временная вещественность так, как она функционирует в живом организме, который сам является сложнейшей пространственно-временной вещью.
Науки — это представители одной большой объясняющей системы, в которой каждая отдельная наука представляет спецификацию основного круга, определяющего объясняющую систему естественных наук как целое.
Переходя к исследованию первичного круга гипотетической дисциплины как "науки вообще", вместо главного основания мы обнаруживаем почти методологическое правило в роли первичной предпосылки и микро -конституирующего правила трансформации феноменов. Недостаточно просто классифицировать данное явление как эмпиризм или требование принимать как данность то, что воспринимается чувствами или имеет прямое отношение к чувственному восприятию. Ведь само понятие "чувственного восприятия" — одно из сложнейших в современной науке, и оно не может быть приравнено к "восприятию" в повседневной жизни. Концепция чувственного восприятия — это результат более глобального правила, а именно — предписания максимально устранить воспринимающего от воспринимаемого, дабы получить знание о нем. Корни такого предписания можно обнаружить не только у Галилея, изучавшего пространственно-временные процессы в качестве реальности7, но также, что еще более поразительно, у Декарта, который, отделив сферу сознания от сферы тела и воспринимаемого мира, приходит к понятию чистой материальности, и она, независимая теперь от сознания, доступна математическому познанию.
Если продолжать поиск этого главного основания, к которому сводятся все явления, попадая в сферу научного объяснения, то мы найдем в качестве такового именно чистую материальность. Но, по крайней мере, столь же важно помнить, что понятие чистой материальности является продуктом настроения, точки зрения или методологического предписания: самость находится вне своего мира, когда познает "мир". Мы еще вернемся к этому, когда будем говорить о научном мировоззрении.
Что касается "большого круга" науки, науки в узком смысле слова, то есть содержания научного знания, то первый вопрос, который мы должны здесь задать — на самом ли деле это круг? Ведь наука, прежде
всего — это дисциплина незаконченная, "прогрессивный исторический процесс, который проходит один этап за другим, [приближаясь] к идеальной цели, а именно — к "природе как она есть"8. Аргументом против того, чтобы полагать науку кругообразной, является ее незаконченность и, возможно, это относится к самой ее сущности, поскольку верификация — основа научного теоретизирования — принадлежит будущему. То, как Зоннеманн характеризует астронома, может быть применимо ко всем естественным наукам:
Движения и размеры небесных тел даны наблюдающему таким способом, что контекст количественных законов, управляющих четырехмерным регионом, в котором производятся наблюдения, может быть абстрагирован от них и снова приложим к ним, делая возможными верифицируемые предположения9. (Курсив мой.)
Иначе говоря, абстрагируется из феномена лишь то, что может быть применено, проверено. Это, бесспорно, кругообразное занятие, хотя и не "порочный круг". Такой круг стал бы "порочным" в случае, если законы, абстрагированные от фактов, сами конституируют факты в дальнейшем, в результате чего невозможна верификация, что и произошло, например, с развитием астрономии Птолемея, в которой рассматривались только совершенные кругообразные' движения планет.
Мы могли бы, скорее, грубо описать кругообразность современной науки как доказательство от А (наблюдения) до В (абстрагированные законы) до А' (иные наблюдения, в том числе и А). Требование состоит в том, что А' в том же духе, что и А без того, чтобы В влияло на подбор и регистрацию А'. Таким образом, возникает одна любопытная проблема относительно того, что же все-таки подтверждается в верификации: законы или наблюдения.
Если можно говорить о "разомкнутом круге" (спираль?), или о "круге в объективном времени", то именно с этим мы и сталкиваемся. Факты сами по себе не существуют вне теории, и в известной степени они конституируются теорией; теория же имеет силу настолько, насколько она согласовывается с фактами. "В этом процессе наблюдаются постоянные взаимные уступки между тем, что мы считаем установленным фактом, и возможными гипотезами. Мы не только исключаем гипотезы, несообразные с фактами, но и применяем теоретические аргументы, дабы корректировать показания наблюдений или результатов экспериментов"10.
В общем, маленький круг науки требует редукции феноменов к факту, под фактом же подразумеваются феномены, отделенные от сознания и личности. Большой круг устанавливает факты более детально, снова и снова применяя теории, которые сами по себе частично конституируют и разъясняют факты.
В буквальном, а не метафорическом смысле.
Возможность психологии как естественной науки
Психология, наука о человеческом сознании и поведении, оказывается в напряженном положении. С одной стороны, она хочет быть "объективной", занять свое место среди естественных наук, таких, как биология и химия. С другой стороны, она хочет изучать то, что наука со времен Декарта и Галилея требует изъять из поля исследования: душу, психику, сознание.
В психологии феномены, редуцированные первичным кругом науки, принадлежат к тому же классу, что и само исследование.
В отличие от физики, психолог... исследует процессы, принадлежащие к тому же общему порядку — восприятие, познание, мышление — как и те, посредством которых он проводит свое исследование11.
Опасность состоит в том, что научный метод принимается как конституирующий природу мышления или восприятия, которое, по утверждению человека, открыло ему истину, и, противореча научному мышлению, рассматривается как "только субъективное" или "проективное". Психолог не может согласиться с тем, что его путь к истине может быть вытеснен любым другим способом мышления или восприятия. Если же он, стремясь быть открытым исследуемым явлениям, допускает такую возможность, то в этом допущении содержится предположение, что какой-либо другой метод, скажем, художественный или интуитивный, может возражать его собственному методу и отрицать результаты его исследования.
Психолог пытается вернуть в поле исследования то, что Декарт изъял из него. Объективный мир, мир rex extensa — это мир, в котором есть сознание и личность, наперекор всем попыткам их оттуда изъять. Научный метод не может редуцировать то, что, собственно и осуществляет саму эту редукцию, а также сознавание, мышление, восприятие, то есть самость. Психология не в силах объяснить эти процессы тем же порядком, что и те, посредством которых проводится исследование, с самого начала не предписывая им некоторые свойства; не устанавливая предварительных требований для данных. Будь это не так, круг был бы "порочным", как в случае с птолемеевской астрономией.
Может показаться, что единственная возможность для психологии быть естественной наукой — это принять формы бихевиоризма, где сознание исключено из поля исследования. Бихевиоризм твердо придерживается естественнонаучных предписаний; бихевиорист исследует материальные объекты, в которых исключается участие воспринимающего. В общем, в бихевиоризме самость изъята из мира, который она изучает. Скорее всего, это научный метод. Но психология ли это? Если самость исключается, а сознание лишено смысла, если все, что мы переживаем как "субъективное" не только не объясняется, но вообще устраняется из поля исследования, то это уже не наука о самости, не психология, а набор теорий о поведении человека, которые в принципе
можно проверить только избегая самого источника верификации — сознательного субъекта.
Сказать, что наука предписывает полное изъятие индивидуального субъекта из исследования, и что сознание, мышление сами по себе могут быть изучены отдельным индивидом настолько, насколько отдельный исследователь в качестве ученого удерживает свою собственную субъективность вне исследования, — значит не очень-то разрешить проблему. Ибо, я повторяю, психолог стоит за истиной о мышлении, восприятии и т.д. "Редуцировать себя" к ученому — и только к ученому — который сориентирован на свой предмет так же, как физик на свой — значит автоматически исключить из поля зрения данные, среди которых могут быть концептуальные формы, противоречащие тем, которые направляют все исследование12.
Эту трудность можно сформулировать так: редуцировать (то есть трансформировать) феномены, принадлежащие к тому же общему порядку, что и источники систематической структуры, применяемой для объяснения редуцированных феноменов, сущностно недопустимо. Единственный способ думать о мышлении — наблюдать его. Но к чему еще концептуально может быть редуцировано мышление, как не к себе самому? Объяснять мышление, трансформируя его — это потерять феномен мышления. А сохранить его неповрежденным — значит отказаться от естественнонаучного метода, в мире которого нет места сознанию, первопричинам и т.д.; сохранить — значит нарушить очертания первичного круга науки и принять как нередуцируемую реальность то, что наука трансформирует во что-то еще.
Таким образом, психология как естественная наука терпит неудачу из-за небольших размеров ее первичного круга по сравнению с многообразием вселенной. В такой психологии мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в случае объяснения квартета Бетховена через понятия конского волоса и кошачьих внутренностей. Эта трудность — то, что мы не можем от объяснения вернуться к тому, что, собственно, объясняется без предварительного знания о том, чем оно должно быть, дабы мы могли его объяснить.
Дилемма психологии подобна дилемме любой другой дисциплины, следующей положениям естественных наук, предмет изучения которой — сознание. Радикальное различие между предметами изучения в физике, биологии и т.д. и, с другой стороны, в психологии, истории и литературной критике состоит вот в чем: если в физике любые данные не имеют смысла до тех пор, пока не будут соотнесены с другими данными через концептуальную схему и гипотезу, то в психологии любые данные — восприятие, мысль, эмоция — имеют свое собственное значение для воспринимающего, мыслящего, чувствующего — для человека.
На языке феноменологической психологии это будет выглядеть так: изменение ясным образом не указывает, не относится и не подразумевает что-то вне себя, тогда как акт сознания сущностно интенционален, он сущностно относится к чему-то вне себя (Брентано, Гуссерль). Наука, скажем, физика, когда она имеет дело с объектами интенционалъных
актов, с предметами, поступает правильно, устраняя интенцию в объекте (наука избавляется от мира сознания). Астроном не редуцирует акт восприятия звезды; он не редуцирует ее красоту и романтичность. Он просто игнорирует эти качества, поскольку они представляют характеристики осознания мира, бытия-в-мире, интенциональньгх актов*.
Объекты в физическом пространстве-времени не отсылают к чему-то вне себя, им приписывает эту референцию научная теория, и объясняется тут мир, представляемый только как предмет. С другой стороны, психолог, следующий принципам науки, может только увидеть сознание за каждым качеством, конституирующим его сущность, его интенцио-нальность. Чтобы оставаться до конца эмпириком, психолог должен сохранить "трансцендентность", то, к чему отсылают процессы сознания — словом, их значения — для самости, в которой они происходят. Если психология и может существовать как естественная наука, то только сохраняя значения тех восприятий и мыслей, которые являются предметом ее изучения. Она может потом пытаться связать эти значения в концептуальную схему, но ее первичный круг, ее правило трансформации феноменов, не должно опускаться ниже уровня значения-для-са-мости. Словом, она должна понимать больше, чем стремится объяснить. Она не должна предписывать субъекту, как это часто происходит в психологическом эксперименте, способ восприятия объекта, если предмет ее интереса — это не только восприятие в экспериментальных условиях. Гештальт-психология была шагом вперед в направлении изучения восприятия, мышления, познания именно в контексте значения. Она также продолжала отделять "перцептуальное" от "эмоционального". И поэтому Gestalten тоже представляет подсознательный меньший круг, в котором первичная реальность, хотя здесь она является значением-контекстом, не есть еще тем значением-контекстом, в котором восприятие и мышление имеют место в "повседневной" жизни и сознании. Именно Фрейд, будучи человеком науки, принял в качестве основных явления, переживаемые людьми как существами, наделенными сознанием. Здесь, однако, мы покидаем сферу естественной науки как она
* С другой стороны психолог, пытаясь подражать ученому, не игнорирует, но трансформирует сам акт восприятия, пока, как например в радикальном бихевиоризме, восприятие красоты звезды и ее романтичности не становится моделью движений физического объекта с двумя ногами и руками. Могущество физики проистекает частично из ее отказа от сознания и его мира: звезда не красива, и не романтична; она — четвертая по величине туманность, окруженная газами XYZ. Слабость научной психологии происходит из того же самого источника, из которого черпает силы физика: звезда воспринимается как красивая и романтичная; восприятие — это не процесс синтезирования оттисков на сетчатке глаза, а также оптической ориентации в перспективе и расстоянии, но еще меньше это возможная модель движений или поведения бесперого двуногого существа. Любое объяснение, которое в конечном счете утрачивает восприятие красоты звезды не может претендовать на успех в объяснении восприятия. Психология, если она стремится иметь дело с сетчатками, световыми волнами и тому подобными вещами — это неврология, физиология или биохимия — что угодно, но не наука о сознании.
есть — науки стремящейся объяснять. Мы попадаем в сферу психотерапии — отрасли медицины, краткую характеристику которой мы попробуем сейчас очертить.
Наука медицины
Мы можем описать медицину как отрасль биологии человеческого организма, которая имеет дело с биологическими целями, нормами и ценностями. Согласно Бинсвангеру, медицина отличается от чистой естественно-научной биологии: "Здоровье и болезнь —это системы ценностей, объекты суждений, основанных на биологической цели..."13 В применении к организмам, отличным от человеческого или так называемого "очеловеченного" (домашние животные), различие между медициной и биологией не является плодотворным, то есть объяснение биологических явлений часто исчерпывает рассмотрение их цели или ценности. Появление, скажем, некоторых микроорганизмов во внутренностях акулы может быть объяснено тем фактом, что в этих внутренностях наблюдаются определенные условия, крайне благоприятные для этих микроорганизмов. Тот факт, что наличие микроорганизмов приводит к неправильному функционированию пищеварительной системы акулы, и в конечном результате к ее гибели, является нерелевантным. Если мы не заинтересованы в том, чтобы акулы жили как можно дольше, то факт их гибели не имеет никакого значения в данном контексте. Следовательно, биология —это наука о организмах, в которой отсутствует центр с помещенным в него каким-либо видом организма. Медицина — это биология, в центре которой находится избранная группа организмов. Например, медицина растений или собак и т.д. Бесспорно, медицина, как мы ее чаще всего воспринимаем — это биология с особенным отношением к человеку и его жизни.
Значит, медицина есть биология со специфическим отношением и центром референции. Для поддержания жизни в человеке и избавления его от (физического) страдания медицина редуцирует его к объекту природы, она ищет то, что приносит ему страдания или угрожает его жизни в природных объектах и пытается устранить эти причины. "Этим объектом природы является организм в смысле тотального контекста существования и функционирования человека"14.
Если мы будем говорить о меньшем круге, в котором, по сравнению с физикой, наука медицины столь не систематична, что появляется соблазн рассматривать ее как спецификацию биологии. Нередуцируемой реальностью для медицины есть пространственно-временная предметность, поскольку она функционирует или имеет отношение к сложному (в ряду дургих) организму человека. Такое описание способа, которым медицина изначально работает с явлениями, не дает оснований отличить ее от, скажем, физиологии. Чего недостает в таком описании —так это ценностного контекста, в котором функционирует медицина, рассматриваемая как наука исцеления. В отличие от других наук, в медицине
явления трансформируются не в факты, но в симптомы, определяющие здоровье, болезнь или нарушения в функционировании. Симптомы поэтому можно назвать биологическими фактами, отсылающими к функционированию специфического организма (человека). Это означает, что в медицине биологические факты наделяются телеологическим значением — ради здоровья организма.
Наука психоанализа
В свете всего упомянутого выше, я хотел бы сосредоточить внимание на психоанализе, обозначая те ограничения и силу, которые, по мнению Бинсвангера, ему присущи, а также то, как именно Бинсвангер предлагает Dasein-анализ в качестве необходимого к нему дополнения.
Дилемма естественнонаучной психологии (которую Бинсвангер называет contradictio in adjecto15) была сформулирована выше так: пытаясь быть объективной наукой, сущность которой — полная трансформация феноменов в факты, лишенные сознания или самостоятельного значения ради математического рассмотрения этих явлений, психология обнаруживает, что предмет ее изучения принадлежит к тому же порядку, как и тот, что придает форму самому исследованию. Дабы избежать обусловливания данных, она вынуждена оставить свой пред-установленный метод — а вместе с ним и претензию на следование естественным наукам. Следуя научному методу, психология может только изъять из рассматриваемых явлений сознание, мышление, восприятие, волю — а значит, лишить их сущностной природы — интенциональности, указывающей по ту сторону явления на объект. Следовательно, все что она может — это разрушить значение явлений сознания для самости, а именно их она и стремится объяснить. В лучшем случае она может только редуцировать эти феномены к таковым, которые соответствуют тем явлениям сознания, посредством которых она осуществляет исследование.
Психология как естественная наука поэтому сталкивается с явно абсурдной и противоречивой задачей исследования сознания как принадлежащего к сфере res extensa, ибо сущность картезианского res extensa — это именно то, что предстает перед сознанием и существует независимо от сознания; словом, психология должна лишить сознание себя самого для того, чтобы научно его исследовать.
Именно эту на первый взгляд саму себе противоречащую задачу осуществил Фрейд. Чем является его концепция бессознательного, как не попыткой рассматривать сознание в качестве сущностно принадлежащего сфере res extensa?'.
* Проводить здесь различие между сознательным и ментальным — это не более чем вопрос терминологии. Мы хотим сказать, что Фрейд вернул сфере возможного научного исследовали то, от чего картезианская наука особенно настойчиво пыталась избавиться. Мы можем называть это как угодно — ментальностью, сознанием, душой и т.д. См.: Freud, "The Unconscious", trans, by Cecil M.Baines, in: Collected Рарек (New York, 1959), Vol. IV, pp. 98-100.
Психоаналитическая спекуляция связана с фактом, получаемым при исследовании бессознательных процессов и состоящим в том, что сознательность является не обязательным признаком психических процессов, но служит лишь особой функцией их16.
Поэтому, в отличие от описанной выше естественнонаучной психологии, в случае Фрейда научный метод с самого начала не рискует посягать на данные или предписывать им что-либо. Позже мы убедимся, что это тоже способ предписывания, правда, особенного рода — ради излечения — и что такое предписывание не обязательно заслуживает осуждения. Как только большая часть психических процессов выносится за пределы прямого опыта сознания, они тут же подлежат наблюдению и рассмотрению при помощи научного метода — фактически, они поддаются даже математическому рассмотрению. Нам нужно процитировать всего один пассаж из Фрейда, чтобы убедиться, насколько он был склонен к идеалу математики:
Как будто сила сопротивления им [производным репрессии] со стороны сознания обратно пропорциональна их отдаленности от того, что изначально подавлялось17.
Так можно избежать первой половины очерченной выше дилеммы психологии. Фрейду удается избежать и второй половины. Ментальные акты, чувства, мышление, восприятие — все явления сознания — не лишаются их значения-для-самости. В таких психологических школах, как бихевиоризм или павловская психология, явления сознания разбиваются на "объективные" составляющие таким образом, что их значе-ние-для-самости становится нерелевантным, тогда как Фрейд рассматривает именно эти значения как часть предмета исследования в психоанализе. Это станет более явным, если рассматривать психоанализ в качестве объясняющей системы.
Первая задача — понять то, что мы описали выше как меньший круг этой системы, правило трансформации, которое определяет редуциру-емость тех или иных явлений. Этот аспект научного объяснения был отмечен Фрейдом в начале его работы "Судьбы влечений":
Начало научной деятельности состоит в том, чтобы описать явления и потом перейти к их классификации и соотнесению. [Больший круг.] Уже на этапе описания не представляется возможным избежать приложения абстрактных идей, которые происходят из различных источников, безусловно, не являющихся плодами только новых опытов. [Меньший круг]18. (Курсив мой.)
Мы уже отмечали то, что каждая отдельная наука в качестве меньшего круга выбирает принцип устранения самости или сознания из мира. Мы также отметили, что Фрейд неукоснительно придерживается этого требования, как следует из его учения о бессознательных психических процессах. Однако понятие бессознательного есть постулат, находящийся в систематической структуре психоанализа, в большем круге; это гипотеза, благодаря которой можно связать определенные факты о снах, гипнозе и тому подобных вещах19. Что нам нужно здесь, так это нечто
еще более фундаментальное, то, что обозначает сам способ установления фактов. Учение о бессознательном, будучи гипотезой большего круга, само должно исходить из более фундаментальной предпосылки, которая еще более вопиющим образом изымает сознание и самость из поля исследования и поэтому более радикально следует главному требованию картезианской науки — "объективности".
Нам не нужно идти дальше самого Фрейда, чтобы обнаружить ясное и подробное изложение его самой фундаментальной предпосылки, которую мы называем меньшим кругом: "В нашем методе наблюдаемые явления должны занять второе место по отношению к силам, которые только лишь гипотетичны"20. Эти Strebungen являются влечениями, инстинктами, "... чья изначальная природа одинакова у всех людей, и она направляет человека к удовлетворению первичных потребностей"21. Следовательно, психоанализ — это наука, объясняющая психические феномены изначально редуцируя их к инстинктивному компоненту. Меньший круг психоанализа трансформирует явления, с которыми он сталкивается (описывает)*, в их функцию по отношению к влечениям и потребностям.
Здесь очень важно отметить, что влечения и инстинкты, эта первичная для психоанализа реальность, хотя и представляет концепцию, происходящую прямо из биологии, является целенаправленной, интенци-оналъной реальностью. Инстинкт направлен на объект; это не похоже на объективные процессы (как в физике), на что-то не имеющее значения или референции к чему-то вне себя и требующее убедительного соотнесения с иными данными. Инстинкт отсылает вне себя к своему удовлетворению. Поэтому явления, объясняемые в психоанализе, никогда не редуцируются дальше уровня интенциональности, а это именно то, на что не могут претендовать предшествующие естественнонаучные школы психологии**.
Так, у Фрейда явления сознания, будучи интенциональными, редуцируются к инстинктам, которые также интенциональны. Вряд ли возможно редуцировать эти явления к другому виду явлений сознания —
* Пример того, как в психоаналитической теории меньший круг трансформирует явления, с которыми сталкивается (описывает) можно найти на с. 213 книги Рональда Флетчера (R.Fletcher) "Инстинкты человека" (Нью-Йорк, 1957): "В завершение этого рассмотрения "ментальных механизмов" должно быть отмечено то, что, как мы уже говорили выше, эти механизмы не объясняют процесс, посредством которого индивид приспосабливается к требованиям окружающей среды, но являются только описательными понятиями, обозначающими то, каким образом происходит этот процесс приспособления".
** Интересно здесь то, что понятие инстинкта само происходит из большего круга другой науки, биологии. В биологии понятие инстинкта явлется гипотезой, которая связывает воедино определенные явления высокосложного образования — организма. Я думаю, что было бы интересно в отдельном исследовании провести аналогии такого рода относительно развития и взаимозависимости других наук, в которых элементы, принадлежащие большему кругу — теоретической структуре — одной науки становятся определяющими по отношению к меньшему кругу другой.
то есть сказать, что все психические акты основаны на трансформациях психической тенденции, сущность которой предполагает сознание и возможность само-сознавания. В таком случае простого самонаблюдения, в принципе, было бы достаточно, чтобы доказать или опровергнуть данную гипотезу. Инстинкты должны иметь источник в не-сознатель-ном для того, чтобы осуществить свою объясняющую роль, редуцируя явления и позволяя им быть "...поглощенными предполагаемыми силами, побуждениями и управляющими ими законами"22.
Кроме этого, для того, чтобы не допускать уменьшения в размерах меньшего круга, "первичнаяреальность", инстинкты, должна быть того же рода, что и редуцируемые явления сознания. Чтобы завершить адекватную объясняющую систему, в которой обе тенденции объяснения занимают надлежащее место, Фрейд постулирует бессознательные ментальные акты. Проблема, которая появляется перед нами теперь, — как установить различие между сознательным и бессознательным интенци-ональным актом или ментальным процессом. Велик соблазн предположить, что, поскольку все акты такого рода должны иметь "действующую силу", то мы можем провести это различие, заявив, что движущая сила в бессознательном ментальном акте отличается от таковой в сознательном акте, — но не следует поддаваться этому соблазну, ибо он влечет за собой трудности в формулировании понятия движущей силы, которая не есть самость, хотя осуществляет те же функции, что и самость. Скорее различие между сознательным и бессознательным ментальным актом должно быть проведено более широко в этом же направлении: интенциональный акт with no agent (без деятеля) является бессознательным; а тот, из которого "проистекает" сущностная референция к agent (деятелю), является сознательным.
Таким образом, в этом контексте мы можем определить инстинкты (Triebe) как интенциональные акты, не имеющие первоначального сущностного отношения к действующей силе — самости. Это более точная спецификация меньшего круга, правила трансформации данных. Выше я говорил о необходимости сохранения значения-для-самости в качестве нередуцируемых данных в объяснении явлений сознания. Если рассматривать значение в широком феноменологическом контексте как направленность или отсылку акта за пределы себя самого (например, мышление — всегда мышление о чем-то, восприятие — всегда восприятие чего-то), мы увидим, что меньший круг фрейдовской системы сохраняет значение, но не для индивидуальной самости. Психоаналитическая теория, акцентируя сходство людей и ментальных феноменов, может говорить о значении любви к матери, о ноже как символе фаллоса, об отцовстве. Именно так возникает набор значений, которые объясняются и объединяются в большем круге, и используются в качестве стандарта, к которому редуцируются индивидуальные значения, значения для пациента. А это значит, что сущностная отсылка интенциональности к агенту-самости стирается постулированием вместо него формы интенциональности (инстинктивности), для которой упомянутая отсылка не является
конститутивной. Интенциональность (значение) сохраняется; индивидуальная самость лишается своей уникальности.
Подводя итоги этого раздела, можно сказать, что психоанализ является объясняющей системой, которая остается верна основному требованию науки Декарта и Галилея — изъять самость и сознание из поля исследования. Предметы психоанализа — "самость" и сознание (интенциональные явления), как объясняемые явления до определенной степени сохраняют свою целостность. Поэтому меньший круг (главная предпосылка психоанализа) становится правилом редуцирования феноменов к такой интенци-ональности, в которой нет сущностной референции к агенту-самости. И редукция, и сохранение целостности феноменов осуществляются в "меньшем круге средних размеров". Такая интенциональность исходит из биологической теории, из понятия инстинкта.
Бинсвангер о Фрейде
Все вышесказанное поможет объяснить, почему Бинсвангер считает Фрейда первым мыслителем, который основательно разработал идею человека как homo паЦга. (Это главная тема эссе Бинсвангера под названием "Фрейд и его концепция; человека в свете антропологии", которая входит в эту книгу.) "Основательно" — потому что Фрейд пошел намного дальше пространных суждений, относящих человека к органической природе; фрейдовские теории связывают редуцированные явления психической жизни с тем, что я выше описал как больший круг науки. Фрейдовские теории о структуре психического аппарата, о принципе удовольствия, об исполнении: желаний и репрессии, составляют этот больший круг. Говоря, например, об отношении работы сновидений к желанию, Бинсвангер пишет:
То, что работа сновидений ... может быть запущена только посредством стимулов желания, представляет собой как необходимый постулат существования психического аппарата, так и подтверждаемый опытом факт. Если это кажется вам порочным кругом, тогда вы не поняли научный метод в целом. Подобно тому, как понятие психического аппарата служит теоретическим резюме реальности опыта, так и "опыт" выступает теоретической верификацией этого резюме. Примером этого круга служит естествознание^.
Сравнительно более детальным изучением содержания большего круга собственно психоанализа и его отношения к понятию экзистенциального a priori мы займемся ъ последующих главах. Здесь я хочу показать ту радикальную степень, до которой Фрейд (в понимании Бинсвангера) редуцирует человека и объясняет его в качестве homo natiira, творения органической природы.
Сначала Бинсвангер проводит интереснейшую аналогию между Фрейдом и Локком24. Там, где Локк задает вопрос о том, насколько далеко простирается способность человека в сфере знания, Фрейд ставит вопрос о способности человека к цивилизации, культуре. Там, где
Локк ищет метод истинного знания, Фрейд ищет метод правильной жизни в отношении к цивилизации. Там, где Локк исходит из сомнения в том, что цель всеохватывающего знания достижима, Фрейд сомневается, достижима ли цель полной способности к культуре в человеке. Для обоих психическая жизнь представляется "движением" согласно законам ее более простых элементов — образов у Локка и инстинктов у Фрейда. Оба они в строгом смысле психологические эмпирики, укорененные еще в Декарте. Оба отрицают метафизические гипотезы как пагубные. Оба имеют господствующую, сенсуалистическую, номиналистическую и т.п. ориентацию.
Аналогия между Локком и Фрейдом резюмируется бинсвангеровским приложением к Фрейду перефраза локковского "nihii est in intellectu, quod non feurit in sensu". (Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах.) По отношению к Фрейду это будет выглядеть так: "niliь est in nomine cultura, quod non feurit in nomine natura". (Нет ничего в человеческой культуре, чего не было бы в человеческой натуре.)
Бинсвангер проводит еще более решительную аналогию, когда речь идет о фрейдовском tabula rasa. Важное свойство, которое Фрейд приписывает понятию tabula rasa заключается в том, что для Фрейда "в новорожденном младенце уже есть определенный биологический оттиск на этой дощечке, отпечаток, согласно которому происходит последующее культурное развитие"25. Этот Zeichnung (оттиск), безусловно, начертан инстинктами, понятие о которых, как уже отмечалось, формирует фундаментальную предпосылку психоанализа. Редукция всех аспектов жизни человека к биологии, к инстинктам, сама по себе не осуждается Бинсвангером. "В этом заключен подлинный естественнонаучный дух, — пишет он. — Естественная наука никогда не начинается исключительно с явлений; в действительности ее основная задача заключается в том, чтобы лишить явления их феноменологических черт как можно быстрее и полнее"26. В качестве подлинно научного метода Бинсвангер рассматривает и
... тенденцию фрейдовской теории уравнивать или сравнивать различные аспекты, составляющие сущность человеческого бытия, приводя их к уровню общих потребностей или нужд и психического значения этих потребностей27.
Степень этого приравнивания или редуктивно-объясняющего процесса нигде не прослеживается так явно, как в фрейдовском понятии ид, наиболее глубокой и главной психической реальности. Структура индивидуальности больше не является роем безликих процессов или интенциональных актов.
В глубине индивидуальная жизнь также хаотична, непроницаема и недоступна и поддается описанию только в виде противопоставления или противоположности "организованному" эго. Она подобна "котлу кипящего возбуждения"28.
Таким образом, приравнивание человека к homo natura структурирует его как сущностно безнравственного, несвободного, иррационального и неисторичного. Нравственность, свобода, рациональность и историч-
ность — именно те качества, которые наука со времен Декарта и Гал-лилея изымает из вселенной вместе с сознанием и занимается исключительно res extenso.
Мы уже говорили о том, что интенциональные акты (значения) как феномены психической жизни редуцируются к иного рода интенцио-нальным актам — к инстинкту. Объект, на который направлен инстинкт, хотя и не исходит из агента-самости, но ясно выражается Фрейдом как вожделение, удовольствие. Так, в фрейдовской научной теории значения, как они переживаются человеком, редуцируются к единственному роду значений, к желанию29.
Медицинская психология: психопатология
Бинсвангер видит главную услугу, которую Фрейд оказал науке, так же, как видел ее и сам Фрейд30:
Основное значение он придавал не "практической задаче" интерпретации символов, а скорее "теоретической" задаче объяснения предполагаемых "операций" отдельных форм функционирования психического аппарата31. (Курсив мой.)
Более того,
...доктрину Фрейда выделяет его попытка показать что следует в качестве механического детерминизма из данных особенностей естественной организации человека, и столкновения этих особенностей с факторами окружающей среды}-.
Согласно Бинсвангеру, после этого "разоблачения механизма" мы попадаем в сферу медицинской психологии и психотерапии.
Здесь детерминизм узурпирует место свободы, механистичность -— место рефлексии и принятия решения. И с этим мы оказываемся в сфере медицины. "Как плохо в действительности пришлось бы нашему здоровью — говорит Лотце в своем известном научном труде об инстинктах, — если бы его защитником была рефлексия, а не механика"33.
Что касается вышеизложенной дискуссии, то нам остается только подставить ценностную концепцию психического здоровья в меньший круг психоанализа, чтобы увидеть, как осуществляется переход от теоретической структуры к практической дисциплине. Инстинкт направлен на удовольствие. Неудача в достижении этой цели выливается в боль, беспокойство и т.д. Здоровье поэтому становится способностью удовлетворять цели инстинктов настолько, насколько это возможно в пределах цивилизации, чья сущность предполагает препятствия на пути удовлетворения34. Психологические факты становятся симптомами точно так же, как в соматической медицине симптомами становятся физиологические факты.
Искажение данных, о котором мы гневно говорили выше в связи с не-психоаналитической психологией, становится определяющим для
самой цели медицины. Мир, как он представляется пациенту должен быть изменен, ведь именно в отношении к этому миру, к значениям, переживаемым пациентом, и проявляется болезнь.
В соматической медицине понятия здоровья, симптома, заболевания можно выразить и во вне-ценностном контексте физиологии, анатомии, неврологии относительно жизни, боли, смерти, дисфункции организма. Это означает, что любой медицинский факт можно полностью трансформировать в факт биологии человека, при этом утрачивается отношение ученого или врача к фактам. В соматической медицине ценностные понятия здоровья и болезни — это руководство к действию, подобно регулятивным идеям, которые не конституируют данные, но только определяют акценты в их восприятии, понимании и группировке.
Но в медицинской психологии понятия (психического) здоровья, нормальности и т.п. не соотносятся с такими "объективно" недвусмысленными состояниями организма, как жизнь, смерть, органическая дисфункция. Допустить противоположное — значит впасть в ошибку, позволяющую меньшему кругу принять неинтенциональные акты в качестве первичной реальности — именно эту ошибку совершала не-психо-аналитическая психология. С другой стороны, объекты, на которые направлены инстинкты или влечения — это объекты ценные, желанные, нужные; иначе говоря, биологическая цель становится критерием для определения "нормальности" целей, желаний и ценностей, как они переживаются в своей феноменальности. Короче говоря, оцениваются сами ценности, тогда как в биологической медицине оцениваются неинтенциональные процессы.
Как теорию объяснения, психоанализ можно оправдать в том, он что редуцирует феномены психической жизни к влечениям и потребностям и таким способом структурирует эти явления как систему фактов. Будучи медициной и пытаясь влиять на течение психической жизни, психоанализ считает свою ценностную структуру подобной той, на которую он влияет. В не-психоаналитической психологии, как мы только что отмечали, проблема состояла в том, что метод исследования имеет одинаковую природу с объектом; в медицинской психологии или психотерапии основа метода влияния и контроля соответствует природе заболевания. Именно с этой точки зрения можно задать психоанализу вопросы: является ли страдание обязательно признаком ненормальности—и если нет, то когда? Всегда ли вина патологична? Является ли неумение приспособиться к социальным требованиям симптомом эмоционального расстройства?
Если возможно оправдание биологического стандарта оценивания самих ценностей, го оно будет скорее практическим, чем научно-теоретическим. Наука не может оправдать ценность так же, как оправдывает теорию. И хотя может показаться, что "искажение" мира пациента (то, что осуждается "чистыми" феноменологическими психиатрами, например, Ван ден Бергом)35, является сущностью психотерапии, а некоторые виды психотерапии (психоанализ) работают согласно стандартам психического здоровья, которые черпают из собственных объясняющих
систем, психологическая медицина не может, да, в общем-то, и не пытается оправдать свои ценностные предпосылки исключительно биологически. Безо всяких привилегий она должна выйти на общее поле сражений систем ценностей.
ПРИМЕЧАНИЯ
' Binswanger, Schizophrenie (Pfullingen, 1957), S. 464.
Ulrich Soniiemann, Existence and Therapy (New York, 1954), p. 344.
Husserl, Ideas, trans, by W.R.Boyce Gibson (London, 1952), p. 344. 4 Ibid., p. 262.
Soimemann, p. 33.
Ai'on Gurwitsch, "The Last Work of Edmund Husserl", Philosophy and Phemone-
nological Research, Vol. 16 (1956 1957), p. 391.
7 Ibid., p. 392.
8 Ibid., p.391.
9 Soimemann, p. 42.
10 Morris R. Cohen, Reason and Nature (Glencoe III., 1953), p. 81.
11 Sonnemann, p.15. j? Ibid., p. 15.
Binswanger, "The Case of Ilse", in: Rollo May, Einest Angel, and Henri F.Ellen-berger (eds.), Existence (New York, 1958), p. 229. 14 Ibid., p. 229.
Бинсвангер, "Фрейд и его концепция человека в свете антропологии", в этом
сборнике.
16 Freud, Beyong the Pleasure Principle, trans, by CJ.Hubback, in: The Major Works of Sigmund Freud (Vol. 54 of Great Books of the Western World [Encyclopaedia Britannica, 1955], p. 646.
17 Freud, "Repression", trans, by Cecil M. Baines, in: Collected Papers, Vol. IV, p. 88. Freud, "Instincts and Their Vicissitudes", trans, by Cecil M. Baines, in: Collected Papers, Vol. IV, p. 60.
Freud, "The Unconscious", p. 99. 20 Бинсвангер, "Фрейд и его концепция человека в свете антропологии", в этом
сборнике, с. 26. Там же, с. 26. Там же, с. 27.
23 Там же, с. 34-35.
24 Там же, с. 24. Там же, с. 25. Там же, с. 26.
27 Там же, с. 29.
28 Там же, с. 31. Там же, с. 34.
30 Там же, с. 35. " Там же.
32 Там же.
33 Там же.
34 Freud, Civilization and Its Discontents, trans, by Joan Riviere, in: The Major Works of Sigmund Freud (Vol. 54 of Great Books of the Western World [Encyclopaedia Britannica, 1955], p. 767-806.
35 J.H.Vanden Berg, The Phenomenological Approach to Psychiatry (Springfield, III,
1955).
III
Символ в психоанализе и Dasein- анализе
В следующих трех главах я предлагаю обратиться к понятию экзистенциального а priori через сопоставление Dasein-анализа и психоанализа в таком контексте: (1) природа и интерпретация символов, (2) статус "бессознательного", (3) психопатология. Следует подчеркнуть, что Dasein-анализ не противопоставляется в виде глубинной психологии фрейдовскому психоанализу, как это происходит в исследованиях, скажем, Юнга или Адлера. Необходимо иметь в виду, что Dasein-анализ Бинс-вангера, взятый без теории и техник психоанализа, как клиническая практика является практически бесполезным. В то же время психоанализ без Dasein-анализа может тенденциозно искажать внутренний мир пациента — даже в случаях полнейшего клинического успеха. В этом отношении имеет смысл запомнить следующее высказывание Бинсвангера:
"Мы ведем речь о роли психопатологии в общих рамках психиатрического медицинского исследования. Мы не отрицаем того факта, что в психоаналитическом исследовании, как и в любой "понимающей" психопатологии, можно всегда найти микроб экзистенциально-аналитических взглядов. Но они никак не определяют методическую научную процедуру, как и не указывают на то, каким образом и почему экзистенциальный анализ отличается от исследования жизненно-исторических связей или от "эмпатического" либо "интуитивного" внедрения в психическую жизнь пациента1.
Символ
Роберт Флисс определяет фрейдовскую концепцию символизации в целом как
"замену элемента сексуальной природы, включая детскую сексуальность и в некоторых случаях объект инцеста, элементом или объектом несексуального характера"2.
Существенной характеристикой также может послужить формулировка Шандора Ференци:
"В психоаналитическом смысле только те предметы [или идеи] являются символами, чье проявление в сознании невозможно объяснить или определить логическим путем, вследствие чего они приобретают силу воздействия за счет бессознательного отождествления с иным предметом [или идеей], к которому избыток такого воздействия действительно принадлежит. Таким образом, не все сходства [или аллего-
рии, метафоры, намеки и т.д.] являются символами, но лишь те, в которых один элемент сравнения вытесняется в бессознательное"3.
Обе цитаты, вместе взятые, представляют ядро фрейдовского понятия символизации. Первое, что нужно заметить — во внимание берется лишь горизонтальное измерение символизма — в его обычном понимании. Под горизонтальным измерением я подразумеваю соотношение, включающее два элемента одного рода, путь от конкретного к конкретному, от образа к образу. Такое символическое соотношение конкретного с конкретным должно иметь нечто общее между символом и символизируемым. Когда, к примеру, поэт уподобляет глаза своей возлюбленной двум жемчужинам, жемчужины способны символизировать глаза, поскольку и те и другие, кроме всего прочего, обладают яркостью, блеском и внутренним светом*.
Второй момент касается необратимости символического сопоставления. Эрнст Джонс пишет:
"Поскольку энергия исходит от них [первичных стремлений] и никогда не идет к ним, и поскольку они составляют наиболее подавляемую часть сознания, представляется очевидным, что символизм может иметь место лишь в одном направлении. Символизируется лишь то, что подавляется; лишь то, что подавляется, нуждается в символизации"4. Таким образом, речь не может идти о так называемой взаимной связи между символом и символизируемым. Нация, выбравшая своим символом орла, сообщает птице достоинство в той же мере, в которой и заимствует его. Король сопровождает свое появление фанфарами потому, что они звучат царственно, или они звучат так лишь поскольку возвещают о короле?
Третий момент тесно связан с предыдущим — в соответствии с редуцирующей, объясняющей природой психоаналитической науки, обусловленное в символизации необходимо является символом условия. Следующее высказывание, цитируемое Роландом Далбиезом, прекрасно иллюстрирует эту мысль:
"Река, омывающая и питающая водой Индию проистекает из волос Шивы. Это чисто литературный, мифический прием. С другой стороны, в Брюсселе находится всем известный фонтан "Писающий мальчик", где вода вполне естественным образом струится из характерной части тела мальчика. Оба случая порождены общим фундаментальным
* Безусловно, в психоаналитической литературе нет недостатка в отдельных примерах, где как бы представлено вертикальное измерение символизма.Известные гипнотические эксперименты Герберта Сильберера содержат множество подобных случаев -— где, к примеру, после размышления над идеей интерсубъективности, в состоянии усталости и полусна он видит перед собой образ огромного шара, заполненного множеством человеческих голов. Тем не менее, случаи, когда психоаналитическая литература исследует представление идеи через образ — это случаи, когда (1) символизированное не обязательно должно быть подавляемым, а является таковым лишь постольку, поскольку рациональное мышление, как считает Фрейд, во сне невозможно; либо (2) идея является лишь развитием или сублимацией того, что образ более адекватно символизирует.
явлением — выделение человеческим телом жидкости. Но в каком из них это явление выражено с наименьшим искажением? Где индийские художники или поэты видели поток воды, льющийся из головы? Нигде, конечно же. Ближайшее воплощение их мифа, которое они пережили сознательным или бессознательным образом, (и которое они позже изменили на свой манер, создавая произведение искусства) не может отстоять слишком далеко от того, что вдохновило создателя фонтана в Брюсселе.
...нам, добросовестным ученым, представляется вполне оправданным связывать символические выражения с их наиболее естественными и простыми значениями"5.
Или, используя парафразу Бинсвангера, nisi est in homine cultura, quod поп feurit in homine natiira. Затронутая проблема касается правомерности использования термина "символ" противопоставляя его "знаку". В приведенной цитате Теодор Флурней (Flournoy) находит источник символов в их физических причинах, подобно тому, как это делает Фрейд в "Толковании сновидений". В то же время Далбиез (Dalbiez) подчеркивает "обычный символ не имеет прямого отношения к тому, что он символизирует"6.
Юнг в своей известной критике Фрейда, используя термин "символ", утверждает то же самое:
"Факты сознания, являющиеся ключом к бессознательным предпосылкам, Фрейд ошибочно трактует как символы. По сути, они не являются настоящими символами, поскольку, согласно его учению, играют роль не более чем знаков или симптомов бессознательных процессов"7.
ОБЩИЕ УНИВЕРСАЛИИ/ Три вышеизложенных пункта, касающиеся фрейдовской концепции интрапсихических символов, являются тремя аспектами одной проблемы, а именно — что обозначают для пациента символы, которые необходимо интерпретировать или объяснять.
Возвращаясь к первому пункту, мы видим, что в психоанализе общее поле, призванное объединять составные символической связи, часто лишь подразумевается. Отто Фенихель — пример психоаналитика, делающего попытку говорить об этом вполне определенно (деньги как символ фекалий). Фенихель пишет, что эта символизация коренится в детском переживании запрета совать в рот ценную (для ребенка) часть своего тела — фекалии. Это приводит к переживанию обладания, тем самым обозначая "вещи, которые по сути не принадлежат это, но которые принадлежать должны; вещи, по сути внешние, но внутренне символические".
"Деньги и фекалии объединяет то, что они являются обезличенными предметами обладания. Обезличенные — значит неизбежно теряемые. Таким образом, деньги, так же как раньше фекалии, оцениваются и рассматриваются как предмет обладания, находящийся под постоянной угрозой утратить характер своего эго"8.
Таким образом, основа символизации создается вокруг наиболее ярких и сильных детских впечатлений. Общие универсалии, "обезличенное обладание" происходят из исходного опыта детского отношения к фекалиям.
Введение в экзистенциальный психоанализ Л. Бинсвангера 267
На сегодняшний день универсалии, определением которых занимаются как Dasein-анализ, так и психоанализ, не являются универсалиями в обычном смысле слова. Они также не подразумевают общих свойств предметов, рассматриваемых "отдельно от нашего переживания". Рассматриваемые "независимо" как объекты, то есть исключительно в соответствии, скажем, с Локковскими первичными и вторичными свойствами, деньги и фекалии имеют между собой общего не больше, чем любые два случайных объекта. Dasein-анализ, как и психоанализ, рассматривает свойства объектов в той степени, в которой они являются именно "субъективными" свойствами. Фрейд, утверждая, что такие свойства или универсалии рождаются из детских впечатлений, доказывает, что ощущения удовольствия в данном случае связаны с засовыванием в рот различных предметов или с приятными ощущениями, связанными с процессом испражнения.
Dasein-анализ, в свою очередь, утверждает, что такие впечатления не создаются в вакууме, а накладываются на своего рода изначальную матрицу значений. К примеру, для того, чтобы ребенок, играя с фекалиями получал от этого удовольствие, он изначально должен быть в некотором смысле "пустым" и воспринимать эту пустоту как удовольствие. Бинс-вангер пишет:
"Наполнение" — это априорная или трансцендентная связь, позволяющая объединить фекалии и деньги через общий знаменатель. Именно это дает психоанализу эмпирическую возможность вывести пристрастие к деньгам из задержки фекалий. Но ни в коем случае не задержку фекалий из жадности"9.
Психоаналитик, отрицающий, что чисто физиологические ощущения удовольствия в эрогенных зонах не требуют никакой предшествующей подготовки для восприятия их именно как удовольствия, также должен считаться с фактом, что различные впечатления удовольствия и неудовольствия, взятые вместе, формируют личность или характер мировосприятия — в нашем примере — анально-эротическое. В "Случае Эллен Вест" Бинсвангер делает следующее наблюдение:
"Экзистенциальный анализ не может отрицать, что приятные ощущения во время испражнения, являющиеся фиксацией анальной зоны как эрогенной, способны создать картину мира пустого, твердого или мягкого, лишь исходя из того, что никакой мир не может быть сконструирован из впечатлений и влечений. Это устаревшая, чисто позитивистсткая позиция. Экзистенциальный анализ, напротив, придерживается взгляда, что при наличии образа мира как мира-отверстия, в определенный период детства или в определенной форме "духовного (geistig) сочетания", состояния пустоты, наполненности, опорожненности будут переживаться как ощущения удовольствия. "Коперниканский переворот" лежит в основе всего экзистенциального анализа. Таким образом, анальность в психологическом смысле — это лишь часть общего образа мира-отверстия, часть, подчиненная разделению тела в Eigenwelt"10.
Универсалии "пустота — наполненность", таким образом, являются категориями в кантовском понимании. Они трансцендентны в том смысле, что без них опыт не ставится под вопрос. В свои работах Бинс-вангер, говоря о трансцендентных категориях или их результатах, подразумевает обращение к существующей у пациента матрице возможного опыта, которая формирует предмет восприятия, определяя его смысловую значимость. Явно проступает сходство с коперниканским переворотом Канта. Источник смысла, тем самым — источник удовольствия или неудовольствия, тревоги и осознания, находящийся в Dasein, определенным способом, который мы обсудим позже, "выбирает" что приятно, значимо, травматично и т.д. — все для чего Dasein (а не телесные физические ощущения, рефлексы и тому подобное) является контекстом, в котором и на основе которого появляются удовольствие, тревога, страх. Это не значит, что мы "философы раньше, чем дети", но:
Эта картина мира не проявляет себя до тех пор пока не случится травма, она проявляет себя лишь по случаю этого события. Так же, как а priori трансцендентальных форм человеческого сознания делают опыт лишь тем, чем сам опыт является, так и форма образа мира сначала должна создать условие возможности несчастного случая, чтобы он был пережит как травматический11.
Теоретики психоанализа решительно утверждают, что именно первичные ощущения являются в конечном счете предметом символизации. Общая универсалия, разделенная символом и символизируемым, таким образом, может рассматриваться, в терминах психоанализа, сама по себе как символ.
... если обычный символизм объединяет представленные объекты, то психоаналитический символизм объединяет сами представления... психоаналитик только рассматривает чистые, беспредметные продукты психики. Он рассматривает представления как извлеченные одно из другого в соответствии со строгой причинной связью. Он систематически будет определять представления как символ, а первичные представления как символизированные12.
Так, в примере Фенихеля "деиндивидуализированное обладание", которое он, возможно, принимал за источник символического уравнивания фекалий и денег, само по себе является не более чем психоаналитическим символом ощущений удовольствия и неудовольствия испытываемых в детстве. Экзистенциальное а priori (трансцендентальная категория), с другой стороны — это источник обеих сторон соотношения, а не дериват сублимации одной стороны. Общие универсалии, как предполагает психоаналитик, — не более чем теоретическое выражение ощущений, инстинктивная основа всего символизма. В самом деле, в той мере, в которой психоанализ стремится установить причинную связь между инстинктивными запросами и ощущениями, связанными с испражнением и образом денег, как это проявляется в снах или невротической симптоматике, мы не можем использовать общие универсалии так, как используем их в символическом соотношении между двумя объектами или представлениями. И все же, когда психоаналитики пытаются объяснить, почему появление во сне определенного образа вызвано, ска-
жем, детской травмой, они не довольствуются чисто индуктивными обобщениями. Они, скорее, ищут общую универсалию, как это делает Фенихель. Таким образом, психоаналитики считают, что существует четкий символический метод, в соответствии с которым образы имеют неизменное символическое значение. В таких случаях мы имеем психоаналитическую литературу, обращающуюся к "объективным" свойствам — таким как длинная форма трости, змеи или ножа, подобная форме фаллоса; пластичность, которой обладают мягкие материалы типа клея или грязи, напоминающая фекалии. Тем самым, чтобы оправдать свою интерпретацию символов, психоаналитик либо (1) принимает чисто индуктивный метод, который не уступает общей универсалии роли связующего звена между членами символического соотношения, сам по себе рассматривая не символы, а знаки эффекта, или (2) рассматривает определенные объективные качества, качества с первичным соотношением к общезначимому (объективному) как связующее звено или общую универсалию в символическом соотношении. В данный момент мы хотим рассмотреть первую альтернативу; особого внимания требует способ, которым экзистенциальное а priori служит в качестве универсалии.
Мы уже говорили об экзистенциальном а priori как матрице значений, в рамках которой воспринимаются события, и которая в этом смысле является условием возможности опыта, травматического или любого другого. В "Случае Эллен Вест" Бинсвангер пишет:
Экзистенциальный анализ показывает, что в данном случае перед нами не одностороннее значение или символическая взаимосвязь одной стороны соотношения с другой, но что обе стороны имеют общее значение, основываясь на общей значимости в отношении к миру13.
То, что психоанализ понимает как определяющие факторы — инстинкты, детские впечатления и так далее — для Dasein-анализа является уже представлениями изначального образа мира. Это не значит, что анализ хочет отодвинуть назад причинную цепь, скорее сама причинная цепь, как описано в научном глубинном анализе, должна рассматриваться как целое, которое в своей целостности не имеет привилегированной референтной точки, в терминах которой объясняется все остальное. Подобного рода объяснение через привилегированную референтную точку принимает форму теории, а теория принимает форму мировоззрения — в данном случае мировоззрения естественнонаучного. Тем самым Dasein-анализ не может использовать прошлое для объяснения настоящего; в самом деле, прошлое пациента представлено в настоящем в образе мира, внутри которого отдельное событие прошлого, "обусловившее" невроз в настоящем — это уже сам пациент. Тем самым, настоящее, или "сознательное" — проявленное содержание снов, вербальное выражение — указывают на определенную целостность или категорию, основную для мира пациента. Другими словами, поскольку личность не может пережить событие вне значения-контекста14, даже если это личность ребенка, Dasein-анализ пытается установить источник этого значения-контекста. Он не рассматривает конкретные значения, которыми ребе-
нок определяет явления, осознаваемые или нет; Dasein-анализ скорее ищет способ бытия-в-мире, управляющий этими значениями. Экзистенциальное а priori является кантовской категорией лишь как условие переживания значения, но не как прямое условие восприятия объектов.
Если экзистенциалы Мартина Хайдеггера представляют бытие человека, то экзистенциальное а priori, относящееся к бытию конкретного индивида в его отдельном мире, нельзя рассматривать как источник значения травматического события или конкретного опыта, ассоциируемого с получением удовольствия. Скорее, экзистенциальное а priori переводит "пустые" онтологические формулы Хайдеггера в формулы, способные приобрести содержание. Содержанием подобной формулы являются значения — "мама меня любит", "я ненавижу брата", "я боюсь отца" и так далее. Таким образом, мы определяем экзистенциальное а priori как матрицу значений. Наличествует ли подсознание или нет, вытесненное в это "подсознание" было пережито первым; и если оно было пережито вообще, оно сформировало и формирует часть мира пациента в его актуальном переживании этого мира.
Спешу добавить, что Бинсвангер говорит не о самости, а о Dasein. Термин Dasien относится к бытию, сущность которого — это бытие-в-мире. Значения и опыт, являющиеся предметом психоанализа, постигаются им как потребности и приказания, либо инстинктивные стремления в конфликте с внешними условиями. Но Dasein, о котором пишет Бинсвангер — это уже-в-мире Dasein. Это Dasein как фон, на котором "самость" фактически проявляется и проявляется всегда. Этот фон можно определить термином "гештальт", внутри которого выделяется индивидуальность, оставаясь в тоже время в мире. Как кантианские категории, которые определяют выраженное знание о мире и феноменальную индивидуальность, так и экзистенциальное а priori пациента является почвой тех значений и опыта, которые психоанализ связывает случайно.
Верный гуссерлианскому духу, Dasein-анализ ограничивает себя "анализом того, что существует фактически, то есть имманентно, в сознании"15. Как и Гуссерль, Бинсвангер четко разделяет феноменологический метод анализа и психологическое описание. По Гуссерлю, психологически ориентированный феноменолог, сколько он ни ограничивает себя имманентными сознательными актами, всегда рассматривает эти акты как фактические процессы, которые он не может постичь вне реального человеческого бытия (einem realen Naturgeschopf). С другой стороны, чистый феноменолог заключает в скобки любые оценки, как бы имплицитно они ни содержались в реальности или действиях индивидуальности. В этом случае Бинсвангер находится где-то посредине между чистой феноменологией и описательной психологией. Априорные структуры, которые ищет Dasein-анализ, служат в мире пациента трансцендентными (в кантовском смысле) условиями всего опыта, бытия-в-мире.
Каким образом Бинсвангер преодолевает разрыв между гуссерлевс-кими чистыми эйдетическими структурами сознания и "категориями", обуславливающие возможность опыта, экзистенциальным а priori, представленным как универсалия, наделенная силой! Бинсвангер не склонен
определять трансцендентальные категории пациента иначе, как обобщения, как бы безупречны они ни были по отношению к истории и опыту пациента. Бинсвангер пишет:
Все, что делает мир значимым, подчинено правилу той категории, которая одна поддерживает ее "мир" и бытие16. (Курсив мой.)
...так, форма этого образа мира сначала должна создать условие возможности (события) ... чтобы оно воспринималось как травматическое17. (Курсив мой.)
Все, что относится к этому, — не случайные комбинации, а неизменные а priori экзистенциальные структуры18.
В "Истории болезни Лолы Восс":
Но почему в Полином случае настолько видную роль играют только предметы одежды — платья, нижнее белье, туфли, шляпы? Для ответа на этот вопрос нам следовало бы провести биографическое исследование. К сожалению, в нашем распоряжении нет никаких исторически отправных точек. Но вопрос: почему предметы одежды могут играть такую видную роль, — действительно представляет собой проблему экзистенциального анализа19.
Экзистенциальный анализ интересуется не просто фактами, относящимися к лингвистической науке, где, выражаясь метафорически "значение слова переносится из одной определенной части в другую", а экзистенциальными основаниями возможности такого перенесения20.
Этот пассаж четко указывает на то, что априорные экзистенциальные структуры (которые я называю экзистенциальные а priori) представляют собой не только универсалии, понимаемые феноменологически, но также действенные, обуславливающие, определяющие категории. Чтобы детальней разобраться, в каком смысле экзистенциальное а priori — это универсалия, наделенная силой, необходимо понять, как Dasein-анализ подходит к "вертикальному измерению" символического соотношения.
Нужно проявить особую осторожность, дабы избежать влияния принципа причинного воздействия на исследование взаимоотношений между экзистенциальным а priori и миром, каким его воспринимает пациент. Экзистенциальное а priori без соответствующего образа мира и, далее, без соответствующего мира, по Бинсвангеру, — немыслимо, противоречиво, как и самостоятельные трансцендентальные категории. Подобно тому, как не имеет смысла говорить о кантовских категориях понимания как "существующих" до приобретения знания о мире, бессмысленно говорить об экзистенциальном а priori Бинсвангера как "существующем" до опыта. Подобно кантовским категориям, определение экзистенциального а priori исчерпывается по отношению к функционированию, а функционирование лишь теоретически отделено от объектов его направленности. Бинсвангер, к примеру, описывает случай, в котором девочка в пять лет пережила приступ тревоги и обморок в момент, когда от ее туфли отлетел каблук, застрявший в коньке. Анализ этого случая открыл, что "именно категория непрерывности служит ключом к образу мира маленькой пациентки...Все, что делает мир значимым, подчинено
этой категории"21. Бинсвангер не имеет в виду, что категория непрерывности, "работая через нее", каким-то образом стала причиной страха и обморока, — что звучало бы практически бессмысленно в любом контексте. Я думаю, что Бинсвангер говорит о том, что бытие-в-мире пациентки настолько сжато, что все ее восприятия и переживания должны соответствовать определенному критерию. Критерий в данном случае у Бинсвангера выражается термином "непрерывность."
Сказать, что бытие-в-мире этого Dasein ограничивается категорией "непрерывность-прерывность" — значить сказать, что все восприятия и переживания личности определенным образом выборочны. Это также, причем более основательно, значит, что индивидуальный мир основывается на данной категории. Так, категория "непрерывность-прерывность" выражает самоопределение личности во времени и пространстве, Mitwelt и Eigenwelt.
Бинсвангер как феноменолог придерживается вместе с Гегелем того мнения, что
Личность — это ее мир, мир внутренний. Сама по себе личность — это круг ее собственных действий, в которых она реально представляет и утверждает себя, являясь простым единством изначально данного и созданного — единством, составляющие которого не распадаются, как это происходит в идее психологического закона в мире данном perse1-.
Как Dflse/и-аналитик, он вместе с Хайдеггером считает, что "мир" обозначает "целое значимости2-." И как "кантианец":
Задача состоит в том, чтобы выделить особенность априорной экзистенциальной структуры которая делает возможным все уникальные явления, которым мы ставим клинический диагноз: симптомы шизофрении и шизофренический психоз в целом24.
"Сила" экзистенциального a priori состоит в самом Dasein как явно существующем бытии. Структура экзистенциального а priori, которую Бинсвангер определяет в оадаш-анализе конкретного случая, такова: возможные формы бытия Dasein, экзистенциалы Хайдеггера, которые становятся действительными. Общая сумма действительных проявлений онтологических априорных характеристик Dasein — это экзистенциальное а priori конкретной личности. Dasein — это не личность; это фон, на котором проявляется личность. Тем самым, когда Бинсвангер утверждает, что, к примеру, непрерывность — это трансцендентальная категория конкретной личности, несмотря на то, что он мог прийти к такому открытию феноменологически, он открывает трансцендентное представление об этой конкретной личности. Поэтому каждый случай представляется в значении "трансцендентной дедукции", к чему бы ни относились возможности опыта конкретной личности. Так же верно будет сказать, что не только индивидуальный мир основан на трансцендентальном а priori, но и сама личность также основана на нем. Здесь мы возвращаемся к более строгой экзистенциальной доктрине, — позиции, которую мы рассмотрим позже. Пока лишь отметим, что мы столкнулись с действием Dasein, стоящим вне самой возможности личности и мира. Это можно
рассматривать как Кьеркегоровский выбор себя или невозможность такового, и можно сравнить с сартровским исходным Ha6pocKOM(original project). Указанные моменты оставим для следующей главы.
Пытаясь понять экзистенциальное a priori как "универсалию, наделенную силой", мы обнаружили, что эта сила находится в Dasein, а не в универсалии или самости. Выражаясь как конкретный вид общего, трансцендентальная категория, экзистенциальное а priori, указывает не на идею или правило, а на существование, которое трансцендентно первичному разделению в опыте на самость/не-самость. Представляя конкретные проявления Заботы, оно должно быть одинаково выражаемо в каждом возможном аспекте мира Dasein. Понятие непрерывности, к примеру, равно понимается и применяется в отношении времени (непрерывность событий, случайных и неожиданных), пространства (смежность), Mitwelt (связи, например, эдиповы связи, непрерывность отношений), Eigenwelt ("внутренняя" непрерывность, непрерывность чувств, привязанностей). Для лиц, фиксированных на анальной стадии, чье экзистенциальное а priori может состоять в наполненности-пустоте, существует понятие времени, наполненного или истраченного; заполненность рук или кошельков, наполненность тела пищей, как в случае Эллен Вест; в Mitwelt — открытость или ее недостача в отношении других людей; в Eigenwelt проблема опять в приеме пищи или принятии во внутрь.
Экзистенциальное а priori, таким образом, является настоящей "общей универсалией" — это матрица значений, в которой оба члена символического соотношения имеют исходное соответствие с личностью. Как в таком случае Dasein-анализ трактует символы или мечты? По сути, он не "трактует" символы, а, скорее, отмечает границы клинической научной интерпретации (редукции):
Из того, как рассматривает этот сон психоанализ, становится ясно, что интерпретация экзистенциального анализа может определить границу психоаналитической интерпретации. Психоаналитические интерпретации проявляют себя как специальные [фрейдистские] символы-интерпретации на основе фундаментального экзистенциально-аналитического понимания25.
Хорошо известно, что в сновидениях полет и падение часто проявляются в ощущениях своего собственного тела. Иногда такие совпадения связывают с физическим состоянием в частности с дыханием (в этом случае мы имеем дело со сновидениями, обусловленными телесными раздражителями), а иногда — с эротическими настроениями или чисто сексуальными желаниями. Возможно и то, и другое, и мы не хотим оспаривать ни одно из этих предположений, так как сейчас нас интересует вопрос выявления априорной структуры, для которой раздражители тела (и структура тела в целом) так же, как и эротико-сексуальная тема являются вторичным содержанием26.
Психоанализ открывает общую универсалию совсем иного порядка. На первом месте обычно находится универсалия, имеющая первичное соотношение лишь с одной сферой человеческого существования. Если, к примеру, нож считается фаллическим символом, то психоаналитик
часто склонен оправдывать эту интерпретацию теоретически, просто обращая внимание на подобие формы. В случае подобного рода он, конечно, должен искать доказательства того, почему этот конкретный пациент использовал в качестве фаллического символа нож, а не, скажем, здание или змею. По мере того, как процесс прогрессирует дальше и знание психоаналитика о пациенте становится полнее, он может прийти к выводу, что нож — это символ фаллоса потому, что это инструмент агрессии. Агрессия обычно понимается (в "конвенциональной реальности") как склонность нанести вред другому и поэтому относится лишь к одному модусу бытия Dasein, — бытию-с-другими, и тем самым, лишь к одному аспекту общего мира индивида, Mitwelt. Единственное — трудно будет понять агрессию, представляющую отношение человека к своему будущему или к себе. И конечно же, кажется, что нет прямого пути выразить агрессию в терминах пространства или времени без обращения к определениям, полученным из бытия-с-другими. Полное "значение" символа, таким образом, является истощенным а priori, через ограничение его контекста лишь одним аспектом жизни пациента.
Второй и не менее важный вопрос касается психологически установленных общих универсалий: а именно, вопрос об их значении в мире пациента. Феноменолог спросит, к примеру: что "агрессия" значит в мире этой личности? Его ответ не будет состоять из соотношения того, что обычно считается агрессивным поведением к постулированному стремлению, проверенному и сублимированному. Для феноменолога "нанести вред другому" не полностью сводимо к межличностному инстинкту, такому, как "инстинкт смерти". Скорее, "вред другому" раскроет свой смысл, лишь касаясь экзистенциального а priori личности. В вышеупомянутом случае, где экзистенциальное а priori было универсалией непрерывности-прерывности, ущерб другому может быть скорее способом отразить угрозу разрыва в непрерывности, чем сублимированным сексуальным стремлением или влечением к смерти. Более того, представления о том, что причиняет "вред другому", могут отличаться. "Психотик", который разрушает авторитет больничных властей, стараясь завязать шнурок от ботинок особым образом, является таким же агрессивным, как и маньяк, который бросает предметы в медицинскую сестру.
Такие универсалии, как "агрессивность", "одержимость" и "покорность", в психоаналитической теории либо упрощаются до естественнонаучных рамок и вливаются в систему объяснения, при этом переставая быть искомыми общими универсалиями; либо рассыпаются на переменные, которые сами требуют соотношения с другой универсалией для понимания их смысла. Экзистенциальное а priori может рассматриваться как третья величина, связывающая общую универсалию, скажем, агрессивность, с двумя относящимися к ней объектами (например, фаллос и нож). Фаллос и нож выступают символами агрессивности, поскольку служат инструментами агрессии. Но реальность, частью которой они выступают, — это картина мира пациента, и ключ к ней заключается в выявлении экзистенциального а priori. Саму агрессивность следует понимать в контексте картины мира, управляемой экзистенциальным а priori.
Когда это экзистенциальное а priori выявлено, "очерчивается круг" для редуктивной систематической интерпретации и диагноза. То есть когда открывается матрица значения индивида, служащая основой его восприятия мира, появляется возможность объяснить, каким конкретным образом эта матрица была "заполнена". К примеру, сказать, что чрезмерная привязанность к матери в детстве может служить причиной приступов тревоги в последующей жизни, можно только после нахождения того, что позволяет обнаружить эту чрезмерную привязанность. Необходимо подчеркнуть, что ударение здесь ставится не на прошлом. Экзистенциальное а priori — это то, что делает ее возможной. Психоанализ будет говорить о последовательности переживаний: инцестуозных фантазиях и кастрационной тревоге, ведущих к выраженному эдиповому комплексу, а позднее к тревоге, и т.д. Анализ здесь-бытия, напротив, говорит о переживании последовательности: вся каузальная цепь психоанализа возможна только благодаря этому экзистенциальному а priori.
ОБРАТИМОСТЬ/ Обращаясь теперь ко второму аспекту психоаналитического символизма, а именно к необратимости символических приравниваний, мы не должны вникать глубже характера научного метода, применяемого в психоанализе по причине raison d'etre (здравого смысла). Обсуждавшиеся в предшествующей главе понятия "сводимого к чему-то" и "не поддающегося упрощению" заставляют ожидать такой необратимости. Подавленное, инстинкты, первичные побуждения составляют в высшей степени "реальное", не поддающееся упрощению; тогда как сознательное представление, символ, — это то, что должно быть сведено к чему-то, объяснено, интерпретировано. Во всех случаях психоаналитической интерпретации и объяснения мы приходим к тому, что обозначенное меньшим кругом психоанализа служит границей, за которую объяснение не выходит. Dasein-анализ, напротив, не может принять такую однонаправленную связь. То, что психоанализ называет символом, для Dasein-анализа такая же первичная реальность, как и "подавленное" или символизируемое. Полное значение символа (манифестного сновидения и вербальных структур) в мире индивида определяет значение символизируемого не только для аналитика в его попытках интерпретировать символ, но и для самого индивида.
Если говорится, что нож служит символом фаллоса, то для понимания пациента необходимо ответить еще и на вопрос: что фаллос означает для индивида? Прежде чем аналитик сможет понять, что для пациента означает фаллос, необходимо выяснить полное феноменологическое значение ножа в его мире. Однако в психоанализе вопрос состоит в следующем: что означает нож? И ответ предполагает, что вся направленность значения исходит из биологической потребности. При этом игнорируется возможность того, что эти биологические потребности сами входят в матрицу значения большего масштаба и поэтому указывают на нечто, стоящее за ними. К тому же, если аналитик невнимателен, твердо установившееся представление о том, что фаллос означает для любого индивида может войти в противоречие с конкретной ситуацией..
В Дйкеш-аналитике символ и символизируемое модифицируют друг друга. Нижеследующая объемная выдержка из работы Босса по анализу сновидений иллюстрирует важный аспект позиции Dasein-анализа по отношению к символам:
"Фрейд полагал, что нашел в эксперименте Шреттера (Schroetter) твердое доказательство этой концепции [символизма сновидений]. Шрет-тер [1912] велел своим загипнотизированным субъектам видеть в сновидении с грубым сексуальным содержанием. В этих сновидениях в соответствующих местах появлялись все то, что Фрейд определил как сексуальные символы. К примеру, однажды во время гипноза женщине велели видеть сновидение о сексуальной связи со своей подругой. В сновидении она увидела эту подругу с чемоданом, на котором было написано "Только для дам". Из этого Штетгер и Фрейд сделали вывод, что чемодан может быть только символическим представлением гениталий подруги.
Однако такое заключение весьма неубедительно, ибо оно не объясняет ни полного значения полового сношения, ни всех значений чемодана в реальной жизни сновидца. Что, если половая связь означала для нее нечто большее, чем просто контакт половых органов — если, например, согласиться с Гербертом Зильберером и Юнгом, видевшими в половом контакте символ взаимосвязи и соединения противоположностей, в том числе и таких, что совсем не относятся к сексуальной сфере? Действительно, кто может отрицать, что здоровая половая активность, представляющая собой обособленное действие, не подразумевает объединение двух связанных любовью людей; что это, фактически, ее сущность? Таким образом, гипнотизер своей суггестией гомосексуальной связи подготовил субъекта к нежным человеческим взаимоотношениям, даже несмотря на то, что ограничил их женским полом. Возможно, по этой Причине в сновидении появились не только "символические гениталии", но и сам человек, являвшийся этой самой подругой с чемоданом. Если багаж символизировал только ее гениталии, тогда почему это был чемодан, а не, скажем, вечерняя сумочка, несомненно, более соответствующая эротической сфере? Какая внутренняя связь существует между путешествием, явно подразумеваемом в этом сновидении, и женскими гениталиями? Ни малейшей. Однако путешествие может сближать людей, а может и разделять их. Несомненно, намного более вероятно, что этот большой чемодан указывал на то, что в нем находилось множество других вещей, наряду с сексуальными символами: предметы повседневной жизни, возможно, даже книги, дорогие ювелирные изделия и некоторые семейные памятные подарки. Эти вещи в большей мере связаны со всей личной жизнью, мыслями и чувствами подруги, чем с ее гениталиями"27.
То, что определяет позицию пациентки к чемодану, равнозначно тому, что определяет ее позицию к половому сношению. Вопрос не просто в том, что значение полового сношения выражается в выборе чемодана как символа, но и в том, что половая связь символизирует контекст значения, который можно понять только посредством полного феноменологического изучения значимости чемодана для пациентки.
Джонс пишет, подобно Флурнею, что первоначально молния представлялась божественным семенем28, солнце — могущественным оком29 — в
соответствии с психоаналитическим предположением о том, что "все символы представляют идеи собственной личности и ближайших кровных родственников или явления рождения, любви и смерти"30. Но он, как и другие психоаналитики, не принимает во внимание возможность того, что понятие, скажем, семени может выводиться из отношения примитивного человека к молнии. Примитивный разум не выделяет объект "семя" и бессознательно не связывает свои ощущения к нему с новым, отдельным объектом "молнией". Скорее здесь происходит взаимная модификация, при которой отношение примитивного человека к молнии обуславливает отношение к семени и наоборот. Психоаналитик может задать вопрос: почему примитивный человек из всех естественных явлений связывает с семенем именно молнию? Но можно ответить вопросом на вопрос: почему из всех "телесных" явлений он выбрал именно семя для сопоставления с молнией?
Таким образом, мы вполне можем согласиться, что все символы относятся к личности, ближайшим кровным родственникам, рождению, любви и смерти — но должны добавить, что эти понятия в такой же мере определяются символами, в какой символы определяются представлением примитивного разума о них.
Будучи системой объяснительной, психоанализ не может "заходить так далеко", не может "удовлетвориться" такой концепцией взаимной модификации. Он ищет не подлежащую упрощению исходную реальность, с точки зрения которой можно объяснять другие явления. Этой начальной реальностью, или меньшим кругом, выступает биологическая концепция инстинкта. Для того чтобы объяснить или интерпретировать символы, психоанализ стремится свести их к инстинктивным компонентам, утверждая при этом, что символы репрезентируют инстинкты как основу психической жизни. Мы уже отмечали, что смысл, в котором для психоанализа эти символы означают инстинкты, сомнителен. Как видим, психоаналитическая теория неадекватно подходит к проблеме общей универсалии (основы сходства) между символом и символизируемым. Поэтому нужно задать вопрос: нет ли иного смысла, в котором термин "символ" употребляется в психоанализе, смысла не имеющего обязательного или первостепенного отношения к виду и степени сходства между символом и символизируемым. Это подводит нас к третьему пункту, вопросу о том, имеет ли психоанализ дело с символами или со знаками следствия.
ЗНАК И СИМВОЛ/ Джонс говорит, что существует "строгий смысл", в котором психоанализ употребляет термин "символ"-4. Согласно Джонсу, отличительными чертами настоящих символов служат: (1) представление бессознательного материала; (2) постоянное значение; (3) независимость от индивидуальных обуславливающих факторов; (4) эволюционная основа; (5) лингвистические связи; (6) филогенетические параллели. Из этих шести характеристик Джонс рассматривает первую как, "вероятно, наиболее резко отличающую подлинный символизм от других процессов, по отношению к которым часто используется это название"32. По Джонсу, ключевой момент, определяющий представление
бессознательного материала, заключается в том, что "аффект, наделяющий понятие [символ] значением, находится в состоянии подавления"33. Здесь следует отметить, что основное ударение Джонс ставит не на соображениях относительно сходства между символом и символизируемым или на способности символа выражать символизируемое, а, скорее, на причинно-следственной связи между символизируемым и символом. Основной критерий того, что для Джонса определяет подлинный символ, допускает связь между символизируемым и символом как внешнюю и даже побочную по отношению к основной, sui generis, структуре символизируемого. Критерий Джонса — это критерий каузальности, в которой символ указывает на символизируемое, но не обязательно ведет к его пониманию.
Таким образом, представляется, что "строгий смысл", в котором Джонс употребляет термин "символ", представляет собой смысл, обычно присущий термину "знак" или, если более точно, "знак следствия". Ференци пишет:
"...благоразумнее не считать, что условия, при которых возникают символы, идентичны таковым для аналогий в целом, а предположить существование специфических условий или первопричин этого специфического вида образования аналогий, и искать таковые"34.
Можно заметить, что в любой попытке выявить основные структуры интрапсихического символизма поиск какого-либо рода каузальности, естественно, должен иметь первостепенное значение. Но это справедливо только там, где для индивида значение представляется после мотивации. Если мы ограничим себя только сознанием, то такое предложение будет близким к нонсенсу — так как в сознании мотивация и значение неотделимо переплетены. Однако, как только мы помещаем в основу бессознательную мотивацию, появляется возможность говорить о мотивах, появляющихся прежде, чем некоторым представлениям придается значение. Фактически, целенаправленно спрашивать о мотивах определенного представления образа или события индивидом или о мотивах формирования отношения к ним можно только в случае, если исходить из бессознательного процесса. Если ограничиться сознанием, то способ явного представления или понимания объекта, образа или события индивидом исчерпывает все сомнения относительно его мотивов. Даже человек с неврозом навязчивых состояний имеет феноменологическую область значения для своих "иррациональных''' действий или страхов. В сознании представляемый объект сам дает "мотивацию" для представления его тем или иным образом. Змеи вызывают страх потому, что они ядовиты; я люблю эту женщину потому, что она прекрасна и т.д35. Тщательное феноменологическое рассмотрение (с использованием, кроме всего прочего, метода свободных ассоциаций) моего отношения к змеям и их понимания может выявить связи с такими вещам, как секс, связи, которые я категорически не осознавал. Но это не подразумевает, что моя боязнь змей мотивируется или вызвана тем, что так проявляется. Вполне вероятно, что конкретный страх перед
змеями отражает больший страх, глубоко определяющий мой характер (или существование). И тогда можно сказать, что боязнь змей и ассоциированные страхи и желания символизируют больший страх. В этом случае змея служит символом, или, если более точно, символом является моя боязнь змей.
Мы пытаемся объяснить определенные перцепции, эмоции и образы, вместо того, чтобы "просто" раскрыть их полное значение в рамках сознания, ибо законы, управляющие взаимоотношением символа и символизируемого, не могут находиться в пределах сознательной структуры значения образа в том виде, как он представляется индивиду — то есть, он не может "действительно" объяснить свою боязнь змей, а может предложить только ее "логическое обоснование". Поясняющие законы не могут быть даже одного рода с теми, которые индивид осознает как управляющие ассоциацией образов и объектов. Ибо объяснение заключается не в тщательном изучении наполненных значением явлений в том виде, как они воспринимаются, а в сведении их к элементам и законам, служащим их необходимым условием. Объяснение не может удовлетворяться количественным расширением компонентов, составляющих воспринимаемую и осознаваемую структуру явлений, наполненных значением, ибо такой ход теоретически совмещает источник объяснения с источником явлений, располагает его в индивиде. Так как именно этого психоанализ не может допустить, то определяются границы всей суммы явлений, наполненных значением, и устанавливается качественно иное основание их существования. Причинно-следственная связь адекватно удовлетворяет этот критерий объяснения. Образ и его значение для личности представляются вызванными силой или "аффектом", которые не осознаются. Ничто в феноменологическом содержании явлений, наполненных значением, или в их структурных законах (в случае символов законов, определяющих либо сходство между символом и символизируемым, либо способность выражения) не указывает на эту причину; она "бессознательна".
"...ранее человек был склонен считать, что вещи пугают вследствие их схожести; сегодня мы знаем, что одну вещь путают с другой лишь потому, что существуют определенные мотивы для этого; сходство просто предоставляет благоприятную возможность для функционирования этих мотивов"36.
Прежде чем следовать дальше, целесообразно кратко обрисовать различие между терминами "знак" и "символ" в контексте данной дискуссии. Важно иметь в виду, что мы действуем здесь интрапсихически — как символ и символизируемое, так знак и обозначаемое "находятся в рамках" психики или, на языке Dasein-анализа, в рамках Eigenwelt. В науке, литературе, живописи, религии, математике как символ, так и символизируемое, внешни для индивида, которому их представляют. Возможно, в искусстве или религии иногда символ может быть субъективным и личным, но символизируемое всегда выходит за рамки осознаваемого самим человеком.
Однако в психологии символизируемое должно рассматриваться как часть личности или как находящееся "в рамках" психики.
В том, что касается различия между знаком и символом, в литературе мы видим разграничение "простой" аллегории и символизма. Аллегория отличается от символизма произвольностью ее образов; символы, напротив, известны своим резюмированием сущности и соучастием в реальности, символом которой выступают. Аллегория требует от читателя заблаговременного знания представляемого значения; символизм же, в идеале, несет это значение в себе. Аллегория — это замена, символизм — выражение. Структура символа, взятая сама по себе, по существу, является структурой символизируемого. В религии мы видим разницу между тем, как толкует внутренности птицы провидец, и такими естественными явлениями, как гром и молния в качестве символа Бога. В таком случае провидец читает знаки, явно не отражающие то значение, которое им приписывает, тогда как гром и молния служат символом, скажем, могущества, по причине их непосредственных феноменологических следствий — мы даже можем сказать, что понятие могущества берет свое начало от таких вещей, как гром и молния. В математике мы можем сказать: "пусть Р будет обозначать давление, V — объем, а Т — температуру идеального газа". Р, Vи /"выступают знаками или произвольными обозначениями. Но уравнение, выражающее тот факт, что V прямо пропорционально Г и обратно пропорционально Р, представляет собой символ просто потому, что оно отражает видимую реальную истину.
Хотя можно возразить, что предложенное выше разделение знака и символа относительно и определяется степенью знаний каждого человека (то, что для одного является знаком, для другого выступает символом), суть состоит в том, что не имеет значения, где проходит это разграничение, в каждом конкретном случае проводится своя разграничительная линия. Все изложенные выше наблюдения относительно литературы, религии и науки объединяет то, что как знаки, так и символы обращены к чему-то внелич-ностному, не к столкнувшемуся с ними индивиду, а к чему-то иному. Выраженное феноменологически различие между знаком и символом состоит в том, что если символ отражает символизируемое и соучаствует в нем, то знак указывает на качественно отличное от него — и в связи с этим он не выражает и не может выражать означаемое.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к заключению, что феноменологически, эмпирически, интрапсихический знак является невозможностью. То есть человек не может воспринимать нечто как знак внутреннего состояния или эмоции. Нет смысла внутренне соотносить свое состояние или эмоцию с чем-то другим, не имеющим этого состояния, не напоминающим и не отражающим его. Если "означаемое" неизвестно (или "бессознательно"), то также не имеет смысла говорить о "внутреннем знаке", ибо, как отмечалось выше, для того чтобы знак вообще был возможен, означаемое должно быть известно или предполагаться. Мой страх перед безобидными котятами, который я не могу объяснить в том же ключе, что и страх перед ядовитыми змеями, а отношу на счет большего страха, в силу подобия служит символическим выражением
этого большего страха. Психоаналитик может сказать мне, что он представляет собой "символ" потребности в любви, но я не могу воспринимать его как таковой, не изменив самой сущности своего чувства страха. Суть в том, что сущность знака, в отличие от символа, не затрагивает структуры значения означаемого, а только указывает на него. Знак по отношению к означаемому служит либо в качестве заменителя, либо в качестве указателя. Во всех случаях функция знака замещается или отвергается присутствием означаемого. В этом смысле знак представляет собой "ступеньку" к означаемому. Говоря феноменологически, мы закладываем в основу наличие интрапсихически представляемой эмоции, значения или объекта — наличие, воспринимаемое личностью. Никакого восприятия внутреннего знака не может быть потому, что означаемое
здесь уже присутствует.
В качестве возражения можно привести следующий пример: я поднимаюсь по лестнице в незнакомом доме и прежде чем войти в одну из комнат, замечаю, что мои ладони вспотели, часто бьется сердце, а в горле пересохло. Разве это не признаки интрапсихического явления — страха? Нам нет необходимости вникать в сложности теории эмоций Джеймса-Ланге, чтобы опровергнуть это возражение. Состояние моих ладоней, сердцебиение и сухость в горле — это не интрапсихические явления, ибо формулировка возражения подразумевает состояние, в котором тело рассматривается как нечто, отличное от "разума". Ощущая страх, мы не воспринимаем знаков страха, знаков качественно иного порядка, чем то, что они означают. Однако предположим, что, входя в этот же самый дом, я услышал шорох наверху лестницы и начинаю бояться привидения, бандита и т.д. В этом случае боязнь привидения представляет больший, более общий страх перед незнакомым домом —-но она выражает его, соучаствует в реальности, которую представляет; она символизирует его.
Возвращаясь теперь в основное русло нашей дискуссии, мы припоминаем, что "фрейдовский символ по существу и по определению является следствием того, что он символизирует"37. Мы припоминаем, что причинно-следственная связь адекватно удовлетворяет критериям объясняющей системы, где феноменологическое, наделенное значением воспринимаемое содержание должно быть сведено к чему-то качественно иному; в случае психоанализа нечто является подавленным инстинктивным аффектом. Из проведенного выше различия между знаком и символом мы видим, что для объяснения мира пациента психоанализ должен иметь дело, главным образом, со знаками следствия, а не с символами. То, что феноменологически является символом, с научной точки зрения выступает знаком.
Я пытался указать на феноменологическую невозможность интрап-сихических знаков, но это не подразумевает их научной невозможности. С точки зрения поясняющей системы, интрапсихический знак вполне возможен — до тех пор, пока не утверждается, что он воспринимается как таковой. Мы понимаем термин "психический знак" как относящийся к тому случаю, когда знак и означаемое находятся "в пределах" лич-
ности. Поэтому должен существовать аспект или часть личности, который в принципе не воспринимается — бессознательное — именно там находится означаемое.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Binswanger, "The Existential Analysis School of Thought", in: Rollo May, Ernest
Angel, and Henri F. Ellenberg (eds.), Existence (New York, 195S), p.212n.
Robert Fliess, " On the Nature of Human Thought", in: Readings in Psychoanalytic
Psychology, Morton Levitt (ed.) (New York , 1950), p.216.
Sandor Ferenczi, Selected Papers (New York, 1950), Vol. I, pp.277-278. 4 Ernest Jones, cit. by: Roland Dalbiez, Psychoanalytical Method and the Doctrine of
Freud, trans, by T.F. Lindsay (London, 1941), Vol.1, p.109.
Theodore Flournoy, cit. by: Dalbiez, Bd.I, S.lll. 6 Dalbiez, Bd.II, S.102.
Carl Jung, Contributions to Analytic Psychology, trans, by H.G. and C.M.Maines
(London,. 1928), pp. 231-232. 8 Otto Fenickel, The Psychoanalytic Theory of Neurosis, (New York, 1945), p.281.
Binswanger, "The Existential Analysis School of Thought," op.cit., p.210.
Binswanger, "The Case of Ellen West", in: R. May, op.cit., p. 317.
Binswanegr, "The Existential Analysis School of Thought",op.ей., р. 205.
12 Dalbiez, Bd. II, S. 104.
13 Binswanger, "The Case of Ellen West," op.cit., p. 316.
14 Binswanger, Vortrдge, Bd.II, S. 292.
15 Binswanger, Vortrдge, Bd.I, S. 25.
Binswanger, "The Existential Analysis School of Thought", op.cit., p. 203.
17 Ibid., p. 205.
18 Binswanger, Vortrдge, Bd.II, S. 289.
19 Бинсвантер, "История болезни Лолы Босс", с. 168 данного сборника.
20 Binswanger, Vortrдge, Bd. II, S. 290.
Binswanger, "The Existential Analysis of School of Thought" op.cit., p. 203. Georg Hegel, The Phenomenology of Mind, p. 336. Хайдеггер М. Бытие и время. — M., Ad Marginem, 1997, с. 151. Binswanger, Shizophrenie, S. 464.
25 Binswanger, "The Case of Ellen West", op.cit., p. 323.
26 Бинсвангер, "Сновидение и существование", с. 101 данного сборника. Medard Boss, The Analysis of Dreams, trans, by Arnold. J.Pomerans (New York, 1958), pp. 91-92.
28 Ernest Jones, Papers of Psychoanalysis (New York, 1913), pp. 134 -135.
:? ibid., p. 134.
30 Ibid., p. 102.
31 Ibid., pp. 87-142.
32 Ibid, p. 97.
33 Ibid., p. 97. Ferenczi, Vol. I, p. 278.
35 Compare D.Snygg and A.W.Combs, "The Phenomenological Approach and the Problem of 'Unconscious' Behavior", Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 45 (1950), pp. 532-538.
36 Ferenczi, Vol. I, p. 281.
37 Dalbiez, Vol. I, S. 102.
IV
Бессознательное
В предыдущей главе я показал, как естественнонаучная, объяснительная природа психоанализа предотвращает установление значений индивидуальных символов, но конвертирует пережитые символы в знаки. Это значение "обще-универсального" мы обнаруживаем в экзистенциальном a priori или в фундаментальном значении-структуре, которое является трансцендентальным условием существования самости и "противопоставленного" ей мира вместе с отдельными, специфическими значениями. Далее я показал, что психоаналитическое понятие внутрипси-хического знака возможно, только если предположить, что часть души в принципе не переживаема, то есть бессознательна. В главе II мы проследили, как психоанализ, для того чтобы быть адекватной объясняющей научной системой, предмет которой — самость и душа, изъятые картезианской наукой из поля исследования, пришел к постулированию бессознательного в самой сущности сознания. В этой главе мы проследим, как понятие бессознательного, будучи необходимо научным, является неприемлемым с точки зрения Бинсвангера, и как экзистенциальное a priori представляет феноменологическую почву того, что с естественнонаучной точки зрения относится к бессознательному.
Мы уже отметили, что понятие бессознательного является одной из главных предпосылок того, что называется большим кругом науки психоанализа. Это значит, что понятие бессознательного есть теоретическая конструкция, служащая для объединения и объяснения психических феноменов.
Все эти акты сознания [ошибочные действия, сновидения и т.д.] остаются разобщенными и непонятными, если твердо придерживаться мнения, что каждый психический акт, происходящий внутри нас, должен переживаться сознательно; с другой стороны, они попадают в доказуемую связь, если интерполировать бессознательные акты. Прирост значения и связи представляется идеально оправданным мотивом, это может вывести за пределы ограничений непосредственного опыта1. Большинство клинических описаний, которые встречаются у Фрейда, используют выводимый конструкт бессознательного. Фрейд считает предположение о бессознательном необходимым, ибо данные сознания являются "чрезвычайно искаженными"-.
В качестве научной системы объяснения психоанализ представляет спецификацию меньшего круга науки вообще, предписывая устранить сознание из поля исследования и "субстанциализировать" понятие чистой материальности. Это ведет к формированию определенного подхода
к рассмотрению психических явлений, который воплотился в фрейдовском понятии психического аппарата. Заимствованное из биологии понятие инстинкта уточняет главную силу этого психического аппарата, и поэтому является меньшим кругом или конституирующим данные понятием системы в целом. Поведение, эмоции, мысли изначально рассматриваются как "трансформация определенных инстинктивных желаний"3. Понятие бессознательного выполняет функцию объяснения влияния инстинктов там, где они не воспринимаются как действующие. Бессознательное предоставляет способ установления целесообразной причинности между явлениями, в которых на первый взгляд не проявляется эта причинность. Таким образом, согласно предубежденному понятию о том, как должна "работать" душа*, "залатываются" не только разрывы в последовательности сознательных актов4, но и объясняется "соотношение ранних ... переживаний с симптомами" [а также ошибочные действия, сны и т.д.]5.
Выясняется, что понятие бессознательного функционирует так же, как понятие электрона в физике. Однако фрейдовские претензии относительно бессознательного превосходят претензии физика относительно электрона. Физик не утверждает существование электрона; он просто использует гипотезу электрона для объяснений. Фрейд же отстаивает то, что бессознательное существует, он считает своим долгом сделать очевидным его реальное существование6. Но поскольку бессознательное ех hypothesi недоступно наблюдению, о какой научной очевидности может идти речь7? Трудности, возникающие при рассмотрении бессознательного как реально существующего, приводят большинство исследователей психоанализа к утверждению, что речь идет о процессах, а не о дискретности — о процессах, которые невозможно полностью отделить от сознательных (вторичных) процессов.
Фрейд не считает, что "бессознательное" является отдельной неизменяемой сущностью, обитающей в нашем бренном теле... сложнейшие модели могут формироваться на бессознательном уровне, который функционирует в некоторой степени как динамичное единство и различными способами смешивается с вторичными процессами, принимающими форму в ходе жизни... бессознательное — это процесс, или, точнее, процессы.... "Бессознательное" не должно рассматриваться как отдельная сущность8.
Но даже если рассматривать бессознательное как процесс, остаются трудности относительно его статуса: являются ли эти процессы "только" теоретическими конструктами, или же они так же реальны, как и те, для которых служат объясняющей основой? Нет никакого сомнения,
* "Уильям Джемс в работе "Принципы психологии" справедливо обошелся с теми, кто постулирует бессознательное из-за таких случаев, как временная забывчивость или том факте, что решение проблемы может безо всяких усилий прийти в голову через некоторое время после того, как мы оставили свои терзания над проблемой. Но не исключено, что именно таким образом обстоят вещи в сознании: такие случаи не нуждаются в объяснении, если мы в состоянии допустить, что они должны происходить как-то иначе. А у нас нет никакого права делать такое предположение." Maclntyrc, p.7.
что бессознательное (процесс или предмет) в психоанализе часто выступает как реально существующее — но лишь после того, как становится предположительно доступным наблюдению.
Безусловно, такие "бессознательные предрасположенности к аффектам" не являются теоретическими конструкциями, их можно наблюдать клинически, как и бессознательные идеи: они тоже развивают производные, выдают себя в сновидениях, симптомах и других замещающих образованиях9.
В таком случае очевидно, что доступное наблюдению — это не само бессознательное, но те вещи, для которых бессознательное является объясняющей основой. Тот же автор, Фенихель, допускает, что
... существование бессознательного — это предположение, к которому вынуждено прийти психоаналитическое исследование в поиске научного объяснения и понимания явлений сознания10.
Я полагаю, что неопределенность относительно "реального существования" бессознательного может быть разрешена, если учесть, что именно биологическая природа человека, его инстинкты, являются главным (наиболее "реальным") для психоанализа, а постулирование бессознательного необходимо для объяснения отношения между сознательными актами, которые не являются очевидно инстинктивными, и инстинктами. Короче говоря, понятие инстинкта конституирует меньший круг психоанализа, тогда как понятие бессознательного находится в основании большего круга.
Тем не менее, можно возразить, что различие, проведенное выше между психоаналитиком и физиком, не оправдано, поскольку физик не утверждает, что электрон не существует и является всего лишь теоретическим конструктом. Можно возразить, что гипотеза электрона — это правильная гипотеза, и поэтому электрон существует, то есть к существованию можно прийти путем заключения. Я отвечу, что физик, если он делает заключение о существовании электрона, исходит из объяснений гипотезы электрона, тогда как психоаналитик, кажется, часто делает заключение о реальности явлений, исходя из предположения о существовании бессознательного. Вполне допустимо, что перед нами случай вышеупомянутой кругообразности науки, и подобные случаи есть и в физике; возможно также, что каждая наука по мере роста проходит через стадии развития, одна из которых есть изменение поля научного исследования под влиянием теоретических конструкций.
Бинсвангеровская критика понятия бессознательного не является исчерпывающей, в большинстве случаев она фрагментарна и обходится намеками. В основном он согласен с тем, что критицизм по отношению к редуктивной, объясняющей природе психоанализа в целом вытекает из критики отдельных аспектов психоаналитической теории*. И все же * Необходимо помнить, что Бинсвангер рассматривает Dasein-анализ в качестве дополнения к объясняющей системе науки, и поэтому его критика таких вещей, как понятие бессознательного, происходит из их претензии на окончательность, а не из их узкого применения и практической эффективности.
его позиция в некотором смысле определяется критикой понятия бессознательного — ведь для него важна структура мира индивида как она представляется самому индивиду, поскольку у бессознательного нет мира11.
Противопоставляя экзистенциальное а priori фрейдовскому понятию бессознательного, мы приходим к таким пунктам: (1) экзистенциальное а priori нужно понимать как горизонт сознания, как понятие, которое можно использовать феноменологически "в большинстве случаев, когда психоанализ будет говорить о бессознательности некоторых содержаний опыта"12; (2) экзистенциальное а priori отсылает к Dasein, тогда как бессознательное отсылает к бытию13; (3) экзистенциальное а priori является манифестацией хайдеггеровского онтологического а priori (как мы показали в главе I), тогда как бессознательное представляет Dasein только в одном из его "экзистенциалов" — в "заброшенности" (Geworfenheit).
Экзистенциальное а priori как горизонт опыта
Понятие "горизонт", происходящее от греческого hows (граница, предел), в современном словоупотреблении отделилось от понятия границы. То есть горизонт обозначает горизонт для кого-то. Говорить о горизонте опыта — значит говорить о границах значимости конкретного опыта, рассматриваемого отдельно от любого другого более содержательного опыта. Я не делаю здесь ссылку на горизонт объекта моего опыта, который, скажем, в случае восприятия является смутно схватываемой глубиной или краем неопределенного восприятия14. Горизонт объекта опыта — это неопределенный объект. Горизонт опыта — неопределенный смысл. Если я бегу к дереву, чтобы укрыться от дождя, то дерево в моем опыте будет "отчасти пропитанным, отчасти окруженным"15 смутным перцептуальным опытом иных объектов — отдаленных холмов, припаркованных вдоль дороги автомобилей, даже, возможно, самим дождем. Дерево — это фокус опыта, и его горизонт является опытом, в котором совсем не обязательно подразумевается, что горизонт должен быть. Если мы говорим о горизонте самого опыта, а не его объектов, то вопрос должен стоять иначе. Дерево означает для меня укрытие, и опыт такого укрытия имеет свой собственный особенный горизонт, отличный от горизонта объекта — дерева. Этот опыт также представляется "отчасти пропитанным, отчасти окруженным" опытом, возможно, укрытия под зонтиком или крышей; укрытия от солнца или ветра; защищенности, прикрытия и т.д. Поэтому можно говорить о горизонте объектов и горизонте опыта.
Зоннеманн представляет другой аспект понятия горизонта: Горизонт есть не только контур поля зрения как видит его наш фокус [феноменальный горизонт], но также его контуры в отдаленности от оси, по направлению к которой поле видения постепенно затемняется. Роговая оправа очков, которую оставляет без внимания наш фокус, в этом смысле еоризонтни именно в своей близости; еще более горизон-тным (и более близким] будет контур самого глаза16.
Зоннеманн хочет сказать, что если понимать горизонт как границу отдельной сферы, тогда сущностный неизменяемый предел, который не может попасть в поле нашего фокуса, есть структура того, благодаря чему эта сфера становится возможной. Наш феноменальный фокус может смещаться; то, что было горизонтом, может стать фокусом, и наоборот. Но то, что делает возможным само видение, не может стать фокусом видения. В "Критике чистого разума" время является горизонтом интуиции, а трансцендентальные схемы — горизонтом опыта. Кантианские категории являются формами мысли, и в метафоре глаза соответствуют самому глазу. Трансцендентальные схемы же соответствуют "контуру глаза", поскольку являются необходимыми определениями категорий в отношении времени. В этом смысле можно говорить об индивидуальном горизонте, который в качестве трансцендентального представляет границу опыта, определяя его возможности для индивида.
Эти два аспекта понятия "горизонт" содержат в себе экзистенциальное a priori, которое можно определить как "трансцендентальный горизонт опыта". Последнее выражение просто означает, что крайней границей опыта индивида является значение-контекст, благодаря которому возможен сам опыт. Этим значением-контекстом и будет экзистенциальное a priori. Теперь наступило время для сравнения этого понятия с фрейдовским понятием бессознательного.
В качестве примера психоаналитической методики приведем работу с группой невротических реакций, где беспокойство в настоящем имеет причинное отношение к травматическому опыту в прошлом. Мы ограничимся здесь теми случаями, в которых событие переживается как травматическое из-за того, что некоторые импульсы, до сих пор подавляемые, угрожают прорваться в сознание, и это особый случай состояний, в которых неуправляемый рост внутреннего возбуждения приводит к потере равновесия. Мы уже знаем, как Dasein-анализ дополнит такое психоаналитическое описание. Для Dasein-анализа в травматическом опыте значение события для индивида противоречит или "выходит за пределы" трансцендентального горизонта опыта; то есть всеохватывающее значение-контекст, которым и есть экзистенциальное a priori, делает возможным такой опыт, который ведет к своему собственному отрицанию. Это иллюстрирует бинсвангеровский пример с катанием на коньках17. В этом случае экзистенциальное a priori представляет категорию продолжительности; "Все, что делает мир значимым, подчиняется правилу одной категории"18. Потеря устойчивости пятки во время катания на коньках переживается как разрыв в продолжительности, и поэтому экзистенциальное a priori (которое и есть этот отдельный Dasein) приходит к само-противоречию, и таким образом к отрицанию своего мира, к уходу от мира — потере сознания.
Согласно психоанализу, этот травматический опыт приводит к фобии, в которой пациентка страдает от приступа неконтролируемого беспокойства всегда, когда обувь недостаточно фиксирует ее пятку, или когда кто-то дотрагивается до ее пятки или даже говорит о пятках19. (Ее собственные пятки должны тесно прилегать к подошвам обуви.) В таких
случаях, если она не может вовремя убежать, то теряет сознание. Для психоанализа причинная связь между произошедшим тогда на катке и фобией находится в бессознательном. Прошлый инцидент на катке является причиной В, фобии в настоящем. Фобия, связанная с пятками, проистекает из раннего или позднего бессознательного отождествления инцидента на катке со страхом отделения от матери. Поэтому память о травматическом событии подавляется; приступы беспокойства и потери сознания в настоящем объясняются памятью об этом в бессознательном.
Dasein-анализ рассмотрел бы это так: ограниченность трансцендентального горизонта опыта не может принять смысл, что этот горизонт соответствует инциденту на катке. Таким образом, "подавляется" не память о событии, но его значение. Горизонт, в котором сейчас живет пациентка, все еще не может принять такой смысл, разрыв продолжительности, и поэтому уход от мира через потерю сознания остается единственным способом сохранения этого горизонта, не отказываясь от свободы в его пределах. В свете этого не А является причиной В, но скорее горизонт в настоящем продолжает оставаться не менее ограниченным, чем в прошлом, и поэтому значение А по-прежнему не принимается. Инцидент на катке является травматическим в зависимости от того, каков горизонт сейчас; и именно поэтому для В, состояния пациента в настоящем, А служит причиной.
Связь между прошлым инцидентом и фобией, действительно, бессознательная, но только в том смысле, в котором "человек, совершающий ночью "налет" на холодильник... не осознает того, что наблюдающий за ним может назвать это прожорливостью..."20 Экзистенциальное a priori переживается пациенткой непрерывно, и поэтому, подобно горизонт-ному контуру глаза, остается вне фокуса внимания. То, что "заключает в скобки" категория непрерывности, находится в фокусе внимания, тогда как сама категория очень близка к ней. Пока бытие-в-мире пациентки определяется этой категорией в качестве концептуального фокуса, последний (требуя инаковости), должен промчаться мимо этой категории как возможного очевидца мысли21. Только через установление нового, более широкого горизонта этот смысл может стать сознательным — именно это и является терапевтической целью, отличающейся от классического психоаналитического метода осознания бессознательных содержаний как способа эффективного "излечения".
Что же привносит это "философское" понятие горизонта в понимание невротика? Его немедленный эффект — это акцент на сомнительности строгой причинной связи прошлого с настоящим, что неустанно подчеркивал психоанализ. Ведь горизонт находится во времени, и то, что с точки зрения наблюдателя было в прошлом, в пределах трансцендентального горизонта опыта находится в настоящем. Экзистенциальное a priori делает возможным воздействие прошлого на настоящее; отношение личности в настоящем к своему прошлому само по себе определяется не прошлым, но горизонтом, внутри которого переживается опыт и настоящего, и прошлого.
Введение в экзистенциальный психоанализ Л. Бинсвангера. Здесь мы сталкиваемся с той же трудностью, что и в случае психоаналитической узурпации принципа строгой причинности: для того, чтобы претендовать на знание о том, что В является следствием А, нужно быть в состоянии дедуцировать от объективно данного А, что его следствием будет [а не было] В, а этому требованию психоанализ никогда не соответствует, поскольку вся его интерпретация, и даже его "знание" А, наоборот, определяется знанием В как данного. Принимая участие в состоянии пациента в настоящем [В], его собственная память об А объективно принадлежит настоящему; но это означает, что объективно носитель знания и то, о чем он знает, никогда не могут быть разъединены. Причинность никогда не редуцируема к состояниям прошлого; то, что имеет отношение к собственной внутренней истории жизни — есть Kino существования, которое до-рефлективно выражает все, что имеет значение в перестановке "причинности". Последняя есть перестановка объективного функционального порядка генетических эволюции qua processes: в феноменальном времени не детская травма А является причиной картины симптомов В у взрослого, а именно феноменальная причинность со всеми ее вводящими в заблуждение импликациями, о которых мы говорили выше. Напротив, то, чем является А, полностью определено состоянием существования в настоящем [В]; ибо бытие предполагает присутствие, а что в этом случае выражает присутствие А, как не память, которая полностью принадлежит В?22
Более несомненно то, что понятие горизонта позволяет нам говорить о подлинной "причине" травматического опыта, оставаясь верными феноменологическому предписанию, не позволяющему теориям, основанным на предположениях, придавать форму данным. Психоаналитик должен рассматривать травму, прибегая к помощи теории инстинктов и фрустраций в раннем детстве. Dasein-анализ подходит к такой проблеме иначе:
Следовательно, мы должны не объяснять возникновение фобии слишком сильной "до-эдиповой" привязанностью к матери, но понять, что такая сильная привязанность ребенка возможна при условии мирови-дения, основанного исключительно на связанности, соединенности и продолжительности. Такой способ переживания "мира", в такой "тональности" [созвучности. Gestimmtheit] не обязательно должен быть "сознательным"; но мы не должны и называть его "бессознательным" в психоаналитическом смысле, поскольку он находится вне данных противоположностей. На самом деле он относится не к чему-то психологическому, но к тому, благодаря чему становится возможным сам психический факт23.
Ни потеря устойчивости пятки, ни фантазии рождения не являются "объяснениями" возникновения фобии. Скорее, они становятся значимыми, потому что привязанность к матери — что естественно для маленького ребенка — для экзистенции ребенка означает связь с миром. К тому же инцидент на катке приобретает травматическое значение потому, что мир в нем внезапно изменил свое лицо, показал себя с неожиданной стороны, как что-то совершенно иное, новое и непредвиденное. Для этого не было места в мире девочки, это не помещалось в ее мироустройстве, всегда оставалось снаружи, так что с ним нельзя было справиться. Иначе говоря, вместо того, чтобы быть принятым внутренней жизнью, которая впитала бы его значение и содержание,
это появляется снова и снова, не представляя никакого значения для экзистенции, как вечно повторяющееся вторжение Внезапности в неподвижность часового механизма мира24.
Понятие горизонта предоставляет возможность говорить феноменологически о том, что Гуссерль назвал феноменологическим Ничто. Оно дает эту возможность, указывая на отношение опыта к тому, что делает возможным сам опыт, на отношение значения к основанию этого значения.
Понятие горизонта не может заместить понятие бессознательного. Если бы оно выдавало себя за объясняющий принцип, то было бы справедливо осуждено как безрезультатная парафраза мощной теоретической интуиции. Но если мы стремимся понимать мир личности таким, как она сама его переживает; и если обнаруживаем (а именно так и происходит), что сущностный элемент этого мира должен избегать фокуса опыта, подобно тому, как трансцендентальные основания должны а priori избегать фокуса опыта, то метафора горизонта превосходно отражает способ получения опыта трансцендентального основания.
Значение понятий "бессознательное" и "экзистенциальное а priori"
Очевидно, что понятие горизонта, как мы его обозначили выше, не исключает применения понятия "бессознательное" в качестве прилагательного, описательного по отношению к аспекту опыта. Вместе с МакИн-тайром мы можем сказать, что этот описательный аспект представляет
... дополнения, внесенные Фрейдом в каталог событий психики, в котором бессознательные желания, беспокойства и тому подобное, представлены наряду с сознательными. Здесь Фрейд расширяет пределы обыденного языка, который, в свою очередь, предоставляет основания для его работы. И его работа — это работа описания25.
Здесь нас интересует то, что называется "особым психоаналитическим значением" понятия бессознательного26. В тех случаях, когда Фрейд описывает свое детище как "научный метод изучения сознания"27, он подразумевает такое понятие бессознательного, которое выходит далеко за пределы только описательного применения; когда он говорит о бессознательном как о дискриминирующем и подвергающем цензуре, то подразумевает понятие, выходящее за пределы своей теоретической, объясняющей функции. Именно это строгое психоаналитическое значение понятия бессознательного Бинсвангер противопоставляет своим собственным взглядам:
В отношении бессознательного Фрейд сначала заговорил о ид, а не о эго; однако позже он поддержал распространенную концепцию бессознательного как второго эго или второй личности, утверждая, что "части эго и супер-эго также следует признать бессознательными".
В свете всего этого экзистенциальный анализ должен констатировать, что бессознательное в строгом психоаналитическом смысле [то есть не
в смысле невнимательности или забывчивости] может указывать на бытие, но не на экзистенцию28.
Следовательно, фрейдовское понятие бессознательного радикально отличается от того смысла, который придавали ему до Фрейда (как психологи, так и "писатели-имажинисты"29); он относит бессознательное к реальному бытию или ко "второй личности". Бинсвангер допускает, что бессознательное может относиться к бытию, но не к экзистенции (Dasein), подразумевая, что бессознательное не имеет мира или отношения к себе через мир. Хотя оно может представлять часть бытия Dasein, манифестацию одного из его экзистенциалов — заброшенности. Но поскольку оно представляет часть Dasein, то именно Dasein относится к нему и определяет его в той степени, в которой Dasein обнаруживает себя (sich befindet) определенным со стороны бессознательного. Короче говоря, когда мы назвали экзистенциальное а priori "универсалом, наделенным силой" и относили эту силу к Dasein, то имели в виду, что траектория самоопределения личности заключается в способе, которым Dasein манифестирует фундаментальное онтологическое а priori заботы. Поэтому Бинсвангер не может допустить, что один из аспектов заботы может определять Dasein. Такое понятие было бы несовместимо с трансцендентальной свободой в хайдеггеровском видении человека. Таким образом, в конечном итоге, не может быть никакой причинной силы (в естественнонаучном смысле), которая бы определяла экзистенциальное а priori.
Мы должны обратиться к Ж.-П. Сартру за критикой, которая только подразумевается в работах Бинсвангера — а именно, за критикой позиции, допускающей, что самость определяется одной из своих частей (говоря языком Бинсвангера, позиции, допускающей, что сущее, Seiende, определяет Dasein). Критика Сартром этой позиции в общих чертах выглядит так: определение самости ее частью должно безоговорочно представить всю самость в качестве части, приводя таким образом к бесконечной регрессии или к опровержению изначального разделения часть-целое. В хорошо известной главе "Лицемерие" из книги "Бытие и ничто" приведен аргумент, что бессознательный цензор должен осознавать то, что он подавляет, чтобы быть бессознательным.
"Но его [цензора] различения забракованных побуждений недостаточно; он также должен понимать их в качестве требующих подавления, что по меньшей мере предполагает осознание им своей активности. Одним словом, как может цензор отличить требующие подавления импульсы, не осознавая их? Как можно представить знания, не знающие о себе? Знать означает знать, что ты знаешь, — говорил Алан. Давайте лучше скажем: Все знание — это осознание знания. В связи с этим сопротивление пациента подразумевает, на уровне цензора, осознание подавляемой вещи как таковой, понимание цели, к которой ведут вопросы психоаналитика, и действие искусственной связи, посредством которой цензор определяет соответствие подавленного комплекса психоаналитической гипотезе, нацеленной на него. Эти разносторонние операции, в свою очередь, подразумевают, что цензор осознает себя. Но какого рода самоосознание может иметь цензор? Он должен сознавать осознание требующего подавления побуждения, но как раз для того, чтобы не осознавать его"30.
Не нужно развивать контекст сартровского "Лицемерия", чтобы понять уместность его аргументов относительно нашей точки зрения. Сознание, которое "объясняется", представлено на уровне так называемого бессознательного. В переводе на язык Хайдеггера Dasein должно рассматривать как онтологически и трансцендентально предшествующий своим определениям или "частям".
Другая часть сартровских аргументов с не меньшей решительностью освещает эту проблему. Сартр отталкивается от наблюдения, что, проводя различие между ид и эго, Фрейд разрывает целое психики на две части:
Я есть эго, но я не есть ид. Я не занимаю привилегированного положения относительно своей бессознательной души. Я являюсь собственными психическими явлениями, в той степени, в которой я устанавливаю их в их сознательной реальности. Таким образом психоанализ служит заменителем понятия плохой веры, идеи жизни без лжи; он позволяет мне понимать возможность для меня находиться без лжи для себя, так как он помещает меня в то же самое отношение к себе, в каком находится Другой в отношении ко мне; он заменяет дуальность обманщика и обманутого существенным условием жизни, дуальностью ид и эго. Он вводит в мою субъективность глубочайшую межсубъективную структуру Mitsein^ (Курсив мой.)
Поэтому мы сталкиваемся с бесконечной регрессией, если утверждаем, что часть самости, будучи недоступной для сознания, продолжает причинно определять сознание.
Все вышеизложенное помогает разобраться с позицией Бинсвангера относительно бессознательного. Он не отрицает эффективности этого понятия в качестве объясняющей гипотезы, но с точки зрения Dasein-анализа, данные опыта, для которых оно служит объяснением, представляют только один из аспектов Dasein, тот, который Хайдеггер называет заброшенностью.
Бессознательное и "заброшенность"
Перед тем, как перейти к дальнейшему рассмотрению, я хотел бы уточнить, что там, где Сартр говорит о сознании, Хайдеггер и Бинсван-гер говорят о Dasein; при этом основная экзистенциальная реальность сознания не связывается, например, с эмоциями или волей. Сознание, в этом последнем его значении, само по себе открыто Ј>ауе/«-аналитике, которая определяет его местонахождение или интерпретирует его в пределах Dasein. Вот что пишет об этом Бинсвангер:
Поскольку психоанализ, как мы знаем, интерпретирует бессознательное с точки зрения сознания, становится ясно, что учение, которое вместо того, чтобы рассматривать интенциональность сознания в качестве точки отсчета, показывает, как это [сознание] основывается на временности человеческого Dasein, должно также истолковывать раз-
личие между сознанием и бессознательным темпорально и экзистенциально32.
Темпоралъно-экзистенциальное "местонахождение" "бессознательного" и будет (хайдеггеровским) экзистенциалом заброшенности:
Точкой отсчета в такой интерпретации не может быть сознание. Ею может быть только "бессознательное", заброшенность и определенность Dasein.
Заброшенность Dasein, его фактичность представляет собой трансцендентальный горизонт всего того, что научная систематическая психиатрия очерчивает как реальность, называя ее организмом, телом (а также наследственностью, климатом, окружающей средой и т.д.), а также всего того, что очерчивается, изучается и исследуется как психическая детерминированность: то есть как расположение духа и дурное настроение как умопомешательство, компульсивная, или нездоровая "одержимость", как пагубная склонность, инстинктивность, как смятение, пребывание во власти фантазий, как бессознательное в целом34.
Для Хайдеггера экзистенциал Befindlichkeilвыражает тот конститутивный аспект Dasein, который делает ударение на Da, на факте здесь-бытия, происходящем в мире, в котором неисчислимые артикуляции не-Dasein влияют и придают форму будущности и проекту Dasein. То, что не-Dasein необходимо проявляет себя по отношению к Dasein, выражается хайдегтеровским понятием Angeweisenheit (раскрывающая устойчивую референцию). Отношение Dasein к самому себе в контексте Befindlichkeit называется заброшенностью. Dasein обнаруживает себя определенным, ограниченным, расположенным во времени и пространстве, он обнаруживает в себе то, что при ближайшем рассмотрении оказывается элементами не-Dasein; словом, он сталкивается со своей фактичностью, с тем, что уже определено и установлено, так сказать, без его собственного на то согласия. Это значение пассивности, предзадан-ности, и выражается понятием Geworfenheit, бытие-заброшенность.
Бинсвангер называет эту заброшенность трансцендентальным горизонтом всего того, что исследует психиатрия, именуя это организмом, телом, настроением, депрессией, безумием, принуждением, инстинктивностью и т.д. — в общем, бессознательным. Исходя из вышеизложенного обсуждения понятия горизонта, можно заключить, что для Бинсвангера опыт, который определяется тем, что находится внутри самости, возможен благодаря онтологичной априорной структуре Dasein, которую Хайдеггер нарекает Geworfenheit (заброшенность). Поэтому мы также можем прийти к выводу, что для каждой личности экзистенциальное а priori манифестирует себя частично в аспекте фактичности, определенности со стороны "влечений", "настроений", прошлого, и все это находится здесь ("внутри" самости). Этот аспект вместе с другими — пониманием (Verstehen), открытостью (Erschlossenheit) не должны заслонять отношения хайдеггерианского Befindlichkeit (заброшенности) к данным опыта и теоретической ориентации психоанализа.
Таким образом, Бинсвангер не отрицает психического детерминизма или фактичности тела и его химии, или потребности, которые ведут к
принуждению.Он готов согласиться с Линднером в том, что инстинкты35 и телесность, определяя и устанавливая границы, имеют первостепенное значение для экзистенции того, что мы называем и определяем как эго или самость.
Сознание "бытия тела" представляется крайне необходимым для различения эго и не-эго... Поскольку тело одновременно составляет часть субъекта и объекта, оно выполняет функцию соединения эго с внешним миром36.
...Эго не есть чем-то без своего собственного тела и без осознания вселенной. Не то чтобы тело производило его [эго] в некоем мистическом откровении, скорее, для того, чтобы существовало сознание, мы должны отличать себя от мира, и следовательно, осознать пределы собственного тела37.
Бинсвангер хочет подчеркнуть, что заброшенность есть априорный конститутивный элемент (в) Dasein, и отсюда — в некоторой степени конститутивный по отношению к самости. Он хочет подчеркнуть, что первичное единство Dasein выражается в Заботе, в то же время признавая одну из его манифестаций в качестве фактичности, символизируемой телом, бессознательным.
Большая заслуга Хайдеггера в том, что он суммировал бытие Dasein под термином "Забота", который, однако, легко может быть неправильно понят, и провел феноменологическое исследование его основных структур и содержания. Обусловленность, в смысле фактичности ответствования Dasein своей чтойностн представляет лишь один ("экзистенциальный") компонент этой структуры другими. Таким обра зом, то, что в психиатрии необратимо разделено на дискретные реальности областей исследования, то есть конечное человеческое Dasein, здесь представлено своей изначальной структурной целостности38.
Экзистенциальное а priori должно поэтому рассматриваться как причинная необходимость, которая, по описаниям психоанализа, находится в бессознательном и проистекает из инстинктов (Jemeimgkeit у Хайдеггера) Будучи конкретной манифестацией онтологичной априорной структуры заботы в человеке, экзистенциальное а priori в качестве заброшенности выражает индивидуальное чувство собственной конечности, характера, потребностей и истории эти последние элементы и их взаимоотношение и есть тем, что психоанализ объясняет, постулируя бессознательное*. Дальнейшее исследование этого понятия заброшен-
Естественнонаучный процесс редукции, вводя причинную необходимость под рубрикой бессознательного, организма, души, по мнению Бинсвангера, таким образом находит поддержку в "природе случая".
Мы можем сказать о душе, равно и как об организме, что они принадлежат к скрытому, однако как сокрытому, раскрываемому онтологический характер фактичности заброшенности бытия, которое мы называем здеш-ностыо (Da). (Binswanger, Vortrдge, Bd. II. S. 299.)
Однако мы должны внимательно отличать эту фактичность, являющуюся Seinsc-harakter des Daseins, от исследуемого естественной наукой фактического. Понятие
ности как нельзя лучше осуществимо в контексте отношения психоанализа и Dasein-анализа к психопатологии, к чему мы сейчас и обратимся.
ПРИМЕЧАНИЯ
Sigmund Freud, "The Unconscious", trans, by Cecil M. Baines, in: Collected Papers
(New York, 1959), Vol. IV, p. 99.
Else Frenke-Bmnswik, " Psychoanalytic Concepts and Theories", in: Morton Levitt
(ed.), Readings in Psychoanalytic Psychology (New York, 1959), p. 31.
A.C.MacIntyre, The Unconscious (London, 1958), p. 27.
Medard Boss, Psychoanalyse und Daseinalyse (Bern, 1957), S. 21.
Maclntyre, p. 24.
Ibid., p. 71.
Op. cit.
Ruth L.Munroe, Schools of Psychoanalytic Thought (New York, 1950, pp. 35-37.
Otto Fenichel, The Psychoanalytic Theory of Neurosis (New York, 1945), p. 17.
Ibid., p. 7.
11 Binswanger, Schizophrenie (Pfullingen, 1957), S. 149.
12 Sonnemann, Existence and Therapy (New York, 1954), p. 195.
13 Binswanger, Schizophrenie, S. 149.
фактичности Хайдеггера выражает тот факт, что Dasein обнаруживает, что имеет "seinen Gmnd nicht selbst gelegt" (Vortrдge, Bd. II, S. 299), но все же "отдано в его власть" (ihm uberantnvortet). Просто в Dasein открывается (erschlossen) только то-что-есть; вот почему Dasein является таким, как оно есть, нам скрытым (verborgen) при этой первоначальной встрече. Таким образом, Dasein, не встречает свою фактичность подобно тому, как оно встречает объект в мире (eine Vorhande-пепе); его фактичность является определением его основного бытия.
"Что оно фактически есть, может быть потаено в аспекте почему [оно есть];
но само "так оно есть" присутствию разомкнуто". (Хайдеггер, "Бытие и
время", с. 276.)
В качестве истоков науки Бинсвангер ставит это почему Dasein перед его фактичностью.
"Экзистенциальную концепцию науки выражает вопрос "почему?". Когда Dasein обращает этот вопрос исключительно к скрытой основе его то что-есть, тогда мы оказываемся в сфере науки о жизни, в сфере биологии, генетики, биологической психологии и психопатологии". (Vortrage, Bd. II, S. 299-300.)
Dasein, стремящееся узнать почему своей фактичности, открывает законы, объяснения, каузальную обусловленность; одним словом, фактическое.
"'Почему' в смысле фактичности соответствия Dasein своей основе в науке
меняется на 'почему' факта его "существования" как земной бытийности".
(Vortrдge, Bd. II, S. 300.)
Экзистенциальное а priori выступает единой манифестацией заботы и ее экзистенций, к которым относится и то, что Хайдеггер назвал Befindlichkeit, Geworfenheit и Faktizitдt. Фактическим является содержание способа существования, который называется Фактичностью. Отдельные причины, потребности, побуждения и значения, с которыми имеет дело и объясняет психоанализ, не составляют фактичность, но именно фактичность Dasein делает возможным и неизбежно, влечет за собой постановку вопроса "почему" в науке.
Husseri, Ideas, trans by W.R.Boyce Gibson (London, 1952) p 102
Op.cit.
Sonnemaim, p. 195.
Binswanger, "The Existential Analysis Schools of Thought", in: Rollo May Ernest
Angel, and Henri F.Ellinberger (eds.), Existence, p 203
Op. cit. H Op. cit.
Sonnemann, p. 194.
Перефраз Зоннемана, р. 195.
Sonnemann, p. 233.
Binswanger, "The Existential Analysis Schools of Thought" op cit p 204
Ibid-, pp. 204-205. ' Maclntyre, p. 48.
James С Miller, Unconsciousness (New York, 1942), p. 42. * Maclntyre, p. 44.
Binswanger, "The Case of Ellen Wesl", in: Rollo May, Ernest Angel and Henri
F.Ellinberger (eds.), Existence, p. 326. * Maclntyre, p. 44.
Jean Paul Sartre, Being and No thingness, trans, by Hazel E. Barnes (New York
1956), pp. 52-53. " Ibid., pp. 50-51.
Бинсвангер, с. 92 данного сборника. " Там же. -
Там же, с. 86.
Robert Lindner, Prescription for Rebellion (New York, 1952), pp. 30-31.
MSechehaye Authobiogh f Shihi Gil (N Y 6
36
er, Prescription for Rebellion (New York, 1952), pp. 30-31.
M.Sechehaye, Authobiography of a Schizophrenic Girl (New York 1956) pp 144-145 38 Louis Lavelle, in: Sechehaye, pp. 145-146. Бинсвангер, с. 86-87 данного сборника
Психопатология
Во второй главе мы говорили о том, что биологическое понятие инстинкта конституирует меньший круг психоанализа, рассматриваемого в качестве объясняющей системы. В контексте той главы мы определяли инстинкты как интенциональные акты, не имеющие подлинного отношения к агенту-самости. Сохраняя эту минимальную интенциональ-ность в качестве своего меньшего круга, психоанализ способен занять срединную позицию между слишком редуктивными тенденциями нефрейдистской научной психологии и не-редуктивной и не-объяснитель-ной описательной психологией. Значения сохраняются в качестве первичной реальности в системе, но это значения, не имеющие существенного отношения к индивидуальной самости, которая редуцируется в ходе объяснения.
До этого мы описали медицину как отрасль биологии человеческого организма, которая имеет дело с биологической целью, нормами и ценностями — как биологию с особенным отношением к человеку, который находится в центре референции. Поэтому мы говорили о медицине как о привносящей ценностное отношение в меньший круг биологии. После обсуждения фрейдовской концепции человека как homo natitra (природного существа), мы пришли к той точке, откуда мы можем говорить о психологии и психопатологии в фрейдовском смысле как о приносящих в меньший круг психоанализа ценностное понятие психического здоровья. Проблема, с которой мы столкнулись — это то, что в биологической медицине ценностные понятия здоровья, симптома, болезни и т.д. полностью переводимы во вне-ценностный контекст физиологии, неврологии и т.п., тогда как в медицинской психологии понятия (психического) здоровья, нормальности и т.д. не соотносятся с такими "объективно" недвусмысленными состояниями физического организма, как жизнь, смерть или органическая дисфункция.
Эта проблема возникает исключительно потому, что понятие инстинкта формирует меньший круг психоанализа. То есть для психоанализа основной реальностью является интенция; инстинкты направлены на объекты и эти объекты соответственно оценивают, их хотят, в них нуждаются и к ним стремятся. В биологии понятие инстинкта находится в большем круге и служит теоретической конструкцией, которая объединяет данные, представляющие результат предшествующей трансформации явлений в соответствии с картезианскими требованиями устранить интенциональность (сознание) из поля исследования, из res extensa. Рассматриваемый вне исторического контекста своего развития (который,
безусловно, есть контекст практической медицины), психоанализ демонстрируя такую желанную середину между уступчивыми и редуктив-ными тенденциями разума, дорого платит за свою объясняющую адекватность, когда становится медицинским, он платит ту цену, которую требует природа предмета изучения.
Когда биология рассматривается в качестве медицины, процессы, сами по себе не-интенциональные, становятся предметом оценки, соотносятся и помещаются в рамки относительно недвусмысленной ценности, органического здоровья. Когда психоаналитическая психология рассматривается как медицина, процессы, сами по себе интенциональ-ные, к примеру, ценности и значения для самости, становятся предметом оценивания — такого, которое в качестве критерия использует биологическую цель. Это оценивание самих ценностей неизбежно, пока интенциональность инстинкта продолжает очерчивать пределы меньшего круга психоанализа — но она должна это делать, если психоанализ хочет избежать сверх-редуктивности, которую демонстрирует, например, бихевиоризм. Все эти соображения позволили нам во второй главе сделать вывод: там, где психоанализ избегает дилеммы, возникающей когда метод исследования принадлежит к тому же порядку, что и объект исследования, он рассматривает их опять с точки зрения медицины, где основа влияния и контроля принадлежит к тому же порядку, что и объект влияния. Цена оценивания ценностей или попыток наделить значение значением — это основная двусмысленность относительно природы терапевтической цели: нормальности. Ибо наука не может оправдать, ценность подобно тому, как она оправдывает теорию — потенциально редуцировать эту ценность к "факту", как это делает биологическая медицина, трансформируя каждый медицинский факт в биологический. Именно такая процедура не под силу психоанализу, потому что его теоретическое ядро (меньший круг) составляет понятие инстинкта — инстинкт направлен на объект и оценивает объект. Психоанализ может, пожалуй, оправдать понятие инстинкта, указывая на его объясняющую силу, но он не может таким же способом оправдать ценность того, на что направлен инстинкт, или того, в чем психика, рассматриваемая как биологическая структура, "нуждается".
Из-за того, что понятие инстинкта составляет меньший круг психоанализа, ценности (личностные) в их феноменальности трансформируются таким образом, что к тому времени, когда они уже являются данными, то воспринимаются как превратности инстинктов — как более или менее непрямые способы реализации инстинктивных целей, говоря словами Эрнеста Шехтеля, как "обходные пути удовлетворения основных биологических потребностей"1.
Когда мы фокусируем наше внимание на том, на что собственно направлен инстинкт, то понимаем существенное различие между психоаналитическими и биологическими выкладками. Как правило, инстинкт в биологии подразумевает адаптацию, целенаправленное действие, в смысле теоретически постулируемой направленности, выражен-
ной в единице силы, которая влияет на организм в целом с эффективной причинностью.
Инстинктивное действие характеризуется тем, что организм выполняет некоторые сложные движения, имеющие важнейшее значение для его собственной жизни или жизни потомства. Это происходит без какого-либо предыдущего опыта, независимо от обучения, и часто без возможности предварительного знания о том, что именно достигается-.
Курсив в этой цитате принадлежит мне, ибо здесь я хочу сказать, что биологическое понятие инстинкта прямо подразумевает биологически-медицинское понятие здоровья в значении продолжительности существования {успешная адаптация к окружающей среде, эффективное функционирование и т.д.).
Однако Фрейд пишет вот о чем:
Сила ид выражает истинную цель индивидуальной жизни организма. Она заключается в удовлетворении естественных нужд. Такие цели, как сохранение жизни щи защита от опасностей посредством беспокойства, неприложимы к ид. чЭто скорее дело эго, которое также заботится об изобретении наиболее благоприятного и наименее рискованного метода достижения удовлетворения, принимая во внимание внешний мир.... Силы, которые, по нашему убеждению, существуют за напряженностью, спровоцированной потребностями ид, называются инстинктами^.
Словом, фрейдовское понятие инстинкта предполагает, что последний не обязательно направлен на то, что в биологической медицине считается здоровьем. Инстинкт скорее стремится к удовольствию, которое может способствовать или не способствовать биологическому здоровью. Разрыв между психологическими и биологическими ценностями неизбежен, как только понятие инстинкта получает психологическую трактовку — к такому выводу приходит Ллойд Морган4; Мортимер Остоу5 связывает такой разрыв с переходом от рассмотрения поведения извне (биология) к рассмотрению психической функции изнутри (психология). Морган отмечает, что
Эти два набора ценностей — ценности выживания и удовлетворения --столь часто и по необходимости столь созвучны, а их взаимоотношения так близки и так многочисленны — что мы с легкостью забываем об их логическом разграничении6.
Это замечание Моргана могло бы поубавить значительности моего аргумента относительно того, что инстинкт в понимании Фрейда не обязательно связан со здоровьем — ведь оно утверждает, что инстинкт, рассматриваемый психологически ("изнутри") сущностно не соотносится со здоровьем. Но замечание Моргана касается одних и тех же процессов (инстинктов), которые рассматриваются с различных точек зрения. В биологической перспективе (снаружи) инстинкт осуществляет "жизненную программу индивида и видов"7, но в рассмотрении изнутри тот же инстинкт направлен на собственное удовлетворение (удовольствие). Этого нельзя сказать об инстинктах во фрейдовском понимании, которые отделены от эго — именно оно служит целям самосохранения.
Поскольку для Фрейда "сила ид (инстинкта) выражает истинную цель индивидуальной жизни организма", то биологическому здоровью отводится место вспомогательного придатка в реализации удовольствия. Поэтому эго должно служить "схеме ценностей" ид. Неудача приводит к неврозу:
Психоаналитическая практика предоставила нам правило: люди заболевают неврозом в результате фрустрации. Имеется в виду фрустрация в удовлетворении их либидозных желаний... То есть для того, чтобы случился невроз, должен существовать конфликт между либидозными желаниями личности и той частью ее бытия, которую мы называем эго...%
Наш анализ демонстрирует, что неврозы переноса происходят из отказа эго принять мощный инстинктивный импульс, существующий в ид, а также из отрицания его двигательного высвобождения или оспаривания объекта, на который он направлен. Таким образом, эго защищает себя от импульса через механизм подавления; репрессированный импульс борется со своей судьбой и изобретает неподконтрольные эго способы замещающего удовлетворения (симптом), которые навязываются эго в форме компромисса; в этом вмешательстве эго обнаруживает ущерб и угрозу для своего единства, и продолжает борьбу в отношении симптома, борьбу, которая изначально относилась к импульсу. Все вместе это составляет клиническую картину невроза9.
Классические психоаналитические определения психического здоровья, явно или скрыто подразумевают необходимость для здоровья удовлетворения инстинктов и считают невроз "важнейшим следствием патологического действия инстинктивных сил10"*.
Вышеизложенная дискуссия призвана показать, что ценность находится в сердцевине психоаналитической теории. Дальнейшее оценивание данных с точки зрения медицинской биологии становится почти излишним, поскольку в "конституировании" своих фактов и данных меньший круг психоанализа уже структурировал их по шкале ценностей. Удовлетворение инстинктов является ведущей ценностью в жизни человека; все остальные — всего лишь ее трансформации.
Во второй главе я отмечал, что медицина привносит ценностное отношение в рассмотрение биологических фактов. Можно провести явную аналогию с психоанализом. Последний не оценивает ценности, на ко-, торые направлены инстинкты. Я повторюсь, сказав, что в противном случае он опустился бы ниже минимального уровня интешгиональнос-ти, представленного меньшим кругом. Или парадоксальным образом опроверг бы свой меньший круг, приложив то, что является производ-
"Невроз является болезнью, и поэтому формой страдания, которая мешает функционированию принципа удовольствия. Он не допускает прямого удовлетворения либидозных влечений и оказывает эго "медвежью услугу". Лечение, поэтому, является принципом восстановления первичности принципа удовольствия." Де Соссюр (De Saussure), "Me га-психология удовольствия" (International Journal of Psychoanalysis, Vol. XL (1959), p. 88-89).
НЫМ от инстинктов ("не-инстинктивную" ценность), к инстинктивным ценностям самим по себе.
Невроз, следовательно, есть внутреннее состояние, в котором фиксируется неудовлетворенность инстинктивных требований. Психоанализ не может позволить себе предоставлять независимые причины того, чтобы называть такое состояние невротическим. Он не может, например, сказать, что поскольку такое состояние является непродуктивным или социально вредным, неприятным (для эго\) и т.д., то оно невротическое или патологическое. Только если эти причины в конечном счете относятся к неудовлетворенности инстинктивных влечений, они действительны для психоанализа; но в таком случае они больше не являются "независимыми". Инстинкты не направлены на производительность труда личности, на социальные или моральные ценности, а также на такое удовольствие для эго, как престиж — все это подразумевает в основном эго в его отношении к миру на службе у инстинктов. Иначе говоря, утверждение, что удовлетворение инстинктивных требований есть залог здоровья, в пределах структуры психоанализа является аналитическим утверждением.
Это утверждение также будет нереалистичным и почти бесполезным, за исключением абстрактного, теоретического его рассмотрения. Психоаналитическое понятие здоровья должно быть переформулировано, если оно призвано учитывать факт существования эго и супер-эго, а также отказ от инстинктов, на котором, согласно Фрейду, построена человеческая цивилизация. Именно здесь проявляется основная двусмысленность относительно природы нормальности. Определение здоровья становится негативной формулой, в которой представлено достаточно точное определение невроза. Причина в том, что если психоанализ не может ограничить свое определение здоровья только удовлетворением инстинктивных требований, то вместо контекста инстинктивных целей должен быть привнесен ценностный контекст. Я снова отмечу, что так происходит оттого, что меньший круг психоанализа конституируется понятием, которое подразумевает направленность на объект, и поэтому любое дальнейшее введение ценности в медицинском смысле исключается. Таким образом, перед нами трудности, с которыми сталкиваются теоретики психоанализа, когда они пытаются приводить, к примеру, свободу акта в качестве показателя его здоровья, а также беспристрастие и последовательность основателя, Фрейда, который придерживался мнения: все, чего психоанализ может добиться в терапии — это обеспечить пациента иллюзией свободы.
Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к таким умозаключениям: психопатология, в пределах ее фрейдовского понимания, представляет взгляд на человека как на картезианский механизм интенций, ценностей, значений. Этот механизм вызывается к действию, если имеет место невозможность реализовать основную цель (инстинктивное удовлетворение). Иначе говоря, если бы удовлетворение инстинктов могло быть вечным, то свойственный человеку механизм психики никогда бы не возник. Поскольку первоначальную, основную ценность невозможно
реализовать, то цель реалистической медицинской психологии может относиться только к механизму, к механике человека. Поэтому психоанализ не ищет удовлетворения инстинктивных потребностей внутри цивилизации, но стремится показать тот механический и детерминистский способ, которым психика ищет удовлетворения внутри культуры, препятствующей этому удовлетворению. Неудивительно, что один из самых тонких современных теоретиков отклоняет все критерии здоровья, относящиеся к содержанию психических актов.
Итак, сущность нормальности — это гибкость, в отличии от "замораживания" поведения в неизменяемые модели, что характеризует любую манифестацию невротического процесса — будь это импульсы, цели, мысли, акты или чувства. То, насколько событие поведения способно к изменению, зависит... от природы констелляции сил, которые его спровоцировали. Ни один момент поведения нельзя считать невротическим, кроме тех случаев, в которых процессы предопределяют автоматическое повторение безотносительно к ситуации, полезности или последствиям действия11.
... основываясь на прагматических соображениях, мы оправданно называем "нормальным" любое действие, в определении которого доминирует союз сознательных и пред-сознательных сил... в то же время мы называем ненормальным, нездоровым или невротическим любое действие, в котором доминируют бессознательные процессы... потому что такие силы могут предопределить его автоматическое повторение независимо от соответствия конкретной ситуации, немедленных или отдаленных последствий1-.
Теперь, я полагаю, мы находимся в подходящем контексте для рассмотрения позиции одае/и-аналитики относительно психопатологии. Теоретическая структура психоаналитического знания такова, что ее точку опоры составляет понятие, подразумевающее интенциональность, то есть оценивание того, на что направлена эта интенциональность. Ее данные, таким образом, представляют структуры оценки и значения, а, значит, дальнейшая "независимая" оценка данных с точки зрения соматической медицинской биологии является недопустимой. Поскольку для психоанализа необходимым условием возникновения свойственного человеку психического механизма есть, опять же-таки, невозможность осуществления основной инстинктивной ценности, то он не может утверждать, что реализация инстинктивных целей есть стандарт психического здоровья. Поскольку он не может и, в пределах собственных предпосылок, представлять ценности, которые считались бы независимыми от инстинктивных, то в поисках стандарта нормальности он может говорить скорее о том способе, которым психика in to to ищет удовлетворения, чем о удовлетворительности усилий психики.
Для Лоуренса Куби (Kubie) слово повторение, точнее — автоматическое или механическое повторение, адекватно характеризует психопатологическую констелляцию невротических действий. Можно убедиться, что для Куби предрасположенность к автоматическому повторению наблюдается, когда действие определено преобладанием бессознатель-
ных сил. Причина того, что последнее приводит к первому, по его мнению, присуща самой природе символического процесса, ведущего от бессознательного к сознанию.
... в случае, когда бессознательная система (или, возможно, союз между пред-сознательной и бессознательной системами) преобладает, то проистекающее действие должно повторяться бесконечно. Это происходит потому, что его цели представлены бессознательными символами, а бессознательные символические цели не бывают достижимыми13.
Несмотря на то, что формулировка не самая удачная, смысл ее достаточно ясен. По мнению Куби, бессознательным действием достигается только символическая цель. То, символом чего она является, недосягаемо, почему и вырабатывается движущая сила для повторения.
Наше обсуждение символов в третьей главе наталкивает на ожидание именно такой формулировки. Ведь, как мы уже отмечали, психоанализ скорее подразумевает "знак" там, где он говорит о "символе", так что имеет возможность говорить о символе не только как о не выражающем, не передающем или не принимающем участие в том, что символизируется, но в действительности -как о скрывающем или маскирующем символизируемое. Поэтому можно надеяться, что Бинсвангер отбросит (или дополнит) такое мнение, и не только ввиду общего принципа, но и на том основании, что такое мнение излагает неспособность психоаналитической системы отдать должное явлениям опыта, которые, будучи подлинными символами, выражают значение символизируемого посредством экзистенциального a priori. Итак, какую же роль отводит психопатологии Base in-анализ?
На первый взгляд, очевидно, никакую:
Dasein-анализ отделяет себя от психопатологии не только в том, что он не применяет объективно-дискурсивные и индуктивные методы для изучения наделенного душой организма, но скорее стремится к феноменологической интерпретации экзистенциальных форм и структур. Его отличие состоит также в том, что он неустанно игнорирует биологически ориентированное различие между больным и здоровым. Поэтому задачей психопатологии становится ассимиляция материала, предоставленного ей Dasein-анализом, его категоризация, тестирование и артикуляция14.
Это значит, что Dasein-анализ видит свое предназначение в исследовании личности и ее мира еще до всякого разделения на болезнь и здоровье. Хотя на самом деле основные труды Бинсвангера касаются того, что наука психиатрии классифицирует как патологическое. То, чего добивается Бинсвангер, невозможно внутри психоанализа: он стремится представить человеческие феномены (значения для самости) до всякой их трансформации в данные со стороны систематического меньшего круга, и таким образом феномены могут независимо объясняться и оцениваться научной психопатологией. Для Бинсвангера хайдеггеровские "категории", экзистенциалы, в отличии от понятия инстинкта, составляющего меньший круг психоанализа, не трансформируют феномены
экзистенции человека, но скорее указывают те сущностные модусы, в которых Dasein воспринимает, трансформирует и конституирует мир.
Поэтому центральным понятием здесь есть понятие Dasein как мироустройства, "мира" в смысле модуса и способа, которыми сущее доступно Dasein. В свете этого психическое заболевание возникает как модификация фундаментальной или сущностной структуры, как метаморфоза этого бытия-в-мире15.
Модификацию сущностной структуры Dasein должно понимать как модификацию способа, которым мир для него доступен. По мнению Бинсвангера психопатология занимается исследованием тех модификаций сущностной структуры Dasein, которые приводят к "суживанию", "уменьшению" и "выравниванию" мира.
Трансценденция означает нечто гораздо более фундаментальное, чем знание и интенциональность, ведь мир прежде всего и более всего доступен (erschlossen) через настроение (Stimmung). Если помнить о том, что бытие в мире определяется как трансценденция, и в этом свете рассматривать наш психиатрический Dasein-анализ, то мы заметим, во-первых, что с этой точки зрения мы в состоянии понимать и исследовать также психозы, во-вторых, в них следует видеть определенные модификации трансценденции. Как только мы это осуществляем, мы говорим так..: в случаях психических заболеваний мы сталкиваемся с модификациями фундаментальной или сущностной структуры и структурных частей бытия-в-мире как трансценденции. Это составляет часть задачи психиатрии — исследовать и подтверждать эти модификации с научной точностью...
В безумии, в том, что называется психотическими формами бытия-в-мире вообще, мы до сих пор обнаруживаем модификации картины мира (Weltbildung oder Weltlichung) в смысле "leaping" (упорядоченного полета идей) и "водоворота" (хаотичного полета идей) с одной стороны, и модификацию в смысле обезмиривания (Ver-Weltlichung) Dasein, который "лишает" свой мир одновременного сокращения, стагнации и разложения*16.
То, что отдаляет нас от "психически больных", что делает их чуждыми нам —¦ это не отдельные восприятия или идеи, но скорее факт их заключения в крайне ограниченном мироустройстве, ведь оно руководствуется одной или несколькими темами17.
Чем более пустымь более упрощенным и узким будет мироустройство, с которым связывает себя экзистенция, тем быстрее появится беспокойство, и тем сильнее оно будет18.
Бинсвангер говорит следующее: если то, что делает возможным экзистенцию и опыт, то, что экзистенциально априорно, "сужено" и "уменьшено"; это значит, что экзистенция руководствуется только одной или несколькими категориями. В значении-матрице, внутри которой феномены возникают и соотносятся с Dasein, внутри которой конституируются самость и мир, преобладает (в крайних случаях) только одна тема.
* См.: Goldstein, p. 491: "Низкий уровень экзистенции у больного, по сравнению с нормальным уровнем, можно охарактеризовать, прежде всего, сокращением мира и ограничением степеней свободы личности."
Это можно выразить, сказав, что здесь есть только одно экзистенциальное a priori.
В упомянутом выше случае на катке Dasein подчинялся полностью и единственно одной экзистенциальной априорной категории длительности.
Ключом к мироустройству нашей маленькой пациентки служит категория продолжительности, категория продолжительной связи и соединения. Это ведет к глобальному сужению, упрощению и истощению "содержимого мира", крайне сложной тотальности контекстов значения пациентки. Все, что делает мир значимым, подчиняется правилу той единственной категории, которая поддерживает ее "мир" и бытие19.
Бинсвангеровские труды по шизофрении представляют нам личностей, чье бытие-в-мире происходит именно таким способом. Мироустройство Эллен Вест руководствуется экзистенциальным а priori полярности неземного и мира-могилы; мироустройство Юрга Цюнда — экзистенциальным а priori натиска и давления; мироустройство Лолы Восс — экзистенциальным а priori близости и чуждости (uncanniness); мироустройство Сюзанны Эрбан — экзистенциальным a priori опасности20. Во всех этих случаях психические заболевания (Geisteskrankheit) рассматриваются как подавление Dasein одним типом мироустроения, а психоз считается наиболее обостренным выражением этого21.
Прежде чем продолжить этот ход мыслей, можно остановиться, чтобы понять, как в этом свете выглядит проблема в отношении психоаналитических определений психической болезни. Когда только одно экзистенциальное а priori управляет мироустройством личности, под него попадают все восприятия, а также все конкретные значения-ситуации. Таким образом, это экзистенциальное а priori становится "общим универсалом" (см. третью главу) всего опыта личности — прошлого, настоящего и будущего. Если говорить, например, о случившемся с девочкой на катке, то все, с чем она сталкивается, попадает под категорию продолжительности; вещи и события либо сохраняют продолжительность, либо угрожают ей. Потеря устойчивости пятки угрожает ее миру распадом и вызывает беспокойство*; во временном смысле — любое внезапное вызывает такой же эффект разрывом в продолжительности "потока времени". Здоровая личность понимает, что происходящее внезапно может быть хорошим или плохим, приятным или неприятным; неожиданность не соотносится с этим. Больная личность в таком случае абстрагирует из всех феноменов только то, что соответствует трансцендентальным условиям ее мира — в этом случае мир определяется исключительно и полностью экзистенциальным а priori продолжительности. Сказать, что больная личность абстрагирует таким образом — это не значит сказать, что она обнаруживает себя противопоставленной определенным феноменам и потом абстрагируется из них; это означало бы что она сначала
См. определение Гольдштейном беспокойства как потери мира, которое цитирует. Ролло Мэй в работе Meaning of Anxiety (New York, 1950).
воспринимает, и только потом абстрагирует свое восприятие. Но здесь подразумевается нечто иное — говоря словами Бинсвангера,
То, что мы воспринимаем — это "прежде всего и более всего" не впечатления вкуса, звука, запаха или прикосновения, и даже не вещи или объекты, но скорее всего, значения22.
Одно экзистенциальное а priori управляет всем опытом — включая наиболее непосредственный; в нашем примере мы не говорим о ситуациях или событиях, которые помимо всего прочего происходят внезапно и поэтому предоставляют некое "объективное" основание для такой односторонней абстракции. Скорее Dasein как таковой "темпорализует себя" (sich zeitigt) в модусе внезапности23. Для такого Dasein все, что происходит, происходит внезапно, и поэтому любое событие имеет свой порождающий беспокойство потенциал; и Dasein должен прилагать максимум усилий чтобы подчинить все события условию всегда-бытия. Время "останавливается" и "экзистенциальное созревание"24 становится невозможным.
В этом общем контексте мы можем теперь описать психическое заболевание в терминах всепроникающего однообразия опыта, как широко распространенную гомогенность символической референции. Это значит, что весь опыт, все восприятия, знания и т.д. выражают и участвуют в одном экзистенциальном а priori.
Здесь мы имеем указание на то, что можно назвать трансцендентальными условиями возможности ненормальности, как их определил выше Куби. Повторение, как его понимает Куби, экзистенциально возможно только когда весь опыт имеет одинаковую символическую ценность, не в смысле знакового отсылания к бессознательной причине, но в смысле выражения экзистенциальным а priori, "общим универсалом", и причины, и следствия (а следовательно, и трансцендентальных оснований причины и следствия). Мы отсылаем читателя к третьей главе за более детальным изложением этого вопроса. Здесь же мы просто отметим, что тот смысл, который вкладывает Куби в повторение, неизбежен в том Dasein, в котором значение-контекст столь всепроникающе, что становится необходимым условием всего опыта.
Здесь возникает также проблема экзистенциальной "наличной ценности" понятия заброшенности. Главным оауе/я-аналитическим критерием психического заболевания является степень, в которой свобода Dasein подчинена власти чего-то еще. У невротика такое подчинение является частичным; хотя его бытие-в-мире находится во власти одной или нескольких категорий, он постоянно борется за то, чтобы придерживаться своей собственной силы самоопределения. Эта борьба принимает формы Dasein, который отказывается от некоторых своих возможностей чтобы защитить от опасности разложения мир, который строго конституировался под влиянием одного доминирующего значения-контекста, а значит — защитить от этой опасности и самость. Но поскольку уже сам по себе отказ от потенциалов экзистенции означает начало растворения (выравнивания, суживания, опустошения) самости, все
предпринятые усилия приводят к собственному отрицанию, и невротик обнаруживает, что он пойман в сети. Попытка разрешить проблемы приводит к тому, что они еще больше усиливаются. Психотик идет несколько дальше и полностью подчиняет себя власти чего-то еще. Цена, которую он платит за уменьшение опыта беспокойства — потеря собственного самоопределения. В случае психоза Dasein полностью подчиняется одному определенному мироустройству*.
Во всех этих случаях Dasein больше не может свободно позволять миру быть, а, скорее, капитулирует перед одной конкретной картиной мира, подавляется ею, становится одержимым ею. Специальным термином для обозначения этого состояния капитуляции служит слово — заброшенность^.
Из предыдущей главы мы помним, что заброшенность является модусом только одного из хайдеггеровских экзистенциалов, Befindlichkeit. Хотя здесь кажется, что он занимает доминирующее положение среди них. Причину этого мы выясним сейчас, достигнув точки, из которой можно уточнять с хайдеггеровской позиции, из каких модификаций Abwandlungen состоит сущностная структура Dasein в душевной болезни. Свобода заключается в полном принятии Dasein своей заброшенности как таковой26.
Свобода поэтому подразумевает способность Dasein противостоять жестокому факту невозможности изменения и причинного воздействия его прошлого, и через Понимание {Verstehen) проектировать себя в будущее, в то же время желая ответственного отношения к собственной заброшенности. В случае психического заболевания, Dasein полностью подчиняется мироустройству (а значит, миру сущего), к которому он активно не относится и не принимает на себя обязательств. Трансцендентальным условием такого положения дел есть экзистенциальное а priori, которое манифестирует заботу преимущественно в модусе заброшенности и посредством этого приводит другие экзистенциалы в состояние не-аутентичности. Невроз и психоз поэтому нужно рассматривать как один и тот же способ не-аутентичного существования Dasein, способ, определенный диспропорциональностью экзистенциала заброшенности. Таким образом, наличную ценность понятия заброшенности можно выразить через понятие повторения. В психическом заболевании это повторение, с точки зрения Хайдеггера, является не-аутентичным". Вот что пишет об этом Бинсвангер:
* В этом контексте Эрвин Штраус предлагает рассматривать сон как подчиненный миру, структурированому экзистенциальным а priori. "Во сне мы не удаляем наш интерес из мира так же сильно, как мы предаемся его влиянию. Мы отдаемся миру, отказываясь от нашей индивидуальности. Мы больше не удерживаемся в мире, противоположном ему" ("The Upright Posture," Psychiatric Quarterly, Vol. . XXVI (1952), p. 535).
** отношении описания аутентичного повторения как выбора себя или отношения в свободе к фактичности, см. работы Кьеркегора The Sickness Unto Death, а также Either/Or, Vol. II.
Dasein больше не распространяется в будущее, не опережает себя, он скорее вращается по узкому кругу, в который он заброшен, в бессмысленном, а значит в без-будущном и бесплодном повторении самого себя*2?.
Говоря схематически: (1) Dasein конституирует свой мир через значение-контекст экзистенциального а priori; (2) Dasein признает, что его мир и Самость конституируются таким образом (Befindlichkeit); (3) Dasein или (а) постигает свой мир и Самость в свободном открытом (Weltoffen) отношении и проектирует себя в будущее (Sein-zum-Tod), в то же время понимая необходимость своей фактичности "здесь и сейчас" (модус заброшенности) или (Ь) отдается своему миру, (Verfallenheit, Verweltlichung) и управляется как бы снаружи собственным способом конституирования мира (Ausgelieferstein); (4) энергия расходуется на сохранение самоопределения через истощение экзистенциального потенциала (прогресс в направлении неаутентичности) — невроз; (5) полный отказ от свободы самости = психоз. Общая модель: всепроникающая сводимость символической референции к одному экзистенциальному а priori = повторение.
Для Хайдеггера экзистенциальный модус заброшенности вызывает отношение Dasein к установленной, определенной фактичности и является существенным компонентом человеческой экзистенции. Если этот модус затмевает все остальные, он приводит к тому, что понимание Dasein возможно из того, что необходимо и установлено в его экзистенции. Следовательно, онтологически психоанализ с его учением о психическом детерминизме, о причинном воздействии прошлого, о влиянии биологических сил на формирование идей, ценностей и т.д. нужно рассматривать как науку о Dasein в его модусе заброшенности.
Мы все время говорили, что бинсвангеровское экзистенциальное а priori есть манифестация заботы, ее выражение в отдельно существующем человеке. Из предыдущего рассмотрения невроза и психоза могло сложиться впечатление, что экзистенциальное а priori можно считать отдельным и более важным чем любой другой или все остальные хай-деггеровские экзистенциалы. Могло показаться, что та или иная категория экзистенциального а priori, например, продолжительность, в силу чего-то свойственного ей самой может влиять на структуру Dasein. Нужно еще раз подчеркнуть, что экзистенциальное а priori представляет основную целостность тотальной структуры отдельного Dasein ("die ursprьngliche Ganzheit des Strukturganzen des Daseins" [Хайдеггер]). В случаях невроза и психоза ни один экзистенциал не управляет всеми остальными, ибо в действительности хайдеггеровские экзистенциалы не могут "функционировать" по отдельности. Каждый из них подразумевает все остальные.
* В "Экстравагантности" не-свобода принимает форму попытки отрицания фактичности, заброшенности. Посредством этого определяется Dasein. Поэтому он настолько же управляем своей фактичностью. Сравните понятие отчаяния из-за невозможности как происходящее от недостаточной необходимости у Кьеркегора в главе III его работы Пе Sickness Unto Death. См. также с. 153 данного сборника.
Понимание (Verstehen), например, главного пути существования Dasein, было бы невозможно без присутствия вещей-которые-есть, свойственных Dnsein от рождения. Точно так же не было бы такого Befindlichkeit, если бы сама сущность Dasein не заключалась в интерпретации, то есть понимании-8.
Модификация сущностной структуры, известная как душевная болезнь, является модификацией структурного целого заботы, поскольку Dasein перестает свободно относиться (через Verstehen) к собственной сущности. Dasein как Verstehen и Rede становится подчиненным тому модусу бытия-в-мире, который называется заброшенностью. Бинсван-гер называет это "само-избранной несвободой"2^
Когда мы говорим об отдельном экзистенциальном а priori личности, понятие "продолжительности" описывает способ, которым Dasein конституирует свой мир и относится к нему, и это обозначает тот способ, которым понимание относится к тому, как по необходимости язык выражает, постигает и придает форму миру, как пространство структурируется смыслами, как переживаются будущее, настоящее и прошлое. Мы также, а может быть, еще более фундаментально, указываем на свободу в Dasein, через которую Dasein именно так структурирует свой мир и свою самость. Что утрачено в психической болезни, так это именно эта свобода. Сказать о личности, что ее экзистенциальное а priori, скажем, есть продолжительность — это не значит сказать, что человек "болен". Но сказать, что для того, чтобы у него был такой опыт мира, он должен был в какой-то мере подчинить свою свободу понимания такому миру, значит сказать, что он "болен". Мир, которому он подчинил свою свободу — это не собственно "мир", но мир, структурированный самим Dasein. Парадокс самоизбранной несвободы, подчинения миру собственного структурирования — именно то, что для Бинсвангера наиболее сущностно характеризует динамику порочного круга невротического беспокойства. Разрешение этого парадокса полным подчинением и потерей свободы характеризует психотика. Таким образом, если для характеристики экзистенциального а priori душевнобольного используется категория продолжительности, то она указывает на вялую, борющуюся свободу (невроз) или на свободу как трансцендентальное условие экзистенции, которое не соблюдается (психоз), а также на трансцендентально необходимое значение-контекст, которое структурировало такой мир.
Похоже, что для Бинсвангера главное — не количество экзистенциальных априорных категорий, но то, как Dasein относится к своей самости и миру, что манифестируется в этих категориях и через них. Экзистенциальное а priori — это не объект предшествующий сознанию, но горизонт экзистенции, матрица, внутри которой бытие, мир и самость становятся доступными для Dasein. Свобода Dasein не означает противостояния понятию или категории, она указывает на тот способ, которым Dasein относится к миру и самости, возникающим в контексте экзистенциального а priori. Свобода в этом смысле подразумевает посто-
янную открытость к вещам и самости, а также готовность Dasein творчески понимать или воссоздавать то, что есть.
Когда Бинсвангер говорит о "невероятно разнообразном сплетении значений и составляющих здоровья"30, он имеет в виду множественность экзистенциальных априорных категорий, которые обуславливают мир здорового. Здесь и в третьей главе мы отмечали, что "сила" этих экзистенциальных априорных категорий заключается в самом Dasein как в свободе. Эту множественность экзистенциальных априорных категорий, которая, по мнению Бинсвангера, характеризует здоровье, нужно понимать как необходимо сопутствующее экзистенциальной свободе обстоятельство. Любая из этих категорий может определять невротическую или психотическую личность, как только направляющая ее сила иссякает. Разнообразное сплетение значений здоровья представляет свободу и силу Dasein для понимания нового опыта и воссоздания того, что, желая быть ответственным перед миром и преданным ему и самости, переживается и создается таким образом.
В заключение я отмечу, что мы не изменили наше определение экзистенциального а priori как конкретной манифестации онтологической априорной структуры заботы. То, что мы сделали — это подчеркнули наличие или отсутствие свободы как существенной характеристики.
ПРИМЕЧАНИЯ
Ernest G.Schachtel, Metamorphrosis (New York, 1959), p. 274.
2 Kurt Goldstein, The Organism (New York, 1939), p. 183.
Freud, "Outline of Psychoanalysis", International Journal of Psychoanalysis, Vol. 20 (1940), p. 31. 4 Ronald Fletcher, Instinct in Man (New York, 1957), p. 38.
3 Moitmer Oslow, "The Biological Basis of Himan Behavior", in: Silvano Arieti (ed.), American Handbook of Psychiatry (New York, 1959), Vol. I, p. 63.
6 Fletcher, p. 38.
Max Nachmanson, "Versuch einer Abgrenzung und Bestimmung des Instiriktbegrif-
fes", Schweiz. Arch. f. Neur. u. Psych., Bd. 40 (1934), S. 179.
Sigmund Freud, "Some Character-Types Met With in Psycho-Analytic Work", trans.
by Colburn Mayiie, in: Collected Papers, Vol. ГУ, pp. 318-344. 9 Freud, "Neurosis and Psychosis", trans, by Joan Reviere, in: Collected Papers, Vol. II,
p. 251.
Mortimer Ostow, "Virtue and Necessity", American Imago, Vol. 14 (1957), p. 254.
Lawrence S. Kubie, "The Fundamental Nature of the Distinction between Nomrality
and Neurosis", Psychoanalytic Quarterly, Vol. 23 (1954), p. 182.
12 Ibid., pp. 184-185.
13 Ibid, p. 183.
14 Binswanger, Schizophrenie (PMlingea, 1957), S. 269. .
15 Karl Konrad, "Die Gestaltanalyse in der Psychiatrischen Forschung", Ner\>enarzJ, Bd. 31, N. 6, S. 268.
Binswanger, Existence, op. tit., pp. 194-195. 17 Binswanger, Schizophrenie, S. 401.
38 Binswanger, "The Existential Analysis of School of Thought", op.cit., p. 205. 19 Ibid, p. 203.
Binswanger, Schizophrenie.
22 Bias'wanger, Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins (Zurich, 1953), S. 290.
23 Binswauger, Schizophrenie, S. 261.
24 Ibid., S. 260.
25 Бинсвангер, с. 153 данного сборника.
26 Там же, с. 190.
27 Binswanger, Schizophrenie, S. 267.
28 Thomas Langen, The Meaning of Heidegger (New York, 1959), p. 23.
29 Binswanger, Drei Formen Missglьckten Daseins (Tьbingen, 1956), S. 61.
30 Binswanger, Existence, op. cit., p. 205.
VI
Dasein в качестве конститутивного: Бинсвангер, Хайдеггер, Сартр
Кант и Хайдеггер
В первой главе мы отмечали, что для Хайдеггера забота и экзистен-циалы функционируют в строгой аналогии с кантианскими категориями рассудка. Вопрос, который возник перед нами — это в каком смысле Dasein конститутивен и что он конституирует. Ответ: точка зрения Ве-wandtniszusammenhang есть то, посредством чего Dasein конституирует бытие своего мира и самости. Теперь нам нужно подчеркнуть, что для Хайдеггера между высказываниями: Dasein конституирует объекты и Dasein конституирует бытие объектов существует большая разница. Хайдеггер ни в коем случае не говорит первое, но он действительно утверждает второе.
И снова мы можем обратиться к Канту для прояснения этой проблемы. Будем помнить, что Кант называет себя трансцендентальным идеалистом и эмпирическим реалистом. Он подразумевает, что является идеалистом, поскольку рассматривает объекты знания как представления вещей-в-себе, и поэтому пространство и время являются только чувственными формами интуиции1. Но он и реалист, поскольку настаивает на том, что объекты в пространстве и времени так же реальны, как и последовательность наших идей2. Иначе говоря, то, что конституируется рассудком, является представлением внешней независимой реальности. Для Канта вещи не находятся в сознании, они познаются и оформляются сознанием.
У Хайдеггера мы обнаруживаем удивительно похожую аргументацию. Я думаю, мы можем выразить это так: Хайдеггер является онтологическим идеалистом и онтическим реалистом. То есть для Хайдеггера Dasein конституирует Бытие, но не сущее. Поэтому для Хайдеггера возможно говорить об истине как о gegenstehenlassen von...3 (допущение противостояния...) и des Seinlassen van Seienden4 (разрешение-быть-бытийностям) независимо от его позиции, что Dasein как Забота (и темпорализация) есть онтологическое основание возможности, что бытийности могут встречаться5. В самом деле, подобно тому как кантовский эмпирический реализм необходимо тесно связан с трансцендентальным идеализмом, так и хайдеггеровский онтологический "идеализм", если его понимать правильно, подразумевает онтический реализм.
Аналогия между Кантом и Хайдеггером наводит на мысль, что для Хайдеггера онтология есть трансцендентальная дисциплина, основанная на порядке кантовского метода в "Критике чистого разума", и что, соответственно, кантовский критический метод, который кажется "только" эпистемологическим, для Хайдеггера есть попытка онтологии. В первой главе я уже отмечал идиосинкразическое рассуждение к предпосылкам, которое является отличительным признаком критической философии, а также одной из наиболее ярких черт хайдеггеровского метода. Для Хайдеггера именно это рассуждение определяет онтологию, в противоположность тем дисциплинам, которые, хотя и назывались таким же именем, но со времен Платона занимались скорее сущим, нежели Бытием6. Лантан, объясняя различие между онтическим и онтологическим у Хайдеггера, отмечает то же самое:
Постигнуть что-либо "онтически" — значит постигнуть это в его полной определенности как конкретный феномен. Чтобы постигнуть что-либо "онтологически", то есть в его полном Бытии, необходимо выйти за пределы феномена и постигнуть основу его возможности — то, благодаря чему феномен есть таков, каков он есть7.
С точки зрения Хайдеггера, Кант, показав, что время — это чувственная форма интуиции, тем самым показал, что смысл сущего находится внутри Dasein, и поэтому время является горизонтом Бытия. Здесь важно отметить, что для Хайдеггера наделить значением — значит наделить бытием — и, следовательно, Dasein как единственный в своем роде источник значений в мире* есть единственное основание Бытия.
Вопрос, который непроизвольно возникает — это требование от Хайдеггера оправдания тому, что он приравнивает смысл и Бытие. Хотя такой вопрос предполагает возможность рассмотрения Бытия как независимого от значения, а для Хайдеггера это значит — независимого от Dasein. Такой вопрос, в конечном счете, подразумевает субъект-объектное разделение, которого хайдеггеровское понятие Dasein как бытия-в-мире призвано избежать. Снова мы сталкиваемся с указательной природой хайдеггеровских (и критических) аргументов. Нельзя спросить у Канта, откуда взялись категории, что вызывает их функционирование, ибо задачей критической философии есть рассуждение о том, как возможна сама природа такого вопроса. Хайдеггер утверждает, что Dasein существует так, как он существует только на основании того, что он сущносгно в-мире как наделяющий смыслом, значением, контекстом (Bewandtnis). Вопрос для Хайдеггера возможен только на основании рассматриваемого именно так бытия-в-мире (Dasein).
Спрашивать, что конституирует Dasein когда он конституирует Бытие — это спросить, что есть Бытие. Поскольку Хайдеггер не хочет, чтобы вопрос о Бытии ускользнул в традиционные пределы поиска отдельного бытия "здесь" (ens reatissimum), он говорит, что Бытие есть основание сущего, в том смысле, что Бытие делает возможным возникновение сущего (Vorhanden) как такового. Dasein есть контекст, в котором сущее появляется как конкретное и феноменальное. Этот кон-
текст является значением-контекстом, который Хайдеггер именует Заботой. Забота — это не один из возможных значений-контекстов, но скорее значение-контекст само по себе, трансцендентальное априорное основание человеческой экзистенции как она фактически проявляется. Что конституирует Dasein, когда он конституирует Бытие? Он конституирует возможность сущего. Он осуществляет это, позволяя сущему быть таким, каким оно есть. И поскольку сущее может быть только в контексте заботы, то вследствие беспрецедентного диалектического витка оказывается, что для Dasein конституировать Бытие не означает конституировать сущее.*. "Наш способ познания," говорит Хайдеггер о Канте, "не есть онтически творческим"9.
Онтологическим "идеализмом" и онтическим "реализмом" у Хайдег-гера я называю ответ на проблему, которая так явно возникает в его исследовании Канта:
Каким образом конечный человеческий Dasein может выйти за пределы (трансцендировать) сущего [бытие как противопоставленное Бытию] если оно не только не создавало это сущее, но даже зависит от него в своем существовании как Daseinlw
Повторяя то, что мы говорили в первой главе, скажем, что хайдегге-ровская позиция, говоря онтически, выражает, что мир есть не-самость. Онтологически говоря, Dasein есть в-мире {auf das Seiende angewiesen) и конституирует бытие мира сетью значений через которые (онтический) мир (das Seiende) раскрывается, обнаруживается (пассивно, рецептивно). Dasein как онтологическое основание сущего и то, что конституирует Бытие, передает смысл повторения (wieder-holung) Хайдеггером кантовской коперниканской революции:
Онтическая истина, таким образом, должна необходимо подчиняться онтологической истине. Это точная интерпретация значения "'копер-никанской революции", посредством которой Кант проталкивает проблему онтологии вперед11.
Какова же в этом отношении роль феноменологии? В первой главе мы отметили, что феноменология могла быть исключительньгм методом для философии, которая с необходимостью придерживается понятия конститутивных сил "самости".
В общем это объяснялось тем, что, допуская эту определяющую функцию, подход к миру с позиции предпочитаемой системы координат или пояснительной системы, означает не понимание мира в том виде, в каком его конституирует самость (Dasein), а, фактически, конституировать мир. Для Хайдеггера онтология выступает объяснением предварительных условий бытийностей в качестве бытийностей для понимания сущности Бытия. Поэтому феноменология, представляющая собой самый точный способ подхода к возможности бытийностей (рассматри-
* Возможно также, что Хайдеггер пытается обнаружить корни чувственности и понимания, которые по мнению Канта, в AI5, В29 неизвестны. См.: Heidegger, Kant, S.33
ваемых как не-я), служит Хайдеггеру основным инструментом онтолога: "Онтология возможна только как феноменология"*12.
Отношение Бинсвангера к Хайдеггеру
Как отмечалось в главе I, говорить, что Dasein-анализ Бинсвангера — это просто продление или применение хайдеггеровской онтологии на уровне реального, не совсем правильно. Если новая формулировка Хайдеггером коперниканской революции Канта состоит в трактовке Dasein как Заботы, тогда то, что мы называли экзистенциальным а priori Бинсвангера, должно идеально представлять наиболее полное или возможное распространение размышлений Хайдеггера на уровне реального. Хотя исследования Бинсвангера реальны в том, что они касаются конкретных отдельных человеческих бытийностей, они более чем реальны в том, что касается отдельной изучаемой личности и его анализ допускает возможность конкретного индивидуального опыта. В главе I такую
Теперь, с появлением работы Хайдеггера "Кант и проблемы метафизики" в прекрасном английском переводе (рус. пер.: М., ТОО "Пирамида", 1998) можно по достоинству оценить кантианские элементы его философии. Ибо, конечно же, именно в этой работе, а не в "Бытии и Времени", совершенно ясно выражен кантианский элемент. К примеру:
"Поэтому связь с сущими (реальными знаниями) делает возможным предварительное понимание конституции Бытия как сущего, то есть онтологические знания" (с.151).
"Однако сами реальные знания никогда не могут соответствовать объектам, ибо без онтологических знаний они не могут иметь даже возможного "чему" (Wonach) Соответствовать'1 (с. 18).
"Эта совокупность, состоящая из заранее объединенных чистой интуиции и чистого понимания, "образует" свободное пространство, в рамках которого можно встретить все сущее" (с. 81).
"Таким образом, не следует ли из этого, что онтологические знания, обретаемые посредством трансцендентального воображения, креативны? ... Онтологические знания не только не создают сущее, они даже не имеют прямого и тематического отношения к сущему. ... Тогда с чем же они связаны? Что известно в онтологических знаниях? Ничто. Кант называет его Хи говорит об 'объекте'. ... Под Ничто мы понимаем не сущее, но тем не менее 'нечто'. Оно служит только как "коррелят", то есть согласно своей сущности выступает чистым горизонтом... Следовательно, это нечто не может быть прямой и исключительной темой интенции. Если онтологические значения раскрывают горизонт, то его истина заключается в возможности встретить сущее в пределах этого горизонта.... [Эти] знания... "креативны" только на онтологическом уровне и никогда на уровне оптического" (с. 125-128).
"Все проектирование — и, следовательно, даже креативная деятельность человека — является брошенным (geworfener), то есть, определяется зависимостью Dasein от совокупности сущего, зависимостью, которой Dasein всегда подчиняется" (с. 244).
науку (занимающуюся трансцендентально априорными основными структурами и возможностями конкретного человеческого существа) мы называли не онтологической и не оптической, а "мета-онтической". Теперь мы ставим вопрос: насколько исследования Бинсвангера на ме-та-онтическом уровне вписываются в конструкцию Хайдеггера?
Медард Босс, психиатрические работы которого во многом демонстрируют согласие с Бинсвангером, выступает ярым критиком того, что он считает неправильным пониманием Хайдеггера со стороны Бинсвангера. В отношении мнения Бинсвангера о неврозах и психозах как о модификации основной структуры Dasein, Босс говорит:
"Трансцендентность как единственный фактор, определяющий сущность бытия человека и его бытия в мире, в хайдеггеровском смысле никогда не означает такой вид связи, который, будучи реализован через первичную имманентность, мог быть "модифицирован" в тот или иной способ Dasein. Скорее трансцендентность и бытие-в-мире в [принадлежащем Хайдеггеру] Dasein-анализе выступают названиями одной и той же вещи: неизменяемой и базисной, существенно важной структуры Dasein, лежащей в основе всех взаимосвязей"13.
Босс понимает хайдеггеровский Dasein как существующий сам по себе, как необъективируемое восприятие объектов; можно сказать, что Босс видит Dasein как "чистый субъект". Когда Бинсвангер в своем очерке "Сновидение и существование" говорит о растущем и падающем Dasein, Босс возражает:
"Как Dasein, то есть как совершенно необьективизируемое освещение Бытия, ... оно не может ни расти, ни падать"14.
Босс понимает Хайдеггера таким образом, что Dasein как бытие-в-мире ни в каком отношении не выступает отражающей, биполярной структурой. Босс ограничивает концепцию Dasein Хайдеггера к чистому наделителю и хранилищу. Для Босса то) что встречается, ни в коем случае не может быть частью существенно важной структуры Dasein. Босс критикует концепцию бытия как Welt-Entwurf Хайдеггера, ибо в понимании Босса понятие Entwwf подразумевает объект-полюс как ассимилированный в структуру Dasein, что добавляет в онтологическую структуру Dasein некоторую случайность и вариабельность, присущие только онтическимструктурам.
"Точно так, как говорить о "модификациях" бытия в мире не входит в концептуальный горизонт [Хайдеггероца] анализа здесь-бытия, так же и мы не можем рассматривать невротцков или психотиков как имеющих особые и единственные в своем роде каргины мира [Entwьrfe]... Действительно, от Хайдеггера мы слышим, что концепцию "картины мира", [использующуюся] в его анализе Dasein, следует понимать как рисующий мир Welt-Я-wvnf, ибо это свет, идущий от Бытия. Но если концепция составления картины мира означает сущность человека в [Хайдеггеровом] анализе бытия-вот, сущность, являющуюся необъек-тивизируемым светом и проявителем Бытия, тогда картину мира нельзя характеризовать такими свойствами, как определенная пространствен-ность или временность: материальность мли консистенция"15.
Поднимаемый Боссом вопрос принципиально важен для нашего контекста. Он касается возможности индивидуальных вариаций онтологически априорной структуры Заботы. Босс утверждает, что, исходя из условий Хайдеггера, форма структура Заботы неизменна, а все индивидуальные различия должны рассматриваться как подпадающие под априори строго определенное правило взаимосвязи экзистенций, которая называется Заботой. Босс принимает утверждение Хайдеггера о том, что забота — это "пустая формула" в его самом строгом смысле. Другими словами, для Босса деление на онтологическое и реально существующее исчерпывающе. Босс утверждает, что рассматриваемое Бинсвангером как обусловливающее или составляющее мир индивида — обусловлено. Формулируя это на языке, который не приемлет данная школа мысли, мы можем сказать, что определяемое Бинсвангером как исходящее от субъекта Босс считает объективным. Для Босса Dasein как забота освещает Бытие, принимая бытийности в онтологический контекст значения, строго очерченный Хайдеггером. Все дальнейшее уточнение значений следует рассматривать как исходящее от бытийностей, а не от Dasein. Бинсвангер, напротив, утверждает, что онтологическая структура заботы может варьировать в индивидах и что в связи с этим конкретное Dasein в большей степени и более детально определяет или составляет мир индивида. Для Бинсвангера общая структура онтологии Хайдеггера отражена в каждом человеке. Босс не может найти места для различия между онтологическим и экзистенциальным а priori и в своих психиатрических работах воздерживается от этой точки зрения. Он не признает законности концепции экзистенциального априори в рамках хайдегге-ровской теоретической конструкции. Короче говоря, он исключает то, что я назвал мета-онтическим условием исследования, обоснование трансцендентальных предварительных условий конкретного мира.
С позиции цели, заявленной Хайдеггером в "Бытии и времени", критика Хайдеггера Боссом представляется справедливой. В сущности, концепция экзистенциального а priori делает "экзистенциалистской" доктрину, имеющую своей целью главным образом изучение Бытия, а не человека. Бинсвангер, например, говорит не о той или этой личности, а о том или этом отдельном здесь-бытии, в то время как сам Хайдеггер ограничивается обсуждением конкретно Dasein. Здесь подразумевается, что в Бытии конкретного человека есть нечто такое, что хайдеггеровское изложение Dasein упускает. Это нечто может быть только частным экзистенциальным а priori и частной картиной мира. Сказанное не означает, что с позиции Бинсвангера Хайдеггер упустил из виду либо индивидуальность Dasein, либо множественность проявлений Dasein в мире. Его понятие Jemeinigkeit (каждый-своему-собственному) Daseint представляет собой попытку рассмотреть первое; а в том, что касается последнего, его задачей как онтолога, метафизика или просто философа не может быть перечисление или нахождение места для специфических особенностей отдельных человеческих жизней. Быть может, упущение Хайдеггера, видимое в контексте работ Бинсвангера, — это скорее характерная степень возможностей, которую Dasein имеет в своей свободе?
Здесь я хочу сказать следующее: если бы работы Бинсвангера были исключительно применением хаидеггеровскои онтологии на уровне реально существующего, тогда задача Бинсвангера затрагивала бы только эйдетическую описательную феноменологию; все вытекающие значения касательно определяющей функции Dasein должны старательно избегаться. Самое большее, "структурные априорные категории" Бинсвангера, названные нами экзистенциальным а priori, рассматривались бы как составляющие сущность структуры Гуссерля. То, что позиция Бинсвангера не такова — что эти априорные категории скорее функционируют аналогично кантианским категориям Понимания, представляющим мир как известный — должны были продемонстрировать предшествующие главы*.
То есть точное применение положений Хайдеггера (как я его понимаю) на уровне реально существующего исключает трактовку Dasein как определяющего; определяющая функция строго ограничивается онтологическим уровнем. Умозаключения Хайдеггера применительно к уровню реально существующего скорее подразумевали бы науку феноменологического понимания сущностей эмоции, желания, конфликта и т.д. Хайдеггеровский элемент в такой попытке имел бы своим результатом понимание категорий, сходных с таковыми у Бинсвангера, с одной существенной разницей в том, что как определяющие мир эти категории не рассматривались бы. В этом смысле Хайдеггеру верен скорее Босс, чем Бинсвангер. В хаидеггеровскои системе отсчета исследования Босса относятся к уровню реально существующего (онти-ческому), исследования же Бинсвангера — к мета-онтическому. В этом отношении Бинсвангер берет за основу позицию Хайдеггера и следует в направлении Сартра, наверное, даже в большей мере, чем хотелось признать самому Бинсвангеру.
Бинсвангер и Сартр
В пояснительной критике онтологии Сартра, выполненной Морисом Натансоном, мы находим главу, посвященную тому, что Натансон назвал "коперниканской революцией" Сартра:
"Феноменологический анализ переживания... имеет дело... преимущественно с различными видами психологического понимания и эмпатии. Его цель — это накопление как можно большего количества отдельных психологических наблюдений для того, чтобы определить и яснее продемонстрировать форму или вид изучаемого переживания. Мы же, напротив, в первую очередь ищем не спецификацию фактического переживания или процесса переживания, а скорее то, что стоит "за" или "над" ними. То есть мы ищем способ бытия в мире, делающий возможным такое переживание, иными словами, то, что делает такое переживание понятным". (Binswanger, Schw. Archiv., Bd. 29, S. 215-217.)
"От феноменологического анализа действия и переживания отличается метод анализа формирующих априорных структурных элементов, которые в данное время выстраивают совокупную картину конкретного бытия в мире и определяют его характер". (Ibid., S. 217.).
"'Коперниканская революция' Сартра по существу представляет собой попытку сформулировать на онтологическом уровне то, что Кант попытался показать на эпистемологическом... основное сходство между Сартром и Кантом... заключается в том... что для Сартра "формирование" феноменологической реальности на онтологическом уровне про-изводно и зависимо от активности pour-soi , которая одновременно "образует" реальность и существует в реальности"16
По существу это, по-видимому, совпадает со сказанным о Хайдеггере на предшествующих страницах. Однако, прежде всего, я хочу отметить, что с позиции Хайдеггера исследования Сартра не являются онтологическими. Сартр начинает с понимания Бытия как самого в-себе, как независимой, непреднамеренной, неясной полноты самого себя17. Для Сартра:
"Это равнозначно утверждению о том, что бытие не создано. Но мы не должны делать из этого вывод, что бытие создает себя, ибо это подразумевало бы априорность к самому себе... Бытие является самим собой. Это означает, что оно ни пассивно, ни активно"18.
С позиции Хайдеггера мы можем отметить два момента: во-первых, какой бы оригинальной ни была эта формулировка, описание Сартром Бытия как самого в-себе указывает на некоторого рода ens realissimum, краткое изложение того, что верно по отношению к бытийностям, а не к Бытию. От силы оно может быть принято за описание особого рода бытия, которое, тем не менее, имеет общие моменты с бытийностями в том, что не является человеческим бытием. Во-вторых, Бытие Сартра не может рассматриваться как основа отдельных бытийностей; в большей мере его следует понимать как de trop^, ни как связанное, ни как несвязанное с бытийностями, по существу представляющими собой, для Сартра, явления. Таким образом, у Сартра рассуждения о предварительных условиях явлений не могут вести к Бытию и, следовательно, не выступают онтологией в хайдеггеровском смысле.
Для Сартра трансцендентальным условием бытийностей, мира, человеческой действительности выступает свобода (или Ничто (Neant)) pour-soi, сознания, человеческого существа. Но для Сартра pour-soi не служит источником Бытия. У Хайдеггера Бытие мира, бытие вещей и самости составляет Dasein, которое предоставляет матрицу для появления и пассивного существования бытийностей. С другой стороны, каждая индивидуальная человеческая бытийноегь определяет для Сартра значение мира человека, и поэтому его мир представляет собой бытийность, за которую он ответственен. Для Сартра не существует никакой общей структуры человеческого бытия, такой как забота, которая бы определяла и составляла Бытие как таковое. Скорее каждый индивид выбирает свой собственный мир, мир, который в результате крайне нуждается в самодостаточности и ясности, характеризующих для Сартра Бытие. Для Сартра pour-soi — и это означает каждого индивида — не может избежать
* У Сартра в "Бытии и Ничто" выделяются три вида бытия: Бытне-в-себе (en-spi), Бытие-для-себя (pour-soi) и Бытие-для-других (pour-autrai). — Прим. ред.
данной свободы выбора своего мира или ответственности за свой мир, как бы человек ни жаждал самодостаточности Бытия-в-себе. Но Бытие ускользает от человека, он может лишь "вытесывать из него бытийнос-ти"; он не может составлять Бытие, и для Сартра это означает, что он не может быть одновременно свободным и ни в чем не нуждающимся, одновременно пустотой и наполненностью. Таким образом, говоря о Сартре, мы можем поменять на обратное сказанное нами о Хайдеггере: для Сартра pour-soi не может составлять Бытие, потому что оно обречено свободно создавать, составлять бытийности.
"Мы понимаем слово "ответственность" в его обычном смысле как "осознание бытия неоспоримым автором события или объекта". В этом смысле ответственность за самого себя огромна, ибо мир существует благодаря самому человеку; он сам определяв! свое существование"20. Здесь мы можем спросить: до какой степени понятие первоначального проекта Сартра сравнимо с экзистенциальным а priori Бинсвангера? С первого взгляда кажется, что никакое значимое сравнение Сартра и Бинсвангера в этом отношении невозможно на фоне внешне огромного различия во взглядах обоих относительно степени и характера свободы человека. Я уже приводил типичный в этом отношении отрывок из Сартра. Такого рода отрывки побуждали некоторых критиков видеть в Сартре сторонника настолько абсолютной свободы, что она едва отличалась от крайне радикального субъективного идеализма. У Бинсвангера, с другой стороны, мы находим следующее:
Dasein, хотя и существует по суги, ради самого себя, тем не менее отнюдь не само полагает основания своего бытия. Кроме того, как только творение "вступает в существование", оно есть и остается заброшенным, детерминированным, то есть, включенным, принадлежащим и подчиненным бытийно сущим вообще, Вследствие этого оно не "полностью свободно" и в своем видении мироустройства-1. "Из этого следует, что картины мира также должны рассматриваться
как брошенные замыслы и ни в коем случае не как "свободные творения
абсолютного эго"~-.
Этим я хочу показать, что расхождение здесь только видимое и что фактически во многих отношениях взгляды Бинсвангера и Сартра на человеческую свободу почти идентичны. Представления Сартра об абсолютной свободе первоначального проекта должны пониматься с оговоркой, предоставляемой самим Сартром, которую критики слишком часто обходят вниманием.
"Я отправляюсь с друзьями на длительную пешую прогулку. Через несколько часов ходьбы моя усталость усиливается и в конце концов становится просто мучительной. Поначалу я борюсь с ней, а затем внезапно даю волю своим чувствам, я сдаюсь, я бросаю свой рюкзак на обочину дороги и падаю рядом с ним. Кто-то будет упрекать меня за этот поступок и тем самым подразумевать, что я был свободен — то есть, мое действие не только не определялось какой-нибудь вещью или человеком, кроме того, я мог бы бороться со своей усталостью и дальше, мог бы поступить так же, как мои спутники, и не расслабляться
до самого привала. Я буду защищать себя, утверждая, что слишком устал. Кто прав? Или может быть сам этот спор строится на неверной посылке? Нет никакого сомнения в том, что я мог поступить иначе, но проблема не в этом. Скорее она должна быть сформулирована следующим образом: могу ли я поступить иначе без ощутимой модификации органической совокупности проектов, которой я являюсь; или же факт моего сопротивления усталости таков, что вместо того, чтобы оставаться чисто локальной и случайной модификацией моего поведения, он может быть осуществлен лишь посредством радикальной трансформации моего бытия в мире — более того, трансформации, которая возможна! Другими словами, я мог поступить иначе. Это ясно. Но какой ^
Это "какой ценой?" Сартра представляет способ выражения того факта, что все отдельные действия должны рассматриваться в рамках большего, более широкого проекта. Если допустить существование первоначального проекта, допустить его свободу — то все отдельные действия и мотивации неизбежно вытекают из этого проекта. Для Сартра человек в любой момент свободен изменить первоначальный проект, но это не означает, что какое-либо действие по своему характеру автономно.
"Г[оэтому очевидно, что мы не можем предполагать возможности модификации действия извне без одновременного предположения фундамента., ьной модификации первоначального выбора самого себя... Здесь под-р; умевается не то, что я должен обязательно остановиться (во время про-гу ки), а просто то, что я могу отказать себе в остановке только при радикальном изменении своего бытия в мире; то есть, посредством резкого изменения своего начального проекта — то есть, иным выбором самого себя и своих целей. Более того, эта модификация возможна всегда"24.
Таким образом, мы видим, что понятие первоначального проекта Сартра имеет общий момент с экзистенциальным а priori Бинсвангера в следующем: его нужно понимать как включающее в себя, всеобъемлющее, универсальное и его не стоит рассматривать как стоящее на одном уровне с теми альтернативами, ситуациями или конфронтация-ми, основой которых оно является. Одним словом, это матрица, в общих чертах описанная в главах I и III.
Именно это понятие матрицы мешает перейти от концепции экзистенциального а priori к доктрине "свободного действия (действий) абсолютного эго". То, что появляется в рамках контекста экзистенциального а priori, имеет грубый фактический характер, фактичность, которая, хотя в конечном итоге и возвращает к первичной свободе, по своей специфике является данной. Таким образом, и Бинсвангер и Сартр, чтобы отстоять свободу человека как самоопределение, решительно отрицают свободу человека как неопределенность, как случайное, мгновенное, произвольное волеизъявление.
Так Сартр пишет: "Вдобавок мы не должны думать о первоначальном выборе как о появляющемся от одного мгновения к следующему: это был бы возврат к концепции сиюминутного сознания, от которой Гуссерль так и не смог отойти... мы должны представлять себе первона-
чальный выбор как разворачивающееся время..
"25
Бинсвангер: "С другой стороны, свобода картин мира также йе "абсолютна", поскольку они должны располагаться по отношению друг к другу в априорной последовательности. "Мы не можем, — говорит Шилази, — произвольно прервать обусловленные последовательности горизонта понимания, ибо это будет означать, что спонтанная картина мира полностью не мотивирована и бессмысленна. Она будет представляться нам... возникшей на пустом месте"26.
Следовательно, экзистенциальное а priori и первоначальный Проект сходны в том, что они представляют собой матрицу, в контексте которой появляются мир и самость. Далее мы развили концепцию экзистенциального а priori, объясняя его как матрицу значения. То, что первоначальный Проект Сартра также необходимо понимать в подобном ключе, доказывают следующие его слова:
"Мы выбираем мир не в его структуре как мир сам в себе, а в его значении"27.
Сартр говорит, что первоначальный проект формирует или выстраивает реальность, обеспечивая структуру значения, в рамках которой реальность принимает свой облик для каждого индивида.
"... именно первоначальный выбор изначально создает все причины и все мотивы, которые могут направлять нас к частным действиям; он — это то, что выстраивает в определенном порядке мир с его значением, инструментальными комплексами и коэффициентом враждебности"28.
Таким образом, для Сартра, как и для Бинсвангера, структуру и возможность появления бытийностей, их подверженность влиянию, обеспечивает первоначальная, априорная матрица значения.
Продолжая сравнивать, сосредоточим внимание на другой проблеме, сформулированной Натансоном:
"Утверждать, что значение переживания зависит от предоставителя значения, от pour-soi, — это одно; совершенно иное утверждать, что роиг-soi составляет сам объект"25.
Здесь Натансон, после установления фундаментального сходства между Сартром и Кантом, пытается дифференцировать коперникову революцию Сартра от таковой же Канта. Он делает это, напоминая, что для Сартра:
"... en-soi действительно имеет фактичность независимую от индивидуального pour-soi и предшествующую ему, но значение en-soi определимо только через pour-soi. Таким образом, коперникова революция Сартра обосновывает два положения: (I) реальность является функцией pour-soi, хотя оно и не принадлежит к феноменологическому миру Канта; pour-soi "существует" в диалектической реальности; (2) фактичность вещей имеет реалистический статус, но значение этого статуса зависит от интерпретации, получаемой им от i^
Но, мне кажется, что позиция Сартра более сильна, чем хотел бы показать Натансон. Натансон ошибается не столько в представлении en-soi как некоторого рода вещи в себе (это впечатление, как бы сильно Сартр с ним ни боролся, все равно остается по прочтении Бытия и
Ничто), а скорее в рассмотрении кантианского феноменологического мира как мира, одновременно доступного для pour-soi и независимого от структуры значения, которой pour-soi наделяет свой мир. Здесь опасность заключается в отнесении позиции Сартра к таковой, где старое разграничение первичных и вторичных качеств становится стандартом для различения человеческой и вне-человеческой реальности. Суть в том, что для Сартра, как и для Хайдеггера, объективный феноменологический мир Канта — мир объектов — возможен только на основе конкретного контекста значения или выбора бытия в мире, точно так же, как для Бинсвангера научные объекты появляются только для Dasein с особой картиной мира. Верно, что мы встречаем у Сартра отрывки, подобные нижеследующему:
"Свобода подразумевает... существование окружения, требующего изменения: преград, которые следует преодолеть; инструментов, которые необходимо использовать. Конечно, именно свобода определяет их как преграды, но своим выбором она может только интерпретировать значение их бытия. Их наличие, совершенно жестокое, просто необходимо для существования свободы"31.
Но и делать из подобных отрывков вывод о том, что Сартр говорит об объективном мире, существующем прежде или независимо от pour-soi, было бы неправильно.
"Было бы абсолютно бессмысленно пытаться характеризовать или описать "сущность" этой фактичности, "прежде" чем с ней столкнется свобода... Непонятен сам этот вопрос, ибо он затрагивает не имеющее значения "прежде"; фактически, именно свобода реализуется во времени относительно "прежде" и "после". Тем не менее то, что без этой жестокой и немыслимой "сущности" свобода не была бы свободой, остается фактом"32.
"Это означает, что мы понимаем наш выбор не как исходящий от какой-либо предшествующей реальности, а скорее как служащий основой для множества значений, составляющих реальность"^. (Курсив мой.)
Таким образом, мы можем согласиться с Натансоном, что существует различие между значением объекта или переживания и самим объектом, но только при условии, что мы не понимаем объект как отчетливую структуру. Другая сторона этого условия состоит в том, чтобы не понимать значение исключительно как производное от объекта. Сартр говорит, что общая матрица значения, первоначальный Проект, обеспечивает конструкцию, в рамках которой могут появляться объекты в своей непохожести. Эти объекты, в свою очередь, имеют особые значения для индивида. Но они всегда должны рассматриваться как основывающиеся на стоящей над ними матрице значения. Объект с отчетливой структурой, независимой от значения, не находит своего места ни у Бинсвангера, ни у Сартра. Вся суть нашего сравнения Бинсвангера и Сартра с Кантом заключается в подчеркивании того, что "человеческий" фактор в структуре объектов подразумевает не только обособленное от эмоций понимание, но и то, что человеческое бытие в целом служит непременным условием структурированного мира, реальности.
Следовательно, поднимаемый Натансоном вопрос необходимо перефразировать, для того чтобы он освещал позицию Сартра: "Утверждать, что значение переживания и объектов (существ) зависит от того, кто приписывает значения, от pour-soi, — это одно; совершенно иное — утверждать, что значение есть Бытие и что pour-soi составляет само Бытие". В такой формулировке обнаруживается, что позиция Сартра противоположна хайдеггеровской; он хочет видеть Бытие независимой, самодостаточной сущностью, о которой нельзя ничего сказать, она не может быть известна или пережита, и отдельные бытийности составляют pour-soi. Поэтому, по моему мнению, дуализм в мышлении Сартра можно выразить не только как дихотомию между pour-soi и en-soi, но и как радикальное разделение Бытия и отдельных бытийностей.
Бинсвангер, не являясь метафизиком, не затрагивает подобных вопросов, оставляя их Хайдеггеру. И тем не менее, его подход к каждому конкретному индивиду — не только простое "использование" Хайдег-гера. Скорее это позиция, по самому характеру своего использования придающая более устойчивую форму понятию о пассивном принятии Бытием отдельных бытийностей Хайдеггера. Ибо Бинсвангер, когда говорит о existenziell einheitlichen Bedeutiingsrichtungen34 или apriorische Dasi-ensstruktur die alle ... phдnomene ermцglicht^5, не просто изучает явления переживаний у своих пациентов. Если можно сказать, что он точно использует какую-то философскую систему, то в вопросах определяющей функции Dasein он ближе к Сартру, чем к Хайдеггеру.
Сартр начинает свое обсуждение экзистенциального психоанализа с общей критики, суть которой в том, что, по его мнению, психологические объяснения отсылают к необъяснимому данному, сводят индивида к тому, что не служит и не может служить основой значения его жизни и мира. "Нам необходимо, — пишет Сартр, —
истинное, не поддающееся упрощению; невозможность упрощения которого будет очевидна, а не представлена как постулат психолога... Эта потребность исходит не от непрестанного домогательства причины, не от того бесконечного обращения к истокам, которое часто называют определяющим рациональное исследование... Это не детские поиски "потому что", которое исключает дальнейшие '"почему?". Напротив, данное требование основано на до-онтологическом понимании человеческой реальности и на связанном с этим отказом от мнения, что человека можно проанализировать и свести к первоначальным данным, к определенным желаниям (или "побуждениям") ... Эта целостность (искомая), предоставляющая собой бытие человека, является свободным объединением, и это свободное объединение не может стоять после многообразия, которое оно объединяет"*.
Во всех отношениях сказанное представляет собой такое ясное изложение роли экзистенциального а priori, какое можно только желать. (1) Сартр ищет первоисточник значения — матрицей значения выступает экзистенциальное a priori; (2) Сартр ищет не последнее звено в каузальной цепи, а ее основу — экзистенциальное a priori описывается именно как такая основа; (3) Сартр ищет целостность, стоящую перед объединяе-
мым ею многообразием — экзистенциальное а priori служит трансцендентальной основой мира индивида.
Следующие слова Сартра свидетельствуют, о том, что он понимает первоначальный проект как "общую универсалию" в смысле, детализированном в гл. III:
"Именно ... посредством сравнения различных эмпирических побуждений субъекта мы пытаемся обнаружить и выделить общий для всех них фундаментальный Проект — а не простым суммированием или воссозданием этих тенденций; каждое побуждение или тенденция представляют собой целостную личность"37. (Курсив мой.) "Экзистенциальный психоанализ пытается определить первоначальный выбор... [который] соединяет в до-логическом синтезе всю совокупность существующего и служит точкой отсчета для бесконечного множества многовалентных значений**. (Курсив мой.)
Экзистенциальное а priori как горизонт:
"Но если фундаментальный Проект полностью воспринимается субъектом и поэтому целиком сознателен, это не означает, что он, вдобавок, должен быть известен; как раз наоборот"39.
Предлагаемое Сартром — это постоянно сужающийся поиск предварительных условий мира личности. Вопрос всегда должен ставиться следующим образом: что делает этот мир возможным, что делает возможным для А выступать причиной В, что делает возможным для X служить символом Г для этого индивида. Короче говоря, Сартр предлагает мета-реальную науку в качестве основы психоанализа. Подобно Бинсвангеру, Сартр возражает против редуктивного, пояснительного "меньшего круга", заранее определяющего, что является примитивной, базисной реальностью — с точки зрения которой должно объясняться все остальное. Экзистенциальный психоанализ Сартра фундаментально отличается от фрейдовского тем, что психоанализ Фрейда "определяет свое собственное не подлежащее упрощению, вместо того, чтобы позволить ему самому обнаружиться в не требующей доказательств интуиции40 Экзистенциальный анализ, в отличие от психоанализа, не ищет первопричин или основных побуждений. Он ищет в индивиде то, что делает возможным действенность этих первопричин и основных побуждений, которая, с точки зрения психоанализа Фрейда, присуща им. Именно в этом, как будет видно, заключается суть Dasein-анализа Бинсвангера.
"Достигнутые таким образом результаты — то есть конечные цели индивида — могут затем стать предметом классификации, и именно посредством сравнения этих результатов мы сможем прийти к общим соображениям о человеческой реальности как об эмпирическом выборе своих собственных целей. Изучаемое таким психоанализом поведение будет включать не только сновидения, недостатки, навязчивые состояния и неврозы, но, кроме того и в особенности, мысли в бодрствующем состоянии, удачно согласованные действия, образ жизни и т.п. Этот психоанализ пока еще не нашел своего Фрейда"41.
Мне кажется, что с Бинсвангером это свершилось.
ПРИМЕЧАНИЯ
I.Kant, The Critique of Pure Resaon, trans, by Norman Kempt Smith (London,
1953), A369.
H.J.Paton, Kant's Metaphysic of Experience (London, 1951), Vol. II, p. 375.
Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysic (Bonn, 1929), S. 71.
Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit (Frankfurt, 1954), S. 14.
Хайдеггер М. Бытие и время. — M., Ad Marginem. — С. 366.
William Barrett, Irrational Man (New York, 1959), p. 189.
Thomas Langan, The Meaning of Heidegger (New York, 1959), p. 74.
Ibid., p. 2S.
Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, trans, by James S. Churschill
(Bloomington, Ind., 1962), p . 76.
Ibid., p. 47.
Ibid., p. 22.
Хайдеггер М. Бытие и время. — M., Ad Marginem. — С. 35.
M.Boss, Psychoanalyse und Dasein analytik (Bern, 19557), S. 93.
Ibid., S. 94.
Ibid., SS. 95-96.
Maurice Natanson, A Critique of Jean-Pail Sartre's Onthology (Lincoln, Neb., 1951)
p. 93.
J.-P.Sartre, Being and Nothingness, trans, by Hazel E.Barnes (New York, 1956), pp.
briv-lxix.
Ibid., p. lxiv.
Ibid., p. Lxvi.
Ibid., p. 553.
Бинсваигер, с. 85 данного сборника.
Binswanger, Ausgewдhlte Vortrдge und Aufsдtze, Bd. II (Bern, 1955), S. 287.
Sartre, pp. 453-454.
Ibid., p. 464.
Ibid., p. 465.
Binswanger, Vortrдge, Bd. II. S. 287.
Sartre, p. 463.
Ibid., p. 465.
Natanson, p. 94.
Ibid., pp. 95-96.
Sartre, p. 506.
Ibid., p. 494.
Ibid., p. 464.
Binswanger, Vortrдge, Bd. I, S. 146.
Binswanger, Schizophrenie (Pl'iiьingen, 1957), S. 464.
Sartre, pp. 560-561.
Ibid., p. 564.
Ibid., p. 570.
Ibid., p. 470.
Ibid., p. 571.
Ibid., p. 575.
Заключение
Сила и бессилие (Macht und Ohnmacht)
Предшествующее сравнение Бинсвангера и Сартра, проведенное в рамках вопроса об определяющей функции, не должно помешать обратить внимание на одну из самых важных тем Бинсвангера: отрицание определенных возможностей, помимо прочего, наделяет Dasein властью над своим миром. Именно эту тему я хочу представить в качестве заключения.
Лейтмотивом настоящей работы явилось то, что я назвал понятием экзистенциального а priori Бинсвангера, понятием, выражающим доминирующий вклад Dasein в эмпирические явления его мира. Отмечалось, что Dasein-анализ Бинсвангера представляет собой попытку определения в каждом индивиде того, что делает возможным его восприятие и явления его мира. С этой целью Бинсвангер использует феноменологический, а не редуктивный пояснительный метод — для установления существенно важных структур мира индивида в том виде, в каком он воспринимается самим индивидом. Схема кругов была представлена для того, чтобы проиллюстрировать, как систематическое объяснение (в частности, научное) трансформирует явления, с которыми оно сталкивается и впоследствии объясняет. В этом отношении науку можно рассматривать как картину мира, как привязанную к человеческой ориентации по отношению к явлениям, во многом подобно тому, как индивидуальное Dasein рассматривается Бинсвангером в качестве составляющего свой мир через матрицу значения экзистенциального а priori.
Читатель, несомненно, заметил здесь параллель между человеческим существованием и научным объяснением. Подобно тому, как Dasein рассматривалось в качестве составляющего свой мир под эгидой доминирующей категории или категорий, так и объяснение рассматривалось в качестве трансформирующего свой мир при встрече с ним через меньший круг. Я не подразумеваю, что можно говорить о меньшем круге пояснительной системы как об "экзистенциальном а priori" в строгом смысле. Следует помнить, что меньший круг был определен как правило трансформации, согласно которому философ (сейчас я позволяю себе употребить этот термин, включая в него и ученого), имеющий дело с большим кругом, принимает одни данные в качестве первичных и не подлежащих дальнейшему упрощению, а другие — в качестве производных, которые могут быть преобразованы в не подлежащие упрощению, первичные данные. Было подчеркнуто, что видимые явления при объ-
яснении преобразуются в том смысле, что они либо классифицируются в рамках законов, соотносящих их с другими, отличными явлениями, либо разбиваются на части, которые принимаются как более реальные, чем та конфигурация этих частей, которая образует рассматриваемые явления. Поэтому, строго говоря, о меньшем круге нельзя говорить как об экзистенциальном а priori, ибо без меньшего круга явления все равно остаются, тогда как без экзистенциального а priori Dasein невозможно. Это разграничение тем более необходимо, если мы говорим о существующем, отдельном философе, для которого явления не только теоретически, но и эмпирически предшествуют объяснению.
Однако в более широком смысле эта параллель плодотворна. Подобно тому, как для Бинсвангера свобода Dasein состоит в его выборе ответственности по отношению к своей заброшенности1 (выражаясь словами Сартра: "... свобода — это способность понимать мою фактичность"), и подобно тому, как с точки зрения Dasein-анализа здоровье понимается в качестве способности воспринимать заново и обновлять то, что есть, при этом одновременно свободно выбирая воспринимаемый и создаваемый мир, так и систематическое объяснение должно уметь обособиться от классифицированного им мира, сознавая относительность своих гипотез и продолжая при этом их придерживаться. В этом смысле разве нельзя сказать, что феноменология представляет собой "здоровье" объяснения, гарантию его свободы и источник силы?
То, что сказанное особенно верно по отношению к таким наукам как психиатрия, служит одним из руководящих принципов Бинсвангера. Но он предупреждает, что эта свобода находиться вне системы координат, необходимой для фундамента науки, сама по себе не может дать той власти над миром, какую дает надлежащее научное объяснение. В аналогичном положении к своему миру находится и индивидуальное Dasein, креативно оно может быть готово понять и воссоздать свой мир, но сама эта готовность недостаточна для господства над миром. Широкое поле возможностей, стоящих перед открытым миру Dasein, должно быть сужено, чтобы реализация одной из них осуществилась. Здесь мы видим хорошо известную экзистенциалистскую тему, впервые подчеркнутую Кьеркегором, заключающуюся в том, что человеческое существование продвигается вперед посредством отсечения вероятностей.
"Здесь "бессилие" Dasein проявляется в том, что некоторые из его возможностей бытия в-мире исключаются по причине взаимосвязанное ти обязательствами с другими бытийно сущими, по причине его фактичности. Но именно такое исключение придает Dasein его силу, voo именно это прежде всего и/;едопределяет для Dasein "реальные", осуществимые возможности, предполагаемые мироустройством"2.
Когда несколькими абзацами ниже Бинсвангер говорит об "осознании неизбежной ограниченности предлагаемой психиатрией картины мира, авторитет которой, подобно всем прочим картинам мира, основывается на исключении других возможностей..."3, он не только сосредотачивается на параллели между человеческим существованием и научным объяснением, но и подчеркивает ее особое значение по отноше-
нию к власти Dasein над своим миром. Как это следует понимать в рамках проблем, рассмотренных в предшествующих главах?
Необходимо помнить, что идеал пояснительной системы был охарактеризован как сведение вместе двух взаимно противоположных целей: сохранение объясняемого нетронутым, в том виде, как оно существует, и в то же самое время как можно большее упрощение его до того, что принимается в качестве базисной реальности, "феноменографии". В обсуждении концепции психопатологии с точки зрения Dasein-анализа в главе V предлагается аналогия с конкретным, индивидуальным Dasein. Здесь я приведу краткое изложение психопатологии из клинических исследований шизофрении Бинсвангера.
"Во всех этих случаях Dasein уже не может свободно позволять миру быть, а скорее капитулирует перед одной конкретной картиной мира, подавляется ею, становится одержимый ею. Специальным термином для обозначения этого состояния капитуляции служит слово: 'заброшенность'"'4.
А вот его характеристика девушки во время происшествия на катке:
"'Все, что делает мир значимым, подчинено правилу этой одной категории, которая поддерживает ее "мир" и бытие"5.
Таким образом, не можем ли мы провести аналогию между тем, что описываем как гомогенность символического отношения у психически больных, и опасностью чрезмерного упрощения в объясняющих системах? В обоих случаях пред нами обеднение мира. Такую цену платит психически больной за уменьшение ощущения тревоги, а чрезмерно упрощающая система объяснения — за сравнительную достоверность. В обоих случаях обеднение мира можно рассматривать как потерю свободы: психически больной капитулирует (ausgeliefert) перед своей картиной мира, им как бы извне управляет построенный ("спроецированный") им самим мир; чрезмерно упрощающая система не может вернуться к упрощенным ею явлениям; она оказывается связанной не с тем миром, который она стремилась понять; она не может "позволить миру быть". Одним словом, оба эти случая представляют потерю силы: психически больной не действует, а только подвергается воздействию; чрезмерно упрощающая система уже не может объяснять явления, а лишь тот их аспект, к которому она теоретически может вернуться. Следовательно, в этом смысле феноменология служит искусством "позволения явлениям быть" и о ней справедливо можно говорить как о "здоровье" объяснения, гарантии его свободы.
В нашем исследовании интерес был сосредоточен на проблемах, связанных с чрезмерным упрощением в связи с их значимостью для естественнонаучного объяснения. Однако можно кратко поразмышлять о судьбе этой параллели, если она будет проведена в другом направлении. Как мы помним, феноменография возникает, когда бесконтрольно увеличивается меньший круг, когда критерий первичного факта становится беспредельно неопределенным. В таком случае мы имеем избыток реальности, раздутую систему с тенденцией принимать и "проглатывать
целиком" все сущности и утверждения в том виде, как они появляются. Так как подобная система, наряду с самими явлениями, учитывает все их интерпретации, то она дает не необходимый анализ или правдивое описание явлений, в котором всякая интерпретация, выходящая за границы этих явлений, исключается, а скорее явления с наслоением выходящих за их рамки соотношений и интерпретаций, то есть явления уже упрощенные. Не дает она нам и адекватного объяснения, а скорее отбрасывает явления назад для объяснения в том виде, в каком они предстали в самом начале. Таким образом, идея феноменографии заключается в утверждении того, что все явления имеют реальность, что все они более или менее элементарны и что всем системам присуща некоторая истина. Это можно назвать "маниакальным" стремлением к систематическому объяснению:
"... в фундаментально-онтологическом смысле... об экзистенциальной неуверенности больного маниакально-депрессивным психозом мы можем сказать, что она обусловлена заброшенностью его Dasein в ходе того, как его на длительное или короткое время бросает в недвусмысленные, но противоположные позиции по отношению к миру, в недвусмысленно определенные, хотя и взаимно противоположные способы интерпретации мира"6.
В противоположность "чрезмерно упрощающему" психозу из '"Шизофрении" Бинсвангера, здесь, в его "Ober Ideenflucht" мы имеем прямую противоположность. Больной маниакально-депрессивным психозом скачет от одной картины мира к другой, в каждую его бросает, и все же в действительности он не связывает себя ни с одной из них. Больной маниакально-депрессивным синдромом "одержим" многочисленными и часто противоречивыми мирами, как шизофреник одержим одним миром. Подобно тому, как феноменография признает истинность и элементарную реальность всех явлений, так и маниакального больного бросает в различные миры, каждый из которых в данный момент является для него полной реальностью. Подобно тому, как маниакальный больной никогда не приходит к самому себе7, к окончательной позиции, так и феноменография дает скорее энциклопедическое, чем систематическое "объяснение". И подобно больному маниакальным психозом, феноменография не имеет власти над своим миром, который никогда не меняется, а лишь вновь возникает в том виде, в каком был встречен впервые.
Таким образом, для индивида и для системы условием их власти над миром выступает приверженность этому миру. Если феноменология как искусство беспристрастного понимания явлений представляет собой "здоровье" систематического объяснения, тогда разумное упрощение как искусство предположения выступает актуализацией этого "здоровья". Если обособленность Dasein от построенного им мира и "позволение ему быть" выступает значением свободы, тогда выбранная приверженность этому миру выступает реализацией данной свободы.
К идеалу объяснения как к чему-то среднему между чрезмерным упрощением и феноменографией можно приблизиться с помощью фено-
менологической попытки проникнуть в сущность явлений в том виде, в каком они воспринимаются. Но сила, рассматриваемая как способность изменить или переделывать мир не может возникать исключительно из позиции, ищущей, как феноменология, лишь сущность переживания. Феноменология не может действовать или поступать как наука. Но она может обеспечить основу и начало для эффективного объяснения и действия, в которых потеря возможности полностью компенсируется выигрышем в актуальности.
Здесь параллель заканчивается. Свобода индивидуального Dasein, в отличие от феноменологии, не может быть обособленной от ее использования. Индивид должен выстраивать свой мир с помощью матрицы значения экзистенциального а priori; в действительности индивид с самого начала находит свой мир выстроенным подобным образом. Так, Dasein, брошенное в мир собственной конструкции, может восстановить свою свободу посредством готовности воспринять мир заново, используя свою силу как решительную приверженность миру, который оно выстраивает.
Наука, в сравнении с любой другой системой объяснения в истории философии, имеет единственную в своем роде и степени силу. Она достигла этого потому, что ей удалось дистанцировать человека от того, с чем он сталкивается, и способствовать осуществлению того, что Герберт Маркузе8 называет желанием покорить природу. Только с рождением науки человек полностью отделился от своего мира, и в то же время возвращается к нему как к единственной реальности. Религии и философии пытались осуществить первое, начиная с истоков цивилизации; последнее было отложено до нашего времени. Но только в XX столетии эта позиция распространилась и на личность. Научная психология внесла в царство природы самого человека и тем самым дала начало одному из самых захватывающих парадоксов современности: дистанцированию человека от самого себя, теме самоотчуждения. Итак, что еще остается, кроме тени призрака, тени картезианского cogitansl И в чем выигрыш? Можем ли мы назвать силу, которая в нашей естественной науке оплачена ценой отчуждения человека от природы? Или, может быть, скорее в науке о личности мы достигли того момента, когда отдаление знающего от знаемого уже не является предварительным условием силы, когда все понятие объекта как чего-то противостоящего нам должно быть оставлено в "передней" нашего мышления?
Мы обсудили параллель между системой и существующим индивидом. Кризис нашего времени, сказывающийся на экзистенциализме и Dasein-анализе, заключается в опасности того, что эта параллель станет более строгой, что человек будет принадлежать науке, а не наука человеку, что меньший круг науки станет экзистенциальным а priori человека, что человек — основательно и строго в буквальном смысле — сойдет с ума.
ПРИМЕЧАНИЯ
Бинсвангер, с. 190 этого сборника. Бинсвангер, с. 8586 этого сборника. Бинсвангер, с. 88 этого сборника. Бинсвангер, с. 153 этого сборника.
Biuswanger, "The Existential Analysis School of Thought", in: Rollo May, Ernest Angel, and Henri F. Ellenberg (eds.), Existence (New York, 1958), p.203. Binswanger, Schweiz- Arch. f. Neur. u. Psych., Bd. 29, S. 206. Ibid., S. 243. Herbert Marcuse, Eros and Civilization (Boston, 1955), p. 110.
В издательствах "Рефл-бук" и "Ваклер"
вышли в свет:
в серии "Созвездие мудрости":
О.ХАКСЛИ "Вечная философия"
Дж.КЭМПБЕЛЛ "Тысячеликий герой"
У.БАДЖ "Легенды о египетских богах"
Б.МАЛИНОВСКИЙ
"Магия, наука, религия"
Дж.Дж.ФРЕЗЕР
"Золотая ветвь"
Дополнительный том
ФУКО "Забота о себе"
в серии "Актуальная психология":
Сборник "Высшее сознание"
Р.ДЖОНСОН "Сновидения и фантазии"
ЮНГДОЙМАНН "Психоанализ и искусство"
МЗЛИАДЕ "Мифы, сновидения и мистерии"
Г.АДЛЕР "Лекции по аналитической психологии"
Н.Ф.КАЛИНА "Основы юнгианского анализа сновидений"
"Психология цвета" сб.
АССАДЖОЛИ "Психосинтез"
А.МАСЛОУ "Психология бытия"
К.РОДЖЕРС "Клиентоцентрированная терапия"
О.РАНК "Миф о рождении героя"
К.Г.ЮНГ "Психология и алхимия"
К.Г.ЮНГ "Aion"
К.Г.ЮНГ "Синхронистичность"
К.Г.ЮНГ "Психология переноса"
К.Г.ЮНГ "MYSTERIUM CONIUNCTIONIS"
Дж.БРАУН "Психология Фрейда и постфрейдисты"
Р.МЭЙ "Любовь и воля"
З.ФРЕЙД "Основные принципы психоанализа"
К.Г.ЮНГ "Тэвистокские лекции"
Э.НОЙМАНН "Происхождение и развитие сознания"
Р.НОЛЛ "Тайная жизнь Карла Юнга"
«Современная теория сновидений» сб.
По вопросам оптовой закупки издательства
"REFL-book" и "Ваклер" обращаться:
г. Москва,
издательство "REFL-book",
ул. Гиляровского, 47, тел./факс: (095) 281-70-15
г. Киев
издательства "Ваклер" пр. Победы, 44 тел.: (044) 441-43-04
тел./факс: (044) 441-43-89
Наши читатели всегда могут приобрести
интересующие их книги по эзотерике,
психологии и философии по адресу:
Москва,
Метро "Лубянка", ул. Мясницкая, 6, магазин "Библио-Глобус"
Л. Бинсвангер. Бытие-в-вмире. Избранные статьи. Я. Нидлмен. Критическое введение в экзистенциальный психоанализ. — М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1999. — 336 с. Серия «Актуальная психология».
ISBN 5-87983-027-6, серия ISBN 5-87983-079-9 («Рефл-бук») ISBN 966-543-047-5 («Ваклер»)
Работы, представленные в сборнике, знакомят читателя с теоретическими и прикладными аспектами Dasein-анализа Л.Бинс-вангера и его связь с Dasein-аналитикой М.Хайдеггера и психоанализом З.Фрейда. Рассматриваются аспекты Dasein-анализа в исследовании личности и ее мира еще до разделения на болезнь и здоровье.
Книгу дополняет статья Я.Нидлмена, посвященная основам экзистенциального анализа Л.Бинсвангера.
УДК 159.9.019
Научное издание Бинсвангер Л. Бытие в мире
Редакторы СИ. Иващенко, С.Л. Удовик Технический редактор Н.В. Мосюренко Компьютерная верстка А.Ю. Чижевская
Подписано в печать 1.06.99 г. Формат 6Ox88i/i6. Бум. офсетная № 1. Гарнитура тайме. Печать офсетная. Печ. листов 21. Тираж 2000
Заказ из
Издаю.пллио «Рефл-бук», Москва, 3-я Тверская-Ямская, 11/13.
Лицензия ЛР № 090222 от 08.04.99 г.
|
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.