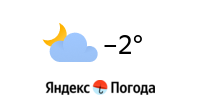Трактат об эффективности
Автор: Франсуа Жюльен
Вместо предисловия; Материал и источники
Глава I. Взгляд, устремленный к образцу
Глава II Использовать естественный ход вещей
Глава III Цель или следствие
Глава IV Действие или преобразование
Глава V Структура случая
Глава VI Ничего не предпринимать (И не останется ничего, что не было бы сделано)
Глава VII Позволить эффекту проявиться
Глава VIII От эффективности к получению эффекта
Глава IX Логика манипуляции
Глава X. Манипулирование против убеждения
Глава XI Образ воды
Глава XII Похвала легкости
Вместо предисловия
Что мы имеем в виду, когда говорим, что какой-то предмет является основанием? Не в значении «основание чего-либо», а основанием в абсолютном смысле? Рассматривая тот или иной фактор в качестве основания, например, в области экономики, производства, торговли, мы предполагаем, что этот фактор сам по себе составляет источник определенного развития, на которое мы можем опереться: вместо того, чтобы предпринимать какие-либо действия по собственной инициативе, мы исходим из того, что в ситуации заложен определенный потенциал, который нам следует отыскать, чтобы затем уже действовать в соответствии с теми возможностями, какие он предлагает. Такое словоупотребление несколько расплывчато, но все-таки оно принадлежит сфере практической деятельности, так что речь идет не о соизмерении практики с абстрактной схемой, а наоборот, о проверке схемы практикой. И мне кажется, что именно здесь можно найти ключ к пониманию связи человека с окружающим миром; более того, именно здесь открывается выход за пределы теоретических рассуждений, налагающих свою схему, рамку на наши действия, и мы можем переосмыслить их, открывая новые источники их «эффективности».
Новые – по отношению к европейской традиции или, во всяком случае, к наследию древних греков, где эффективность человеческих действий мыслится как отпечаток некоторых идеальных форм, данных действию в качестве моделей, призванных спроецироватъся на окружающий нас мир и реализоваться в нем через посредство воли человека. Суть этой традиции – в том, чтобы заранее составлять план действий и реализовывать его, быть может, совершая при этом героические подвиги. Для нее важны отношения между средством и целью, между теорией и практикой.
Далее мы увидим, что концепция эффективности в Китае иная. Она исходит из того, какие условия нужны для получения эффекта: суть дела не в том, чтобы прямо и непосредственно добиватъся результата как заранее поставленной цели, а постепенно создать условия, как следствие каковых он не смог бы не появиться. Другими словами, речь идет не о том, чтобы «преследовать» какой-то эффект, а о том, чтобы дождаться – и не мешать ему наступить. Для этого достаточно, – учат нас древние китайцы, – научиться извлекать пользу из развития ситуации, действовать так, как она сама «несет» нас. А значит, не надо ничего изобретать, не нужно прикладывать никаких усилий – все это нужно не ради отрешения от земного мира, а единственно для того, чтобы добиться наилучших результатов. Основу этого образа мысли, не породившего внутри себя противопоставления теории и практики, составляет проникновение в обычный ход вещей и то, что мы называем стратегией. Но углубившись в него, мы должны будем ответить на вопрос: в самом ли деле в нашей европейской концепции, даже во взглядах «реалистов» (от Аристотеля до Макиавелли и Клаузевица), не говоря уже о более распространенных теориях, речь идет о понятии «эффективности»? Не является ли само понятие эффективности слишком узким, слишком жестким, не способным вместить наше понимание того, как надо действовать, чтобы в реальной жизни происходили (случались) те или иные события?
Когда мы рассматриваем вопрос об эффективности, то непременно вскрывается еще одна проблема: каковы условия появления эффекта, результата? Собственно, что такое результат действия? Каким образом в реальной жизни что-то может осуществиться? Этот вопрос ничего общего не имеет с такими вечными понятиями метафизики, как бытие и познание, как не имеет он отношения и к этическому пониманию действия.
От проблемы результативности действия, эффективности, несущей на себе отпечаток волюнтаризма, мы перейдем к вопросу о той эффективности, применительно к которой есть основания говорить об имманентности; и здесь нам не избежать некоторого сдвига. «Сдвиг» как термин здесь получает двойное значение: с одной стороны, это определенное изменение привычного нам образа мышления, переход из одних рамок в другие – из Европы в Китай и обратно. Мысль таким образом становится активной, деятельной, способной изменить наши представления об окружающем мире. С другой стороны, сдвиг – это перемена, позволяющая «снять барьеры» и наконец увидеть то, чего мы обычно не допускаем в границы нашей мысли, а значит, не можем мыслить.
Конечно, чтобы произвести такой «сдвиг», потребуется основательно перестроить нашу языковую структуру и ее теоретические основания с тем, чтобы вывести ее на новый путь, где она бы выражала не то, что внутренне было заложено в ней еще до начала коммуникации, а то, что откроется в новой потенциально приемлемой для нее мыслительной деятельности, способной отныне черпать из новых источников.
Материал и источники
Эта книга является своего рода продолжением предыдущей, посвященной этике (Fonder la morale. Paris, Grasset,1996), основным героем которой был Мэн-цзы. В Китае на исходе эпохи «Древности» действительно прослеживаются два течения, все более четко противопоставлявшиеся друг другу: течение «моралистов», куда входит Мэн-цзы (конец IV в. до н. э.) и к которому примыкает трактат «Чжун юн», и течение «реалистов» – тех, кто посреди безудержной гонки за властью, наложившей свой отпечаток на весь период «Борющихся Царств», выступал против традиции, воспитания, ритуалов и обычаев в пользу чистой авторитарной власти.
Очевидно, что мысль об эффективности в Китае наиболее явно развивают «реалисты». Однако позже мы увидим, что и «моралисты», в частности, Мэн-цзы, считая себя приверженцами противоположной точки зрения, во многих пунктах все же сходятся с реалистами. Ибо все они признают важность идеи эффективности, разница лишь в том, какой путь к ее достижению они считают наилучшим.
Что касается военной стратегии, то главный текст принадлежит Сунь-цзы (IV или V в. до н. э.). Мы пользовались изданием Ян Биньганя (Сунь-цзы гуйцзя; Чжунчжу гуцзи чубаньше, Хэнань, 1986), а также «Одиннадцати комментаторов» (Ши и цзя чжу Сунь-цзы), издания Го Хуажо (Чжунчжу шуц- зю). Лучшим западным изданием считается издание Роджера Эймса (Roger Ames, Sun tzu, The art of Warware, Ballantine Books, New York, 1993).
В качестве дополнительного материала приводятся цитаты из Сунь Биня (IV в. до н. э.), которые также очень интересны, хотя тексты, дошедшие до нас, изрядно испорчены; издание, которым мы пользуемся - это Дэн Цзэцзун. Сунь Бинь бинфа чжуи. Пекин, 1986. Цитируется также новое издание – D.C. Lau et Roger Ames, Sun Pin, The Art of Warfare, Ballantine Books, New York, 1996.
Что касается политики, то мы пользовались текстом Хань Фэй-цзы (280-234), самого блестящего мыслителя эпохи китайской империи, неудачно называемого «законником» («легистом»); использовалось издание Чэнь Цзиюя (Хань Фэй-цзы цзиши. Шанхай, 1974, 2 тт.). Что касается дипломатии и того, что мы будем называть риторикой, хотя на самом деле это скорее антириторика, то текст, которым мы пользовались, это сочинение Гуйгу-цзы (390-320). За неимением более надежного издания (этому тексту обычно не придавали должного значения), я пользовался, помимо классических комментариев (Инь Цзиц-зан, Тао Хонцзин), также более новыми сведениями (Чжен Цзивэнь. Гуйгу-цзы яньцзю. Хайкоу, 1993).
Война, власть, язык образуют три главных пункта нашего исследования. Особняком стоит Лао-цзы (VI или IV в. до н. э.), которого при таком подходе невозможно поместить в классификацию, потому что он перекраивает ее всю. Вот почему я задался целью вывести Лао-цзы из зоны действия того мистического ореола, в который его с таким удовольствием поместили на Западе, и включить в наши размышления об эффективности; мы пользовались изданием текста с комментарием Ван Би: Чжи сяоши, том 1, Пекин, 1980. Лучшее западное издание – это Robert G. Henricks, Lao-tzu, Te-tao ching, Ballantine Books, New York, 1989.
И наконец, я предпочел оставить за рамками этого исследования тексты типа «Тридцати шести стратегем» («Сань ши лю цзи») – сборники полезных советов по части военной хитрости. Я сделал это для того, чтобы, с одной стороны, сохранить историческое единство материала (ибо эти сборники несомненно относятся к более позднему периоду и лишь повторяют хорошо известные идеи в афористической форме), а с другой стороны, чтобы четко отмежеваться от той вестернизованной «китайщины», по поводу которой и без меня было сказано немало.
Эта книга, в действительности, не трактат по эффективности, а трактат об эффективности. И как таковой, он заново поднимает вопросы, затронутые в Propension des choses (Seuil, «Des travaux», 1992), пытаясь осмыслить их в определенных границах и наметить пути их успешного решения.
[Читатель имеет возможность сопоставить трактовку китайских классических текстов, представленную в книге Ф. Жюльена, с той, что принята в отечественной китаистике. Переводы цитируемых текстов на русский язык см. в следующих изданиях: Сунь-цзы – Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. Перевод и исследование Н. И. Конрада. М.– Л., 1950 (переиздано в кн.: Конрад Н. И. Избранные труды. Синология. М., 1977); сочинения Лао-цзы («Дао дэ цзин»), Мэн-цзы, Хань Фэй-цзы - Древнекитайская философия. В 2-х тт. М., 1972-1973; см. Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха. Пер. В.В. Малявина М., 1997. Для справок см. также: Древнекитайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. – Ред.]
Bibliotheque de Philosophic francaise contemporaine
Francois Jullien
Traite de l'efficacite
Paris
Bernard Grasset 1996
Библиотека современной французской философии
Перевод с французского Б. Крушняка
Научный редактор Н. Трубникова
Москва – Caнкт-Петербург
Московский философский фонд
Университетская книга
1999
УДК 1/14 Ж 87
College international de philosophie
Международный философский колледж (Париж)
Институт философии РАН
Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства Иностранных Дел Франции и Посольства Франции в России
Ouvrage realise dans le cadre du programme d'aide a la publication Pouchkine avec le soutien du Ministere des Affaires Etrangeres francais et de I'Ambassade de France en Russie
Перевод с издания: Francois Jullien. Traite de I'eificacite. Paris, Bernard Grasset,1996
Научный редактор - Н.Н.Трубникова
ВЗГЛЯД, УСТРЕМЛЕННЫЙ К ОБРАЗЦУ
1. Спросим самих себя: удавалось ли нам когда-нибудь хотя бы ненадолго выйти за пределы той схемы, что вынесена в название данной главы? Да и можем ли мы вообще выйти за ее пределы? («Мы» – наследники первых греческих дихотомий, различений, лежащих в основании европейской традиции.) Эта схема настолько хорошо усвоена, что мы больше ее не замечаем, больше не видим того, как сами мы выстраиваем идеальную форму (eidos), которую затем ставим перед собой как цель (telos), и дальше действуем, стараясь осуществить эту цель, сделать ее фактом реальной действительности.
Казалось бы, все само собой разумеется – есть цель, есть идеал и воля: взгляд обращен только на модель, образец, избранный нами; этот образец мы проецируем на окружающий мир, а затем в своих действиях следуем разработанному плану. Наш выбор – вмешиваться в жизнь, придавать форму нашей действительности. Чем ближе наше действие подойдет к идеальной форме, тем больше у нас шансов на успех.
Теперь ясно, откуда берется это правило (в нашем случае «правило» в значении: «взять себе за правило» – так уж устроен интеллект человека). Ведь уже при сотворении мира все шло именно так, а по-другому и не должно было быть (хотя попытка объяснить реальный мир, став на точку зрения его сотворения, изначально обречена на неудачу).
Идея модели, образца заложена в самой обсуждаемой модели. Здесь первичен жест: из наилучших побуждений божественно добрый платоновский демиург не может поступать иначе – он постоянно «взирает на неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи и свойств данной вещи» (idea kai dunamis; Платон, «Тимей», 28а [Пер. С.САверинцева (Платон, Соч. в 4 тт., Т.З) – Ред.], так что у него «все необходимо выйдет прекрасным». Точно так же действует и государственный муж: беря за образец великого Мастера, он устремляет взгляд на вечное и самотождественное и стремится внести в обычаи и нравы себе подобных то, что видит в вышине (ср. «Государство», VI, 500 с). Там наверху – вечные формы, совершенные добродетели, постигнуть их под силу лишь созерцательному разуму. Вот почему строитель государства поступает точно так же, как мастер-демиург: составляя хороший план политического устройства, он имеет перед собой некий «божественный образец» и пытается тщательно воспроизвести его. Даже оратор, обычно столь мало достойный доверия, становится «искусным и честным», когда держит перед своим умственным взором образец, идеал и в своих речах призывает сограждан руководствоваться этим идеалом («Горгий», 504 d).
Однако за этой мощью «идей» – в пику всем усилиям философского рационализма, которому она так долго служила, – нетрудно усмотреть следы мифологического миропонимания. Соотнося таким образом видимое и невидимое, придавая формам, полученным вне опыта и возведенным в архетип, свойство чувственной наглядности, ученые рисковали поставить платонизм в зависимость от «первобытного мышления» (доказательством тому могут служить аналогии между теорией идей – и тем вневременным миром, сосредоточивающим в себе этиологические функции, что связан с «демами»: о нем упоминает Леви-Брюль, рассуждая об архаических обществах). Отсюда, видимо, идут корни концепции эффективности у древнегреческих философов, заглядывавших вглубь древнейшей религии, той самой, от которой впоследствии всякая философия всегда стремились отмежеваться. Известно, что уже при Аристотеле вера в «чистоту» образца и точность его земной копии была утрачена: материя мира стала всего лишь «вместилищем», с которым демиург мог обращаться по своему усмотрению: неспособный более запечатлеваться как форма, данная извне и служащая непререкаемым каноном, образец превращается в истинно имманентную среду вещей, а значит, попадает в зависимость от конкретных обстоятельств. Но это не повод, чтобы отвернуться от проблемы образца вообще. Напротив, «удерживая идеал в поле зрения» (в данном случае, идеал «середины»), мы, как «искусные мастера» (Аристотель, «Никомахова этика». 116в), не можем приступать к действию, не осмысливая его. Точнее, как подчеркивает Аристотель, мы направляем к нему свое творчество, «глядя сверху». Даже если идеальное зависит от обстоятельств и от индивидов, истина, золотая середина всегда остается целью, маячащей впереди (skopos); ее совершенство становится тем образцом, который нам в дальнейшем предстоит воплощать в действительность. Неизменной остается функция образца как цели, полагаемой в «теоретическом» плане; как только она будет поставлена, нам надлежит подчинить ей нашу «практическую» деятельность.
Отныне правило хорошо усвоено: наличие про тивопоставления теории и практики с непреложной силой выступает перед нами, так что обоснованность этих двух величин даже не обсуждается: сколько бы мы ни переворачивали эти два термина, они всегда оказываются налицо.
Не в этом ли состоит суть одной из наиболее глубоко вкоренившихся привычек современного западного мира – или мира вообще, мира, который, по мнению Запада, может быть унифицирован, стандартизован? Мира, где, независимо от распределения ролей, каждый из нас в своем уголку занимается тем же, что и всякий другой в своем: революционер чертит модель государства будущего, военачальник разрабатывает план будущих военных действий, экономист занимается построением кривой планируемого прироста... Столько схем навязано миру, каждая из них отмечена столь образцовой идеальностью, что, как говорится, остается лишь «претворить» их в жизнь. Но что значит «претворить»? Когда они реализуются в окружающей действительности? Во-первых, реализация предполагает мысленное конструирование модели «лучшей жизни»; затем – наличие воли, чтобы перенести данную модель на действительность. Перенести – значит «спустить сверху», как бы сделать оттиск, а стало быть, еще и надавить, навязать силой. Таким моделированием мы пытаемся охватить все стороны реальной действительности, и в этом нами руководит наука, ведь известно, что именно наука составляет основу всякого моделирования (и прежде всего математического), тогда как техническое исполнение, равно как и практическое применение модели с целью материально преобразовать реальный мир признается доказательством эффективности модели.
Возникает вопрос: если успешное владение технологией моделирования позволяет человеку подчинить себе природу, то нельзя ли распространить эту технологию и на область управления человеческими отношениями? Рассуждая в смысле древнегреческой дихотомии «теория/практика», тот же вопрос можно сформулировать несколько иначе: возможно ли понятие эффективной модели, существующее на уровне производства, творчества (poiesis), распространить также и на область непроизводящего действия (praxis по Аристотелю), на сферу того, что «выполняется», а не того, что «производится»? Различение этих двух аспектов в конечном счете не оправдало себя, поскольку один аспект «калькирует» другой, действие «подражает» творчеству: даже когда от «вещей» мы переходим к человеческим отношениям, предпочтительнее оказывается и впредь сохранять за действующими лицами статус «техников» (мастеров, творцов, демиургов) как более внушающий доверие. Хорошо известно – и Аристотель впервые сам признал этот факт – что в основе эффективности технических изобретений лежит обязательное изучение «вещей» реального мира, освоение их в строгих терминах науки, тогда как человеческое поведение по сути своей не предопределено. Главная особенность человеческого действия заключается в том, что оно не подвластно всеобъемлющей силе законосообразности, и следовательно, в нем не так-то легко усмотреть отражение научных законов. Вот почему, подобно тому как у Аристотеля материя – эта ничем не связанная сила противодействия – оказывает более или менее сильное сопротивление «определению», налагаемому на нее формой, реальный мир человеческих отношений также оказывается практически невозможно «уложить» в создаваемые нами модели. Всегда с необходимостью будет существовать разрыв между нашей моделью для действия – тем, что видится нашему взору, устремленному ввысь, – и тем, чего нам удается достичь. Одним словом, практика всегда хоть чуть- чуть, но отклоняется от теории. А образец остается неизменно-совершенным где-то на горизонте рассмотрения. Идеал возносится к небесам – и становится недоступным.
2. Пока это лишь первое слово, сказанное в истории для освещения отношений между теорией и практикой, – но ведь философия не приемлет провалов! И в самом деле, разве допустимо оставлять столь беспомощным в окружающем мире человека, наделенного способностью к научной деятельности и благодаря науке познавшего совершенство сути вещей? Человеку пристало не только мыслить, но действовать и побеждать.
В спорах о форме и материи, или, говоря словами трагических поэтов Греции, о «наилучшем» и «необходимом», Аристотелю удалось вычленить способность, назначение которой – привести практику на смену теории, ликвидировать разрыв между ними. Речь идет об интеллектуальной (дианоэтической) добродетели, непосредственно подчиняющей себе наше действие и обеспечивающей искомое посредничество между теоретическим и практическим аспектами действия. Такая практическая мудрость есть не что иное, как то самое, что традиционно называется «рассудительностью» (phronesis). Ею обладает тот, кто способен самостоятельно и безошибочно разобраться в том, что для него хорошо и выгодно («Никомахова этика», VI, 5). Рассудительность не есть наука, так как занимается отдельными случаями, а не общими законами. Она не есть и искусство (techne), У потому что нацелена на действие (praxis), а не на производство (poiesis).
Отграничивая рассудительность от науки и от искусства, мы тем самым определяем собственную функцию этой добродетели: она не продолжает науку, а помещается где-то рядом с ней. Ее предмет – другая сторона мыслящей души. Если в научном плане функция души – созерцать окружающий мир таким, каким он предстает нашему умственному взору (предметы метафизические, математические), мир, который не может быть изменен, то своей рассуждающей частью душа смело производит расчет уместных действий в постоянно меняющемся внешнем мире. В расчет принимаются и такие дополнительные факторы, как «верность взгляда», «живость ума» и «способность суждения» (gnome). Рассудительностью славятся не ученые, занятые умозрительными рассуждениями, а «администраторы» (хозяева в своем доме и в своем городе).
Философия восстанавливает в правах «людей дела»: не тех, кто, подобно Фалесу или Анаксагору, искал «трудных» и «божественных» знаний (эти знания с некоторых пор перестали вызывать интерес), а тех, кто занимался делами людей, – подобно Периклу.
Так благодаря Аристотелю философия, раньше решавшая «неземные» задачи, вновь вернулась к «вещам», стала «реалистичной». Однако я не решился бы определить, насколько «истинной» (в смысле удовлетворения потребностей науки) можно назвать «рассуждающую» способность, для которой эффективность возводится в принцип. Прежде всего оказалось очень трудно дать определение этой практической способности – потому что и сам Аристотель, и его комментаторы попадают здесь в «порочный круг». «Рассудительность», по его определению, – это способность ориентирваться в практике, соблюдая истинные правила, то есть следуя тому, «что хорошо и что плохо для человека». Но откуда должно исходить такое «истинное правило», определяющее выбор и становящееся затем нормой, если не из области знания, науки? Известно, что в отличие от Платона Аристотель уже не верил в возможность всегда выводить частное из общего, действия – из принципов; в результате ему ничего не оставалось, как определить рассудительность исходя из «рассудительного человека».
Критерий рассудительности принадлежит не науке, но лишь человеку, который действует «рассудительно». Не полагаясь на трансцендентный образец, Аристотель впадает в другую крайность и оказывается обреченным на эмпиризм, Дело в том, что лишенная основания рассудительность оказывается чем-то зыбким; ее можно определить только через существование конкретного индивида. Аристотель не сумел справиться с этой проблемой, оставаясь в пределах здравого смысла. В конечном итоге на основе практической способности оказалось очень трудно утвердить идею ценности, способную восполнить пробел в теоретической части. Разве не в том установки мыслителей (Аристотелю так и не удалось вырваться из их круга, доказательством тому – его определение рассудительности при помощи «истинного правила», orthos logos), что, видя отсутствие четкого критерия для «рассудительности», они все же разрабатывают ее теорию?
С другой стороны, вопреки общепринятой оценке понятия рассудительности, которую Аристотель и брал за образец, сам он не сумел или не захотел отделить свои размышления о рассудительности от этических соображений. Традиционно в греческой философии действие рассматривалось как этически нагруженное. От этого не отказывался и Аристотель. Даже если в своих размышлениях об условиях эффективного действия он ушел вперед, обогнав других представителей греческой философии, все же действие у него трансцендентно по отношению к цели («преимущество», даруемое рассудительностью, – не в личной пользе, а в общественной, на уровне полиса, ср. «Никомахова этика», III).
Позиция Аристотеля подкрепляется различением «рассудительного» и «ловкого» (deinos), причем ловкость рассматривается как способность комбинировать самые эффективные средства, не заботясь о качестве цели, тогда как в случае рассудительности цель ставится во главу угла. Как этический вариант ловкости, рассудительность сохраняет одну и ту же направленность – на добро, сама же ловкость всегда норовит увильнуть в сторону. Разве можно поверить в то, чтобы греки, с присущей им склонностью к хитростям, не были захвачены идеей ловкости, искусства выходить победителем? В самых разных областях своей деятельности греки очень рано стали восхвалять хитроумие (metis), находчивость, умение открывать обходные пути. Как состояние ума, озадаченного практическими делами, «хитроумие» греков, по мнению Марселя Детьена и Жан-Пьера Вернана, состояло из «чутья, проницательности, догадки, гибкости ума, притворства, смекалки, бдительности, чувства уместности»... Одиссей, обладатель metis (polumetis), хитроумный Одиссей, Одиссей с его многочисленными приключениями, со страшными превратностями его судьбы – вот греческий герой. Сам Зевс проглатывает божественную Хитрость – Методу, чтобы обладать ее мудростью и чтобы перед богами и людьми быть уверенным в своей способности отразить все удары и сохранить за собой власть на Олимпе.
Хотя свойство ума, называемое «хитростью» (metis), проявляется в разных областях, Детьен и Вернан утверждают, что акцент все же делается на «практической эффективности», на «поисках успеха в сфере активной деятельности». Характерной особенностью «хитрости» является то, что она позволяет одержать победу над превосходящей силой, при условии, что слабейший умело пользуется обстоятельствами, ловко маневрирует. Введя в заблуждение соперника в гонках на колесницах, умело воспользовавшись удобным случаем, Антилох у Гомера смог круто изменить соотношение сил в свою подьзу. Полем деятельности Метиды выступает многообразный и неоднозначный мир, находящийся в вечном движении, а потому ее уму свойственны необычная гибкость и свобода; отсюда эпитеты: «текучий» и «пестрый» ум. Поскольку она имеет дело с реальностью, которая обычно является следствием столкновения противоположных сил, ей надлежит быть полиморфной и подвижной; способная подчинять себе постоянно меняющуюся ситуацию, хитрость открыта всему, что может случиться; она постоянно изменяется, чтобы приспособиться.
Хитрость вечно ускользает, она еще более неуловима, чем мир, к которому она обращена; благодаря своей гибкости и податливости, она способна добиться триумфа там, где для успеха нет готовых правил и твердых рецептов. У нее свои образцы или, по крайней мере, свой «бестиарий»: она совмещает роли лисицы и паука, от первой берет ловкость, а от второго – умение опутать свою жертву и парализовать ее. Именно так, прибегая к хитростям и уловкам, действует Одиссей, когда хочет отразить атаку противника и опутать его с помощью красноречия. В этом заключается всеобщий закон реалистического взгляда на вещи. Между тем, если следовать Детьену и Вернану, можно убедиться в неповторимости древнегреческой metis – этим-то она и покоряет. Ибо она отмечена печатью одновременно и техники, и магии. Ее покровительница – сама Афина. Ее техническое измерение проявляется в охоте и в рыбной ловле, ее славят искусства управления колесницей и вождения кораблей. Хороший мореход – тот, кто благодаря хитроумию способен справиться с неподвластной человеку морской пучиной; хотя речь идет о деятельности, практике, это деятельность творческая: сила, которая строит корабль и которая ведет его, – это сама Афина. С другой стороны, будь то уловки Афины или же Медеи, опасна ли их ворожба или благотворна, они вводят в действие иные силы, более темные и тайные, чем ясный человеческий разум; им не чужды колдовские чары. Хитростью выявляется эффективность, недалеко ушедшая от таинства и мифа.
Еще важнее то, что нигде в Греции мы не найдем теории хитрости. Хитрость можно обнаружить только там, где есть игра социальных и интеллектуальных сил; иногда хитроумие становится просто «навязчивой идеей», но ни в одном тексте нет его анализа, нигде не вскрываются его основы и побудительные причины. Вот почему Вернан и Детьен могли изучать хитроумие только на основе мифов и драмы, а там оно всегда предстает «неглубоким», погруженным в практику, и, несмотря на широкое использование «хитростей», природа metis не раскрывается и происки ее не находят оправдания. Хитрость определяет подвижное и неуловимое, а значит, не поддается отливанию в форму, возведению в образец, исключает возможность отождествления закрепления, привязки к богу и бытию, к чему всегда так стремился дух древних греков. Когда софисты первыми усмотрели в хитрости источник философского познания, они, как известно, встретили всеобщее возмущение и резкий отпор; хитроумию было суждено навсегда остаться за пределами того, что составляло ядро эллинской мудрости (и само слово metis вскоре вышло из употребления в греческом языке). Но разве одним лишь отсутствием интереса можно объяснить тот факт, что познание отвернулось от хитрости и сосредоточилось главным образом на том, чтобы проникнуть в сущность вещей, вывести порядок мироустройства? А может быть, теоретический инструментарий греческой мысли (и нашей тоже) не смог в полной мере овладеть тем вечным движением, в котором пребывает действие человеческих существ?
Как бы то ни было, практическая эффективность для древних греков оставалась неподвластной и немыслимой – даже если к ней и проявляли какой-то интерес и придавали ей какое-то значение.
4. Доказательством тому, как трудно осмысливать ход действия вообще, являются попытки осмыслить ход военных действий. Действительно, радикально переворачивая и доводя до крайности все наши действия, война лучше всего демонстрирует то, в какой тупик заходит большинство концепций эффективной деятельности, как только эти концепции берутся за построение теоретических моделей. То же происходит, когда они ограничивают свои задачи чисто технической стороной дела (хотя эти две стороны их работы не могут существовать одна без другой).
Обратимся к Клаузевицу, одному из немногих в нашей традиции авторов, кто в начале XIX в. пытался представить в обобщенной форме предшествующие попытки построить теорию военных действий на европейском материале. Его пример показателен, ибо он знаменует провал предпринятого начинания. Сам он объясняет неудачу тем, что замысел в области военного действия ничем не отличается от проекта в любой другой отрасли, рассмотренной с точки зрения материального производства, без учета собственно действующего начала в ней. Первоначально наука о войне строилась как искусство производить вооружение и сооружать укрепления, собирать армию и создавать механизмы ее передвижения. Так древнее искусство осады городов и простейшая тактика постепенно развивались, вырабатывая все более совершенные механические искусства. Когда же эта наука начала систематизировать свои материальные данные, она стала сводить превосходство на войне к простым численным показателям: для построения науки о военных действиях полагалось опираться на математические законы. Иногда она прибегала к использованию геометрических фигур (в частности, ими пользуются фон Бюлов и Де Жомини). Вывод Клаузевица краток: чисто геометрический результат не имеет никакой ценности. Подобное теоретизирование предполагает односторонний взгляд, чисто материальный и не способный изменяться, а потому не способный управлять реальной жизнью. А коль скоро ведение войны невозможно подчинить теории, то нет другого пути объяснить военные победы, кроме ссылок на «естественные диспозиции» и «гений» полководцев (хотя известно, что гении обходятся без теорий). Этим и объясняется, замечает Клаузевиц, что ход боевых действий достается нам в виде описания разрозненных и анонимных решений, вышедшего из- под пера свидетелей или мемуаристов».
Как же Клаузевиц предполагает поступать, чтобы избежать подобной трудности в построении теории? Предложенный им ход при первом приближении вызывает только удивление. Дело в том, что он начинает выстраивать свою концепцию в виде «модели», которую рассматривает как идеализированную чистую сущность, – с «абсолютной» войны, которой он далее противопоставляет войну «реальную», такую, в какую «абсолютная» война превращается в реальной действительности. Хотя Клаузевиц и считает, что до него все размышления о войне шли по ложному пути и ими был упущен сам предмет исследования, поскольку теоретики пытались моделировать то, что в принципе не поддается моделированию, все же сам он не избежал противопоставления теории и практики. Не сумев вырваться из общих схем, в рамках которых западная мысль рассматривала действие, он не нашел другого выхода, как вернуться к проблеме традиционного разделения модели и реальной действительности, терминологически развести понятия и осмыслить расхождение между ними. Согласно его модели, война предполагает неограниченное применение силы, что логически ведет к крайностям (вплоть до тотального уничтожения). Однако дело принимает совершенно иной вид, если мы переходим от абстракции и реальности, ибо война никогда не бывает изолированным актом, не ограничивается принятием одного- единственного решения и не бывает абсолютной по своим результатам. А раз так, то тенденция к крайностям, составляющая суть войны, в реальной действительности всегда оказывается в той или иной степени ослабленной (только Наполеону, «богу войны», удалось бы приблизить войну к уровню ее теоретической концепции). Проблема ослабления, «размывания» – одна из самых интересных у Клаузевица. Что это за «среда-проводник», в которой не может наступить «полного задействования боевых ресурсов», того, что, собственно, и составляет суть военных действий? Не сумев избавиться от противопоставления теории и практики, от разделения войны «идеальной» и войны реальной, но понимая вместе с тем, что такая позиция приводит к отходу от реальности, Клаузевиц в конечном итоге успешно использует ее, – но использует, выворачивая наизнанку, а именно, исходя из неадекватности как специфической особенности войны. То, что делает войну войной, – это неизбежная дистанция между результатом и замыслом: понять войну – значит понять, каким образом она несет в себе нечто такое, что приводит к разрушению всякого понятия о ней.
Отсюда прямой вопрос: каковы условия возможности науки ведения военных действий? (Точно так же немного раньше Кант задавался вопросом: как возможна метафизика как наука? А еще ранее Ньютон поставил свой вопрос: при каких условиях возможна физика как наука?) Следует признать, что при всем разнообразии тех логических форм, которые управляют миром действия (будучи копиями форм, управляющих миром знания), самая строгая из них – форма «закона» – оказывается неприемлемой для теории ведения войны по причине разнообразия и постоянной изменчивости явлений, с которыми она сталкивается: фактически речь могла бы идти только о «методе», и то не в смысле логики, а в плане оценки «среднестатистической вероятности аналогичных случаев», откуда можно вывести способ действовать «нормально» применительно к соответствующей ситуации.
Способ этот со временем ассимилируется, превращается вначале в «привычку», а позже в «рутину». К нему прибегают «почти бессознательно», когда действовать нужно очень быстро (отсюда «профессионализм», способствующий точному ходу военной машины). Он позволяет также выбирать «наименьшее зло» в условиях недостатка информации о многих деталях, определяющих ситуацию.
Тем не менее такой «метод», постоянное и единообразное повторение которого порождает «своего рода механические навыки», оказывается все менее приемлемым по мере продвижения по иерархической лестнице, усиления ответственности и по мере того как стратегический план становится важнее тактического: чем больше масштаб ситуации, тем чаще приходится обращаться к способности суждения, позволяющей понять особенности ситуации, и тем более ценится талант человека, принимающего решения. На этом уровне, пе-ред лицом всякий раз нового, и следовательно, неведомого ранее характера военных действий во всем их размахе, любой формализм, подразумевающий повторение уже известного, представляет величайшую опасность. Именно в силу невозможности задать образец теория и терпит неизбежный крах. Впрочем, и сам Клаузевиц в своих размышлениях о войне не претендует ни на что другое, кроме «воспитания» боевого духа будущего военачальника, или еще проще – на «ведение его по пути самообразования». Наука дает полководцу лишь «точку отсчета, служащую основой для выработки собственного суждения», просвещает его, без того, однако, чтобы «вести его за руку на поле боя». И тем не менее, как бы недоверчиво Клаузевиц ни относился к абстрактным моделям, проецируемым на привычный ход вещей, сам он, переходя от размышлений о войне к указаниям относительно того, как ее вести (ибо он, разумеется, не может уйти от взгляда снизу), тоже нуждается в идее войны и не может обойтись без «плана военных действий», составленного заранее. Для него такой план – это «скелет любого военного действия», в котором, в соответствии с поставленной целью, фиксируется серия действий, необходимых для ведения боя. Даже «под очевидным давлением момента» нельзя «отступать» от него или подвергать его «сомнению». Таким образом, когда Клаузевиц рассматривает себя как деятеля в свете практической необходимости, он возвращается к схеме, которую разрушают его же собственные теоретические размышления: вначале мыслительная способность создает идеальную форму, затем вмешивается воля – «железная воля, сметающая препятствия». Без воли невозможно осуществить проект в реальной жизни... Впрочем, это всего лишь первоначальный план, и позже стратегия придет к тому, чтобы модифицировать его: ибо «на войне все происходит иначе, чем было задумано и решено где бы то ни было». Ведь война не является деятельностью, зависящей от нашей воли и направленной на «инертную материю», как это ошибочно полагали теоретики прошлых эпох; скорее, речь идет об объекте, который «живет и реагирует», и разумеется, такая живая реактивная среда в силу самой своей природы ускользает от всякого заранее составленного плана. Отсюда заключение, к которому приходит в конце концов Клаузевиц, и которое заводит нас в известный тупик. «Очевидно, что в таких действиях, как война, когда план основан на общих условиях и часто нарушается неожиданными частными явлениями, приходится полагаться более на роль таланта и гораздо реже, чем в других случаях, удается применять теоретические указания».
Клаузевиц разработал специальную концепцию, чтобы осмыслить несостоятельность идеальной модели, по которой ведется действие: концепцию «трения». Эта концепция, видимо, слишком общая, по ней невозможно отличить реальную войну от такой, о которой читают в книгах. Верно и то, что «на войне все теории падают в цене вследствие бесчисленных вторичных и случайных обстоятельств, которые никогда не могут быть достаточно подробно изложены на бумаге, а значит, приблизиться к цели оказывается невозможно». Клаузевиц ставит вопрос о сопротивлении обстоятельств, как о «трении», потому что сам он, размышляя о военных действиях, не отказался от механистической модели (а заодно и от технической точки зрения, которая ей сопутствует). Как бы хорошо ни была «смазана» военная «машина», все равно остаются многочисленные точки трения, которые, несмотря на свои минимальные размеры, достаточны для того, чтобы в целом обеспечить достаточное сопротивление и заставить войну сойти с намеченного пути. «На войне все просто» (согласно начальному плану), «но самое простое – это и есть самое трудное» (с того момента, как от планирования переходят к исполнению). Трудность эта сравнима, говорит Клаузевиц, разве что с той, которую мы внезапно испытываем в воде, когда пытаемся точно повторить столь естественное движение, как ходьба... Между войной, такой, какой она оказывается в реальной жизни, и идеальной ее концепцией такая же разница, как между такими понятиями, как «погода» и «климат»: было бы ошибкой думать, что эту разницу можно сгладить за счет приращения теорий. Единственное, что может помочь, – это привычка, навыки, которые вырабатываются тренировкой, и следовательно, приходят с практикой.
Подобной «тренировкой» никогда нельзя, впрочем, добиться преодоления расхождения между замыслом и реальностью. Все медитации на тему теории и практики, которым западная философия не уставала предаваться со времен Аристотеля (или уже со времен Платона?) и первым шагом в которых всегда была «рассудительность» как этический аналог «хитроумия» героев древности, имеют одно и то же слабое место – разрыв между реальностью и ее образцом.
Именно поэтому применительно к войне Клаузевицу не оставалось ничего иного, как теоретизировать по поводу этой недостаточности всякой теории. Нет сомнений в том, что война не является наукой. Но она не является и искусством – добавляет Клаузевиц. «Поразительно, – замечает он, – насколько идеологические схемы и искусства и науки мало подходят для этой деятельности». Клаузевиц, кстати, отлично понимает причину: дело в том, что эта деятельность направлена на некий объект, который живет и реагирует. И все «схемы», которые мы принимаем или отвергаем, таковы, что их не так-то легко избежать, – и здесь мы должны согласиться с ним.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ
1. Китайская мысль отучает нас прибегать к столь привычному для нас противопоставлению теории и практики. Ибо мир, созданный ею, не состоит из идеальных форм, таких, как архетипы или чистые сущности, которые необходимо отделить от реального мира, чтобы понять этот мир. Весь реально существующий мир здесь предстает как процесс, размеренный и постоянный, обусловленный взаимодействием двух начал, одновременно и противоположных, и взаимодополняющих: это знаменитые инь и ян. Порядок вещей уже не зависит от образца, накладываемого на вещи сверху. Но этот порядок целиком содержится в реальном ходе событий, которые совершаются имманентным образом и имеют целью поддержание жизнеспособности целого (отсюда сквозная тема китайской философии – «путь», дао). Задаваясь целью уяснить себе ход вещей, исходя из их внутренней когерентности, согласованнности, и действовать соразмерно их движению, китайский мудрец не пытается предаваться такой созерцательной жизни, которая вылилась бы в чистое знание (theoria) и была бы самоцелью или даже высшей целью (благом, счастьем), оставаясь при этом совершенно бескорыстной. «Мир» в понимании китайского мыслителя – не предмет для умозрений. Не существует «знания» с одной стороны и «действия» – с другой. Вот почему китайский образ мышления логически не признает оппозиции «теория – практика»: не потому, что представители этой традиции не знают о нем или что у них затянулось некое теоретическое детство, но просто потому, что они прошли мимо этого отношения, – как прошли они мимо идеи Бытия или идеи Бога...
Существует, таким образом, некоторое различение, понимание которого, быть может, способно заново приоткрыть для нас набор доступных подходов и несколько поколебать наше видение мира, базовое для европейской традиции (у китайской традиции есть свое такое же устойчивое мировидение, как есть оно и у всякой другой традиции). Только таким образом мы сможем отстраниться от нашего имплицитного выбора, который обычно движет нами как какая-то очевидность, а между тем именно здесь, в точке сомнения, мы имеем случай глубже понять его. Применим полученное различение к тому главному неизвестному, каким выступает для нас эффективность: вместо того, чтобы выстраивать модель как образец для действия, китайский мудрец, скорее, сосредоточивает свое внимание на привычном ходе вещей, стараясь постичь их соразмерность и извлечь пользу из их саморазвития. И именно в этом различии между китайской и европейской традициями нам следовало бы заметить некоторую поведенческую альтернативу для нас самих: вместо того, чтобы строить идеальные формы, а потом проецировать их на реальные вещи, не лучше ли попытаться приблизиться к обнаружению реальных факторов, благоприятных для нужного нам действия, рассмотрев ситуацию во всем ее объеме? Вместо того, чтобы жестко фиксировать цель нашей деятельности, не лучше ли следовать ходу своих естественных пристрастий? Короче говоря, не лучше ли, вместо того, чтобы навязывать реальному миру наш план, опираться на тот потенциал, что заложен в самой ситуации?
Моралист Мэн-цзы – назовем его все-таки моралистом – приводит пословицу, распространенную в княжестве Ци; если прочесть ее исходя из традиционного европейского взгляда на вещи, то она по-своему точно передает суть той альтернативы, о которой мы говорим (культура Ци в сравнении с более традиционной культурой Лу, пожалуй, более наглядно выражает тот интерес, который проявляла к эффективности китайская мысль в последние века Древности). Каким бы прозорливым умом ты ни обладал, лучше опираться на те возможности, которые заложены в ситуации: «Держишь ли ты в руках тяпку иль мотыгу, лучше дождаться созревания плода» (Мэн-цзы, II, А, 1). В этом смысле мудрость и стратегия по сути дела совпадают: чтобы достигнуть желаемого эффекта, следует рассчитывать скорее на развитие событий, чем на свой собственный инструментарий; вместо того, чтобы думать о выстроенном заранее плане действий, лучше научиться извлекать пользу из того, что заложено в ситуации и что вытекает из ее развития. Дело в том, что потенциал ситуации представляет собой нечто гораздо большее, чем простое стечение обстоятельств, даже самых благоприятных, – если вообще не что-то совсем другое. Если взглянуть на него с точки зрения логики естественного развития событий, то потенциал ситуации – это то, когда все идет своим ходом и нас «втягивает» в этот ход вещей.
В древней китайской стратегии существуют два основных понятия, тесно связанных между собой: с одной стороны, это ситуация или конфигурация (син) в том виде, как она актуализуется и обретает форму у нас на глазах; с другой стороны, это как бы реакция на действие, потенциал (…, произносится как ше), вписанный в ситуацию: его мы можем заставить работать на нас. В древних военных трактатах (Сунь-цзы, гл.5, «Ши») в качестве иллюстрации приводится бурный поток, способный сдвинуть даже камни на своем пути, или арбалет с натянутой тетивой, готовый выстрелить. За отсутствием теоретических объяснений (такое часто бывает в Китае), нам самим придется истолковать эти сравнения. Поток выходит из берегов, когда его русло становится слишком узким (результат конфигурации рельефа) и ситуация сама по себе превращается в источник эффекта (о потоке говорят, что он «обрел силу», «дошел до предела»). Точно так же и арбалет: в тот момент, как он выстреливает, его напряженное состояние тотчас срабатывает, давая результат.
Имея в виду такой потенциал, китайские мыслители разработали стратегическую науку, позаботившись о том, чтобы извлечь из идеи потенциала все возможные следствия. Они подвергли сомнению то, что можно было бы назвать «гуманистической» концепцией эффективности. Ибо на самом деле в свете их концепции наш личный вклад, события, навязанные миру нашими усилиями, значат меньше, чем объективная обусловленность ситуации, приводящая к некоторым результатам. Я должен пользоваться этими условиями, я могу на них рассчитывать, их одних достаточно, чтобы привести к успеху и определить его. Мне остается лишь допустить, чтобы все шло своим ходом. Итак: если сила и слабость – это дело случая, то мужество и трусость – это дело потенциала (заложенного в ситуации и вытекающего из нее). Мужество и трусость – продукты ситуации, а не наши личные качества (они не зависят исключительно от нашей ответственности). Как пишет комментатор Ли Цюань, если на стороне нашего войска появляется стратегический потенциал, «тогда и негодяи становятся храбрецами», если же оно его теряет, «тогда и храбрецы ни на что не способны». Вот почему далее в трактате можно прочесть: «Хороший полководец ищет успеха в потенциале ситуации, а не требует его от подчиненных. От того, умеет ли он опираться на потенциал ситуации или не умеет, зависит, как поведут себя на поле боя его подчиненные: как герои или как трусы. Иначе говоря, мужество и трусость являются «модификациями» этого потенциала (Ван Си).
Единственным эквивалентом, который я, как европеец, нахожу для этой идеи потенциала, может служить пример из области механики – то, что она определяет как «потенциальная энергия». Следует помнить, что речь идет о физических, а не об этических терминах, – о таких, как научная теорема, например, как теорема о кинетической энергии, а вовсе не о правилах поведения. Доказательством тому служит образ, которым завершается описание стратегии: «Тот, кто опирается на потенциал, содержащийся в ситуации, использует в сражении своих людей как бревна или камни, заставляя их катиться. И бревнам и камням свойственно оставаться неподвижными на ровной поверхности и катиться по наклонной плоскости: если они круглые, они катятся, в противном случае движение отсутствует; потенциал войск, которыми умело пользуются в сражении, можно сравнить с натиском круглых камней, когда они катятся вниз с горы». Наклонная плоскость служит здесь образом естественного устремления, результата сложившегося соотношения сил, которое стратег умело использует во время боевой операции: успех достигается как бы сам по себе, спонтанно; как подчеркивают комментаторы, он неотвратим и дается «легко».
Не следовало бы, впрочем, ограничивать потенциальную энергию ситуации этим единственным полем деятельности. Дело в том, что ее традиционно рассматривают более широко, в частности, в трех аспектах, тесно связанных между собой (Ли Цзин): 1. Как нравственный потенциал: «Когда полководец не страшится смерти, а воины счастливы сражаться вместе с ним, они рвутся в бой и несутся как ураган»; 2. Как топографический потенциал: когда проход узок и войско зажато так, что «один человек может охранять это место и тысячи не смогут пройти»; и наконец, 3. Как потенциал, заключенный в «адаптации»: когда можно воспользоваться усталостью или расслабленностью противника, когда он изможден жаждой и голодом, когда «его передовые пункты рассеялись, а арьергард еще только форсирует реку»... Во всех этих случаях, тот, кто умеет пользоваться ситуацией, может добиться легкой победы. По словам одного из комментаторов, здесь «малыми усилиями» можно добиться «большого успеха».
В древних трактатах по стратегии авторы не колеблясь рекомендуют использовать такие источники успеха, иногда доходя до крайностей, рискуя даже шокировать читателя. Ибо для увеличения потенциальной энергии ситуации китайский стратег опирается не только на то, что может оказаться неблагоприятным для противника (в плане топографии или состояния войска); он еще и организует ситуацию таким образом, чтобы его собственные войска дошли до такого состояния, когда они сами станут «рваться в бой». Для этого достаточно создать для них такую ситуацию, в которой перед лицом опасности им не оставалосьбы ничего другого, как сражаться изо всех сил, – чтобы выжить (Сунь-цзы, гл.11, «Цзю ди»). Для этого полководец начинает битву только в «гиблом месте», то есть после того, как его войска достаточно далеко продвинулись на территорию противника; как если бы он заставил их подняться достаточно высоко, а потом «убрал лестницу»: пути к отступлению отрезаны и приходится драться насмерть. Таким образом, военачальник не требует от своих подчиненных, чтобы они были мужественны в смысле некой врожденной доблести. Просто в конкретной ситуации он ставит их лицом к лицу с такой опасностью, что им нельзя не быть мужественными, – хотя бы и вопреки их собственной воле. Верно и другое: когда враг отступает и у него нет другого выхода, кроме как сражаться насмерть, полководец должен сам открыть перед ним лазейку для спасения, дабы тот не сумел развернуть свою боевую мощь.
[Макиавелли в своем «Искусстве войны» тоже говорит об этом: «Иные полководцы убеждают солдат в необходимости сражаться до конца без иной надежды на спасение, кроме как победа; это самое мощное и самое надежное средство, чтобы солдаты стали сражаться ожесточенно» (IV) Верно и другое: «Никогда нельзя доводить противника до отчаяния. Этим правилом пользовался Юлий Цезарь в войне против германцев: когда он видел, что необходимость победить или умереть придавала им новые силы, то открывал врагу проход и предпочитал преследовать его, а не добиваться победы на поле сражения» (VI). Но Макиавелли ограничивается лишь этими замечаниями и не приводит доводов для их обоснования. Китайская мысль здесь делает предметом размышления то, о чем западная стратегия говорит лишь мимоходом.]
2. Поскольку китайской стратегии, если судить о ней по древним трактатам, свойственно опираться на потенциал, заложенный в ситуации, и определять характер действий в зависимости от постоянно меняющихся обстоятельств, ей чужда идея предопределения хода событий в соответствии с заранее составленным планом как неким идеалом, к которому надо стремиться и который должен быть более или менее завершенным («стратегический план» по Клаузевицу: такой план показывает, когда, где и какие воинские соединения должны дать бой). Китайский стратег действительно далек от того, чтобы проецировать на ожидаемые события идею, указывающую им, какими они должны быть, какими он их представляет себе и как предполагает добиться того, чтобы они покорялись его воле; ведь он рассчитывает сыграть именно на том, что использует реальное развитие событий.
Если уж какая-то операция должна быть проработана заранее, до вступления в боевые действия (в «храме предков», как у нас – в «кабинете министров»), то ее станут рассматривать не в рамках «плана», а в рамках «оценки» (понятие сяо) и в свете понятия «взвешивания», то есть оценки, заблаговременной и требующей расчета – понятие цзи). Стратег должен начать с тщательного учета наличных сил, взвесить, рассчитать все факторы, которые могут оказаться благоприятными для той и другой стороны и выделить те из них, которые помогут ему одержать победу. Древний трактат, который мы начали читать, начинается с систематического изложения того, как строго следует проводить эту предварительную (и совершенно необходимую) оценку (Сунь-цзы, гл.1, «Цзи»). Ее надо вести в соответствии с пятью базовыми критериями: моральный дух, метеоусловия – «небо», топографические условия – «земля», командование и система организации. Требуется получить ответы на определенную совокупность вопросов: 1. Кто из владык обеспечивает самый высокий моральный дух? 2. У кого самые способные командиры? 3. Какой стороне наилучшим образом благоприятствуют погодные и природные условия? 4. Где лучше выполняются приказы? 5. Какая из сторон наилучшим образом вооружена? 6. На чьей стороне лучше обучены офицеры и солдаты? 7. Наконец, кто лучше соблюдает дисциплину? Эксперт в области стратегического искусства должен сделать заключение: «На основании вышеизложенного мне известно, кто победит, а кто потерпит поражение». Потому что потенциал – реальная сила обстоятельств – зависит и от состояния противника, иего можно определить только ответами на перечисленные нами вопросы.
Действительно, при переходе от заключения о наличествующих силах к определению существующего потенциала ситуации разыгрывается основная карта стратегии. Еще одну фразу из древнего трактата стоит рассмотреть очень внимательно: «После тщательного взвешивания всего того, что может оказаться выгодным (в соответствии с семью вышеназванными вопросами – Ф.Ж.) определяют потенциал ситуации, который может быть доступен вовне (то есть при проведении операции не в терминах оценки, а на поле боя). А значит, потенциал состоит в том, чтобы «определить все, что зависит от обстоятельств и касается успеха». Подобный анализ позволяет учитывать все вплоть до мельчайших деталей, непредвиденных обстоятельств, грозящих разрушить построенный план. Более того, заложенная в потенциале ситуации возможность изменения позволяет вносить незначительные коррективы, обусловленные естественным направлением событий. Исходной точкой служат логика моделирования (логика плана-модели, дающего информацию о фактах) и логика воплощения (идея-проект конкретизируется во времени), а приводят они к логике развития: дать эффекту развиваться своим ходом в соответствии с логикой самого начавшегося процесса.
Уже на данной стадии обстоятельства не мыслятся как «нечто, лежащее вовне», второстепенное, как отдельные детали (дополняющие «главное»: отсылка к метафизике «сущности и явления»). Обстоятельства суть то, с помощью чего осуществляется возможное: прежде всего, потенциал ситуации, возможности, заложенные в ней. Вывод: потенциал есть нечто зависящее от обстоятельств – существующее исключительно в заданных обстоятельствах (отсюда потенциальность, обилие возможностей и необходимость использовать их для развития успеха).
Как замечает один из комментаторов (Ду My), даже если верить в победу и иметь на руках предварительное заключение о реальных силах, потенциал ситуации невозможно предвидеть заранее (до начала боевых действий); его можно лишь выявить в ходе развертывания операции, потому что он постоянно меняется. Столкновение противоборствующих сил тем и замечательно, что в нем постоянно происходит борьба противоположностей. Так вот, в любую минуту «я решаю, что выгодно для меня, только исходя из того, что вредно для противника» и наоборот: «Рассчитывая, что приносит пользу противнику, я понимаю, что это вредно для меня». Другими словами (Ван Си): «Потенциал ситуации есть то, что позволяет извлекать пользу из ее изменчивости». В свете такой концепции потенциал рассматривается как переход на ступень от предварительных расчетов, проводимых по установленным образцам, к последующему использованию ситуации для развития успеха, когда процесс уже начался. С одной стороны, в ходе боевых операций нельзя не менять тактику по отношению к противнику, а с другой стороны, нужно постоянно учитывать его сильные и слабые стороны: если его привлекает добыча, я буду «заманивать» его, если его силы расстроены, я воспользуюсь и этим, а если он силен, я буду совершенствовать свое оснащение, и т.д. Или еще: если враг отважен, «я буду сеять смуту»; если он осторожен и использует «ползучие» методы, я заставлю его стать легкомысленно отважным, если он в полной силе, я измотаю его и т.д. Потому что в присутствии противника я не стою на месте, но постоянно развиваюсь, я сам не знаю заранее, как я одержу победу. Иными словами (Ли Цюань): «Стратегия не знает предзаданных определений»; «она выбирает форму в зависимости от потенциала ситуации».
Вернемся в Европу. Когда Клаузевиц подводил итоги неудач, с которыми сталкивались теоретики войны, он относил их к трем причинам (О войне, 11, 2): 1. Теоретики войны (западные) имели в виду «постоянные величины», в то время как на войне «все расчеты ведутся в переменных величинах»; 2. Они учитывали только «материальные ценности», «в то время как на войне важны также и духовные и моральные ценности»; 3. Они учитывали активность только одной стороны, «в то время как военное действие покоится на постоянном взаимодействии обоих участников». Мы в свою очередь, констатируем, что концепция стратегии, разработанная в древних китайских трактатах и ставящая во главу угла идею потенциала ситуации, свободна от перечисленных недостатков и выдерживает критику по всем трем пунктам (мы тем самым еще и проверяем, – как бы извне, – верно ли, что эти три признака всегда сопутствуют друг другу и восходят к общей логике): 1. Китайцы рассматривают потенциал ситуации как переменную данность, которая не может быть определена заранее, потому что требует постоянного учета обстановки; 2. Тщательный предварительный анализ, который позволяет уловить этот потенциал, без затруднений учитывает и духовные, и физические факторы (моральный дух войска, обеспечивающий сплоченность армии, ее вооруженность и материальное обеспечение); 3. Реципрокное измерение каждого участника войны – сердцевина того, что составляет потенциал ситуации (что невыгодно для противника, выгодно для меня). Война, как и любой другой процесс, в Китае рассматривается в терминах взаимодействия и полярности.
Следствием сказанного оказывается то, что китайская стратегия избегает отсылок к отношению «теория – практика» (вместо него используется понятие потенциала ситуации, представляющее собой промежуточное звено между предварительным расчетом и возможностью приноравливаться к ситуации). В то же время она не знает неизбежных потерь (утрата практики при создании теории), которые вплоть до наших дней несет Запад с его образом теоретизирования. Клаузевиц хорошо разбирался в этом. Короче: китайской стратегии не приходится иметь дело с «трением», потому что она нацелена против любого плана, составленного заранее, в то время как привходящие обстоятельства – это, наоборот, та сила, которая позволяет имплицитному потенциалу осуществляться и развертываться. Пользуясь привычным инструментарием (теоретическим, техницистским, формализованным), Запад оказался попросту не готов правильно осмыслить характер ведения войны: он не принимал во внимание ничего, кроме побочных явлений (подготовка к войне и материальные данные), и упускал главное («объект, который живет и реагирует», по Клаузевицу). С тех пор остается единственный выход, от которого сам Клаузевиц не может полностью отказаться: ссылаться на случай или на гений. И напротив, ум, воспитанный в китайской традиции, обнаруживает себя как в высшей степени стратегический, о чем свидетельствуют военные трактаты, составленные уже на исходе Древности (в эпоху «Борющихся Царств», V-VI вв. до н. э.). В то же время, этот образ мышления накладывает свой отпечаток на другие области человеческой деятельности, в частности на дипломатию и политику.
3. В самом деле, в действиях советника (придворного) и стратега есть много общего. Любой дипломат, работает ли он за границей, заключая союзы, или внутри страны, стремясь привлечь к своим действиям внимание государя, должен начинать со строгой оценки ситуации – «взвесить» соотношение сил в политическом плане, «тщательно расчитать» с психологической точки зрения внутренние склонности партнеров (Гуйгу-цзы, гл.7, «Чуай»). Расчет соотношения задействованных сил осуществляется посредством некоторых условных правил, которые, призваны очертить ситуацию во всех ее аспектах: определить размеры княжеств, оценить их демографическую мощь, определить их экономический вес и природные богатства. Важно также изучить, кто находится в более благоприятных топографических условиях, у кого успешнее стратегия с точки зрения отношений между государем и министрами. Или еще: оценить, на каких союзников можно рассчитывать, к кому больше тянется народ и кому были бы выгодны потрясения в стране (об этом речь идет также в гл.5 «Фэй цянь»). Отвечая систематически на эти вопросы и сопоставляя полученные данные, политический деятель, советник государя, собирает сведения о наличных действующих факторах, достаточные, чтобы быть уверенным в результате начатой операции (и если он сталкивается с некоторой «неадекватностью», он рассматривает ее как неизбежное следствие того, что он не знал всей ситуации (гл.З, «Нэй цянь»). По отношению к государю оценка должна строиться на знании того, что он любит и что ненавидит: это нужно, чтобы понравиться ему. В случае, когда удается снискать благосклонность государя, можно обращать его действия в свою пользу, руководить им. По отношению к другим людям важно принимать во внимание их разум, способности и настроения, которые можно использовать с целью манипулирования этими людьми.
Здесь тоже нет никакого смысла составлять план или устанавливать какие-то нормы для управления своим поведением, ведь если мы хотим иметь преимущество перед другими и распоряжаться ими по своему усмотрению, то у нас нет другого пути, нежели как подлаживаться к ним, тщательно изучив предварительно все их черты, чтобы использовать их: если я знаю нравственные принципы этого человека, в силу которых он безразличен к богатству, я не могу прельстить его прибылью, но могу, напротив, сыграть на них, чтобы подтолкнуть его на расходы; если он достаточно храбр и пренебрегает опасностями, мне никак не удастся запугать его, но зато по моей воле он может идти навстречу гибели и т.д. (гл.10, «Моу»). В древнем трактате по дипломатии в полном объеме анализируется все это до мельчайших подробностей. Указывается, например, каким образом я, постоянно подлаживаясь к другому, но никогда не напрашиваясь к нему в союзники, и следовательно, никогда не встречая с его стороны ни сопротивления, ни настороженности, смогу постепенно расширить сферу своего влияния и впоследствии управлять этим «другим». В результате бесконечно гибкой дипломатии я сопровождаю его везде и всюду; никоим образом не перегибая палку, я становлюсь необходимым в конкретной ситуации; ничего заранее не предопределяя, я «модифицирую» свое поведение в соответствии с колебаниями партнера; если он что-то узнает, я «подтверждаю это как правду», если он что-то говорит, я «превозношу это как самое важное», если в его власти что-то осуществить, я делаю так, чтобы это осуществилось; если он к чему-то испытывает отвращение, я «приспосабливаюсь», если же он боится, я «ухожу в сторону» и т.д. Другой, таким образом, развивается как бы находясь в состоянии постоянного согласия с окружающей средой (со мной), от чего он лишается нужных средств к самостоятельному существованию и начинает повиноваться моим приказаниям.
По отношению к другому (и это особенно важно, если этот другой - государь) я, не спуская с него с глаз, не иду на риск, ничего заранее не планирую и не навязываю, но так тонко чувствую обстоятельства, что они всякий раз дают мне повод для извлечения выгоды. И чем больше я даю себе волю, чем больше отдаюсь на волю обстоятельств, тем ощутимее мое превосходство. На этот счет можно привести образ мудреца: он «вращается», как шарик, и все время ищет то, что «адекватно», не зацикливаясь ни на каком плане, не увязая ни в каком проекте. Он проводит «бездонную» стратегию, «неизмеримую» для других, «неисчерпаемую» для него самого. Подобные размышления о дипломатии снова логично подводят нас к идее потенциала ситуации (то же понятие ши). Потому что сила власти, которую я обретаю над другим, обязана своим появлением не моим усилиям, ни тем более удаче (оба эти фактора не работают), а просто-напросто способу, которым я умею добиваться успеха в любом деле: я опираюсь на основополагающие факторы, вычлененные мною в ситуации и работающие на меня. В этой области формула: «нужно установить потенциал ситуации, чтобы управлять вещами» (гл.5, «Фэй цянь») играет такую же решающую роль, как и в военном искусстве. А чтобы установить этот потенциал, вначале следует, как мы уже видели, самым тщательным образом оценить ситуацию (в дипломатическом контексте: выявить своих сторонников, изучить их мнение, послушать, что говорится «внутри» и «снаружи» и т.д.). И результатом такого потенциала, накопленного всем ходом развития ситуации, будет четко сформулированныйвывод: такой-то политический деятель обречен на успех и превосходство (глава: «Бэньцзин инь-фу).
Ибо потенциал – это и есть то, что отделяет «успех» от «провала»; это тот фактор, который силой своей «власти» влияет на весь ход развития. Мы, таким образом, возвращаемся к примеру с камнями, которые катятся с вершины горы, и делаем вывод: «потенциал ситуации приводит к тому, что реальная действительность не может оставаться такой, какая есть»: есть дипломатическая конфигурация, точно так же, как есть стратегическая конфигурация, и объективные условия, которыми они управляются, также являются предопределенными.
4. Представим себе теперь потенциал ситуации в рамках определенной социальной и политической организации: он выражается в позиции силы (ши), власти, в то время как разность уровней, обеспечивающая эффект (вспомним камни, лавиной несущиеся со склона), соотносится с иерархичностью.
Потенциал создает «уклон» для подчинения, от него зависит предпринятое нами восхождение: используя свое положение «сверху», мы добиваемся возможности быть услышанными своими подчиненными. Это не зависит ни от достоинств личности, ни от прилагаемых усилий, ни даже от стремления быть услышанным. Это не зависит даже от того, вкладываем ли мы все наши силы в это одно дело или же разбрасываемся. Склонность к подчинению вытекает исключительно из занимаемого положения. Короче говоря, не личность, а место обеспечивает эффект.
Таким «местом по преимуществу», местом, создающим авторитет, является престол государя. Вот почему в связи с понятием «сильной позиции» в китайской мысли конца периода древности зарождается стремление превратить престол как таковой в источник абсолютной власти. Но обосновывается это совершенно иначе, чем это могло бы показаться со стороны, совсем не так, как эту же идею формулировали другие мыслители в Китае, например конфуцианцы с их отсылками к трансцендентности, рассуждениями о божественной воле, и уж вовсе не исходя из общественного договора, призванного привести к общему порядку, – а только ради эффективности как таковой. Порядок во всей империи обеспечивается достаточной силой власти монарха, которой он наделен в силу своего высокого положения: всего лишь естественная склонность чисто объективного характера, вместо той случайной данности, которую представляет собой человек с его ценностями. Защитники такой авторитарной власти, очень неудачно названные «законниками», «легистами» (их концепция совершенно не соответствует нашим представлениям о законе, за которыми они видели только власть, но не право), пытались заблокировать потенциал ситуации, сосредоточить его в позиции одного человека, одиноко стоящего на вершине, – монарха, и тем самым преобразовать политические отношения в духе чистой идеи власти. Разноуровневость, иерархичность, определяющая потенциал, сохраняется, но опорная ситуация, находя свой эпицентр в фигуре государя, становится неподвижной. В высшей степени подвижная, она останавливается в одном исключительном месте: народ возносит своего князя, как будто несет на вершину горы поленья для костра, способного охватить всю вершину (Хань Фэй-цзы, гл.14, «Гун мин»).
Как мыслится тот командный пункт, откуда исходит безграничная подчиняющая мощь? Там, где он воцарился, монарх держит две «рукояти»: одна для наград, другая для наказаний (и те, и другие четко маркированы в соответствии со строгими нормами – фа, которые известны всем и применяются регулярно). Уже сами по себе эти два рычага, страх и выгода, вместе составляют достаточный инструментарий власти, одновременно стимулирующий и репрессивный, который позволяет государю заставить самое природу человека служить ему (Хань Фэй-цзы, гл.7, «Эр бин»). В то же время защитники авторитарной власти (они же изобретатели тоталитаризма) прекрасно поняли, что самым надежным источником власти над другими людьми является полное знание о них в этом полностью прозрачном мире, в котором подчинение тем сильнее, чем меньше можно скрыть от властей.
Этот взгляд, срывающий все покровы, парализует. Государь строит свою власть как подлинную машину получения информации обо всех и о каждом. У него на вооружении есть отлаженная система «разделения» мнений (позволяющая сталкивать их) и одновременно система «солидаризации» граждан, (круговая порука, предполагающая доносы – Хань Фэй-цзы, гл.48, «Ба цзин»), а также совершенная полицейская техника, строго секретная, в основе деятельности которой лежат параллельная слежка и умышленная дезинформация (понятие ци). Благодаря такой системе усиленного сбора информации и ее тщательнейшей обработки, государь может, не выходя из своих покоев, «все видеть» и «все слышать» (фактически все подданные «видят» и «слышат» лишь для того, чтобы он мог об этом узнать – Хань Фэй-цзы, гл.14). Ему не нужно даже прибегать к силе для подавления недовольства – о малейших проявлениях несогласия ему моментально доносят.
Искусство управлять есть, по сути, не что иное как умение силой привлекать других на свою сторону, и не так, что я сам начинаю хлопотать, а так, что другой заставляет меня заниматься этим для него. В самом деле, можно целиком отдаться своему делу, не покидать дворца, и при этом быть совершенно не на своем месте. А можно и пребывать в бездействии, твердо удерживая в руках бразды правления. Следует признать, что положение монарха требует не личных усилий, а лишь технической организации. Порядок зависит не от физического присутствия какого-то лица, локального и незначительного, а от умения управлять. Положение позволяет осуществлять власть на достаточной глубине и без труда.
С учетом абсолютной эффективности своего положения, государь, когда правит, решает одну-единственную задачу: соблюдать отработанные до автоматизма правила и сохранять неизменной их эффективность. Так как верховенство обеспечивается исключительно силой положения и не приходится рассчитывать на какие-либо чувства любви или привязанности со стороны народа (здесь – в отличие от того патернализма, о котором мечтали конфуцианцы), то позиция государя должна быть защищена от любого вмешательства, покушения, ведь любая другая властная позиция может утверждаться только во вред существующей. При такой трактовке положения государя сам он и его подданные действительно оказываются поставлеными в отношения прямого антагонизма. Вот почему власть оказывается предметом постоянных конфликтов, даже если таковые чаще всего протекают в латентной форме, противопоставляя государя всем прочим субъектам, в первую очередь, знати, министрам и советникам, а также супруге, матери, наложницам, внебрачным детям и, разумеется, сыну-наследнику, поскольку все они будут добиваться того, чтобы государь отдал власть или хотя бы «поделился ею» (Хань Фэй-цзы, гл.48, параграфы 3 и 8).
Теория «сильной позиции» опирается на тонкую психологию «принадлежности», которая oправдывает то, что в дипломатическом искусстве мы нашли как необходимое качество советников и придворных. Она предостерегает монарха: следует больше всего опасаться тех, кто как бы угадывает все его желания и действует всегда заодно с ним. Ибо, оказывая им доверие, он тем самым позволяет, чтобы такие подданные исподволь раскачали его и скатили вниз. Речь идет не о свержении монархии – такая мысль никогда не приходила в голову китайцам – но об узурпации власти, о том, чтобы просто занять место того, кто раньше восседал на престоле (и такая замена происходит легко, тем более что не приходится учитывать ни личной ценности, ни личного вклада того человека, кто до сих пор являлся олицетворением власти). Другой рекомендацией для монарха является то, как надо пользоваться своим положением: все должно развиваться своим чередом, государю не следует вмешиваться в ход функционирования механизма власти, даже со своими добрыми намерениями или выдающимися доблестями. Только бы аппарат его власти работал нормально – и всеобщее подчинение будет обеспечено. Напротив, допуская всякого рода случайности (пусть и из добрых побуждений) или делая исключения (нарушая регулярность нормы), стремясь проявить снисходительность или благородство, государь с неизбежностью становится источником нарушения нормального функционирования власти, всего того, что работало бы без сбоя без его вмешательства. В общем, усматривая во власти государя не что иное, как чистое средство для поддержания его позиции, китайские защитники деспотизма задались целью максимально де-персонифицировать власть (и я думаю, что именно они, не считаясь с китайскими традициями, дальше всех пошли по этому пути). Если авторитет монарха конфуцианского толка держится на его мудрости и проявляется в благотворном влиянии на всех, кто его окружает, то влияние «легистского» владыки полностью базируется на максимальном неравенстве и эффекте потенциала, который из него вытекает.
На самом деле существует два взаимоисключающих критерия власти: либо личная ценность государя, либо занимаемая позиция (Хань Фэй-цзы, гл.40, «Нань ши»); либо мы надеемся на личные качества и, прилагая усилия, добиваемся ненадежных результатов (Хань Фэй-цзы, гл.49, «У ду»), либо опираемся исключительно на силу положения, рассчитывая на то, что она «вывезет», как в случае с драконом, которого несут тучи в небе (Шэнь Дао). При этом издаваемые государем законы неуклонно исполняются (Хань Фэй-цзы, гл.28): с такой же неизбежностью грузы, помещенные на корабль, не могут не плыть по волнам...
При переходе от стратегической концепции (в том виде, в каком она была выработана традицией и осталась актуальной в Китае вплоть до наших дней), к частно-политической концепции видна явная преемственность: мужество или трусость воина держатся на потенциале ситуации точно так же, как подчинение или непокорность подданных (то же самое понятие ши). В обоих случаях объективная обусловленность ситуации важнее качеств, присущих людям, важнее их усилий. Но точно так же, как там, где речь шла о войне и концепция потенциала подразумевала взаимодействие и полярность, а ситуация рассматривалась в ее развитии (эффект, результат ожидались именно от ее развития), так и в случае, когда речь идет об осмыслении власти (и того, как ее максимально увеличить), защитники деспотизма стремятся монополизировать весь потенциал, сосредотачивая его на государевом престоле, и тем самым делают ситуацию неподвижной (отношение «Единственный», «Вечный» – «подданные»), В результате, система оказалась заблокированной и превратилась в недееспособную. Но эффективности она не утратила. Так, в результате скрупулезного следования учению мыслителей-легистов, духовных отцов деспотизма, в 221 до н.э. возникла Великая Китайская империя – она, как известно, стала первой в мире бюрократической империей.
ЦЕЛЬ ИЛИ СЛЕДСТВИЕ
1. В намеченном нами противопоставлении двух путей первый, «европейский» путь создания и воплощения образцов, лежит через противопоставление средства и цели. Когда цель идеально задана, то на следующем этапе мы ищем средств для ее претворения в жизнь (с учетом всего, что может встретиться нам на пути, включая противодействие чуждой воли и силы). Но можно пойти и другим путем: представить себе, что под планом (в смысле «плана действий») мы понимаем всякий разработанный проект, содержащий определенную последовательность операций, служащих средствами для достижения поставленной цели.
Средства и цель: с одной стороны, под рукой у нас есть уже почти готовый к раскрытию веер ресурсов (и инструментов, и опорных точек); а с другой стороны, на горизонте пребывает то, что мы считаем одновременно пределом и целью (telos), к чему мы неустанно идем, на что устремлен наш пристальный взгляд, что влечет нас, заставляет делать усилия и многое обещает взамен. Наличие этих двух уровней, их противопоставление оказывается таким устойчивым и удобным, что мы уже не думаем о них (скорее, мы думаем, исходя из них, но едва ли осознаем их). Функция у них самая общая: с их помощью мы схватываем то действие, от которого ждем эффекта (в самом общем смысле, действовать – это значит применять средства, обеспечивающие достижение поставленной цели; эффективность же обусловлена адекватностью средств поставленной цели). Надо сказать, что даже сегодня те, кто ищет новых моделей в области науки управления, не могут обойтись без этого отношения. Пусть даже придется изменить конфигурацию одного элемента этой пары, пусть придется пойти на крайности (крайняя точка – это когда, например, мы вынуждены признать, что поставленная цель – фикция, но фикция достаточно устойчивая, чтобы имплицировать полезные средства). Можно изменить рамки, заменить одну из сторон, но выйти за эти рамки очень трудно.
Рамки остаются – точнее говоря, остаются границы мысли. Тут-то мы и обнаруживаем – в Китае – такую трактовку эффективности, которая не только исключает любые планы, предписываемые обычному ходу событий, но вовсе не предусматривает поведения, руководствующегося различением средств и цели: эффективность представляется в таком случае не результатом «наложения» модели на реальную жизнь (теория составляется заранее, она должна охватить реальность с тем, чтобы впоследствии быть спроецированной на нее), а скорее, результатом ее «использования» (нужно извлечь пользу из потенциала, заложенного в конкретной ситуации). Перейдя на новые позиции (или хотя бы начав интересоваться ими постольку, поскольку они отличаются от наших), мы не можем не заметить новые перспективы: здесь главные роли отводятся не монтажу, не последовательности заранее разработанных и систематизированных операций и не расстановке опорных вех во времени (пределов, сроков) по программе, соответствующей поставленной цели. Короче говоря, нет ни идеальных рамок, ни заранее размеченных планов, ни «путей», ни даже того, что подразумевают под словом «путь» (дао) в Китае, ибо этот «путь» надо понимать совершенно не так, как у нас понимают «метод» (у нас под «методом» понимают последовательность шагов, которая позволяет прийти к чему-то, – к дао это не относится). Об этом речь пойдет дальше.
Возвращаясь снова (как бы кружным путем) к нашим теоретическим позициям, мы видим, что понятие «рассудительности», которое еще Аристотель представлял как посредничающее между теорией и практикой, оказывается четко определенным: рассудительный – это тот, кто умеет «обдумывать и выбирать» средства, идя к намеченной цели. Давайте посмотрим, как складывается такое умение. Аристотель пользуется аналогией с построением фигур в геометрии: точно так же, как геометр идет от искомой фигуры, используя регрессивный анализ, перебирая ряд необходимых операций в обратном порядке (последний шаг, полученный в результате анализа, оказывается первым с точки зрения генезиса), мы в данном случае идем от постановки цели, чтобы определить затем (тоже путем обратного анализа) ряд средств, которые ведут к достижению этой цели (и при этом последний обнаруженный шаг станет первым, с которого должно начинаться действие). Аристотель полностью отдает себе отчет в том, что модель, заимствованная у математиков, не может быть полностью адекватна, когда речь идет о человеческой деятельности (см. толкование, которое дает Пьер Обенк в своем эссе о «рассудительности»): 1. В отличие от математической обратимости, позволяющей с одинаковым успехом «прокручивать» серию шагов как вперед, так и назад, человеческая деятельность развивается в необратимом времени, и поскольку ее нельзя проверить иначе, как на опыте, инструментальная причина, совокупность выбранных средств, всегда остается только гипотетической; 2. Всегда остается опасность появления непредвиденных обстоятельств между выбранным средством достижения цели и самой целью, которые могут стать препятствием на пути эффекта, ожидаемого от избранных средств, и даже сделать недосягаемой самое поставленную цель; 3. Вследствие относительной автономии средства по отношению к цели может оказаться, что средство, порождая волну причин и последствий, рискует выйти за пределы искомой цели (аристотелевский пример такой причинной связи, непредумышленной и не-предзаданной: когда лекарство, вместо того, чтобы вылечить, случайно убивает больного).
Можно сказать, что мы, европейцы, действуем по общепринятому образцу: отталкиваемся от идеальной модели, заимствованной, как правило, у математиков, а затем рассматриваем, насколько практика отличается от нее. Если, например, в медицине или при управлении денежными делами нельзя полностью полагаться на математическую модель, – говорит Аристотель («Никомахова этика», III, 1112b),– то это объясняется тем, что здесь нам предоставляется множество возможных средств, которые в силу самой своей множественности не являются неизбежными; только сопоставляя и сравнивая эти возможные средства, мы можем отыскать и определить, которое из них будет самым быстрым и самым лучшим. Если для математика существует, как правило, только одно решение, и выбор средств для решения задачи в математике, как и в грамматике, определяется ни чем иным, как мерой незнания, в человеческих делах перед нами оказывается множество соперничающих возможностей, и мы не знаем, к какому результату приведет каждая из них. Таким образом, выбор средств не может опираться на рекомендации науки. Но, с другой стороны, он не может также полагаться и на «небо» (на Бога). И тем более он не может основываться на необходимости или полагаться на случай; вот почему его границы лежат в пределах приблизительного знания, «мнения», которое лишь сравнивает эффективность разных возможных средств и никогда не застраховано от провала.
Разрыв между целью и средствами возрастает еще и в силу того, что они отсылают нас к двум разным возможностям. С одной стороны, воля, понимаемая как способность стремиться к благу, желать добра (boulesis), фиксирует желаемую цель (которая может, кстати, остаться всего лишь благим пожеланием). С другой стороны, наша способность выбирать (proairesis) уже после определения цели подталкивает нас к отысканию самого адекватного средства (эта способность направлена исключительно на возможный результат и учитывает сопутствующие обстоятельства и возможные препятствия). Целесообразно рассматривать эти два вопроса раздельно: вопрос о качестве цели, о рамках нравственного порядка, и вопрос об эффективности средств ее достижения, главным образом – средств технического плана (с точки зрения этики – нейтральных); об этом свидетельствуют искусство медицины, искусство ведения войны и даже искусство гимнастики. Рассуждать о благоприятных обстоятельствах для ведения войны – это совсем другое, нежели думать о том, справедлива эта война или нет («Евдемова этика», 1227а).Итак, Аристотель приходит к заключению, что существует не одна, а две области, где зарождается «умение действовать хорошо»: одна состоит в том, что нужно правильно поставить цель (telos), которая будет объектом стремления (skopos), а другая – в обнаружении средств, ведущих к цели. Возможны два варианта: цель и средства могут пребывать как в согласии между собой, так и в противоборстве. Аристотель говорит о согласии, «симфонии»: бывает, что цель хороша, но когда приступают к практическому ее осуществлению, выясняется, что не хватает средств для ее достижения; бывает и так, что нашлись подходящие средства, но сама цель нехороша. Если последователи Платона были озабочены лишь совершенством цели (кульминация этого – прекраснейшая цель, идея блага), и, следовательно, рассматривали применение соответствующих средств не иначе как в прямом подчинении целям познания, то Аристотель уже не верит, что средства с легкостью вытекают из идеи; он проблематизирует ситуацию применения этих средств. Ибо если действие проистекает из добрых намерений, это еще не означает, что оно достойно похвалы: надо еще, чтобы оно приводило к хорошим результатам. Между тем, действовать, входить во взаимодействие с природой вещей во всей ее неопределенности весьма опасно.
2. Размышляя о войне, Клаузевиц, как представляется, тоже не сумел выйти за рамки противопоставления средств и цели. Его формулировки носят самый общий характер: «Теория должна заниматься рассмотрением природы средств и целей» (О войне, 11, 2). С позиций тактики средства – это войска, ведущие бой, а цель – победоносное завершение войны (кампании). Известно также, что тактический успех с точки зрения стратегии сам по себе есть не более чем средство; конечная цель – навязать противнику свои условия мира. Когда война как таковая подходит к своему завершению, это лишь средство, а политика – конечная цель: такое чередование средств и целей обуславливает их тесное единство. И вплоть до того момента, пока конечная цель не будет достигнута (ср. разницу между Ziel и Zweck). [5 Оба слова – и Ziel, и Zweck – по-немецки имеют значение «цель»; в данном случае они противопоставляются как «всеобщая», «стратегическая», «конечная цель» и «частная», «тактическая» «промежуточная цель» – Ред.] Всякая частная цель, подчиняясь более общей, служит лишь средством по отношению к ней. Что касается «плана войны», то он составляется, собственно говоря, ретроспективно: мы как бы перебираем цепочку событий от конца к началу. Клаузевиц повторяет старую самоочевидную истину: каким бы тонким и подробным ни был анализ, будь он даже настолько глубок, что постиг бы собственные неустранимые трудности, эффективность в военных делах, как и во всех прочих, не может быть ничем иным, как «умением организовать войну в точном соответствии со средствами, которыми мы располагаем, и целями, которые мы преследуем, не допуская и того, чтобы их было слишком много или слишком мало». Доказательством тому может служить стратегическое искусство Фридриха II, достойное восхищения потому, что он сумел сделать «именно то, что следовало бы сделать, и добился цели». В противоложность Карлу XII или даже Наполеону он оказывается наилучшим стратегом потому, что именно он добился максимальных результатов за счет наименьших затрат. В молодости Клаузевиц даже сочинил по этому поводу афоризм – удобную «максиму» в духе кантианского образа мышления. В ней учитывается лишь сама эффективность, а моральная сторона дела полностью исключена: «Стремись к самой важной цели, к решающей цели, какую только ты почувствуешь себя в силах достичь; выбери для достижения этой цели самый короткий путь, какой ты почувствуешь себя в силах одолеть».
То, что предлагается нам в качестве перспективы и правила для достижения эффективности, может быть проверено с точки зрения ретроспективы, обратным путем. Следует иметь в виду, что речь идет не о предстоящих боях, а об извлечении уроков из ведения боевых действий в прошлом.
«Критика» в военном деле не имеет другой задачи, как «поставить под сомнение использованные средства» и дать им оценку. Клаузевиц учит: чтобы сделать теоретическое обобщение, достаточно знать, «каков эффект использованных средств» и «входило ли применение этих средств в намерения действующего лица». Тут-то, однако, и начинается общая путаница – как раз с того момента, как начинается критика: дело в том, что отношение «средства – цель», которым, как казалось, мы так хорошо овладели и которое было предзадано нам как очевидное, снова противоречит теории. Прежде всего потому, что ни одно средство, очевидно, никогда не бывает полностью изолировано от целого, для которого оно служит; следовательно, наш анализ никогда не исчерпывает его до конца, а значит, никак не может его полностью идентифицировать. Точно так же всякая причина, как бы мала она ни была, «простирает свое влияние вплоть до окончания военных действий», «изменяя до определенной степени конечный результат, какой бы незначительной она ни была»; точно так же и «каждое средство будет производить свой эффект вплоть до достижения искомой цели». По мере того, как такого рода причины распространяются и усложняют положение дел, влияние наших средств ослабевает и преобразуется настолько, что его уже становится невозможно измерить. К тому же критический анализ, по сути, не должен сводиться только к анализу использованных средств; следует охватить, хотя бы в порядке сравнения, «все возможные средства», чтобы классифицировать их и, быть может, взять на вооружение. Клаузевиц идет дальше и утверждает следующее: так как анализа реально совершившихся событий недостаточно, необходима оценка возможного, а она требует от критиков (и даже от военных!) больших способностей к «инициативе» и «творчеству»... Но в таком случае трудно претендовать на то, что мы в самом деле занимаем позицию действующих лиц, способных хвалить или осуждать поступки других.
При ближайшем рассмотрении вопроса оказывается, что отношение «средства – цель» на самом деле представляет такие же трудности, как и причинная связь, с которой оно глубоко родственно. Все то, что мы узнаем с помощью «критического», «ретроспективного» и «теоретического» анализа, с необходимостью отражается в практической ситуации, в которой индивидуум выбирает средства, чтобы добиться поставленной цели. Возникает вопрос: бывает ли так на самом деле, что оказавшись в гуще событий, неизбежно сложных и постоянно развивающихся, мы можем выбирать средства, достаточно ясные и отчетливые (подобно идеям), эффект которых возможно предусмотреть, что и делает их объектами, подлежащими сравнению и выбору? Недостаточно считать (вслед за Аристотелем), что средства, используемые для нашего действия, всегда в большей или меньшей степени недостаточны. Необходимо понять, что «выбор» как таковой, тот выбор, на который опирается «рассудительность», освещающая «подбор средств», становится от этого несколько призрачным. Иначе говоря, такое «прощупывание» подходящих средств на расстоянии, проекция их на будущее, своего рода предвосхищение конечной цели, – не является ли оно всегда – решимся на такое слово! – до некоторой степени магией?
Тем более уместно посмотреть, почему китайские мыслители, развивая концепцию эффективности, не замечают всех этих трудностей (взамен, разумеется, возникают другие трудности; я не жду от китайских мудрецов решения всех проблем, с которыми встретились теоретики на Западе; просто благодаря столь существенному расхождению между двумя традициями оказывается возможным лучше увидеть причины появления этих трудностей у нас). Вместо того, чтобы разрабатывать план, проецируемый на будущее, ведущий к поставленной цели, а затем определять цепочку действий, наиболее подходящих для его реализации, китайский стратег, как мы могли видеть, исходит из тщательной оценки соотношения задействованных сил, стремится выявить положительные факторы, заложенные в ситуации, и постоянно опирается на них по ходу развития ситуации в реальных обстоятельствах. Известно, что обстоятельства часто бывают непредвиденными, и их действительно невозможно заранее учесть, ни даже хорошо узнать, – а значит, план нельзя составить заранее; но в обстоятельствах содержится некий потенциал, которым мы можем воспользоваться благодаря нашей гибкости и открытости. Вот почему китайский стратег ничего не проектирует и не конструирует. Он не «выбираем средств, ибо ему не нужно «предпочесть» какое-то одно (среди возможных средств).
Отсюда следует, что у стратега вообще нет своей «цели», намеченной заранее, на расстоянии, как некоторого рода идеал: он все время извлекает пользу из развития ситуации, и главное для него – достижение успеха. Говоря точнее, вся его стратегия состоит в том, чтобы содействовать развитию ситуации таким образом, чтобы эффект как бы сам себя обеспечивал и был бы при этом обусловлен извне. Как мы уже могли видеть, это может быть изматывание и парализация воли противника (так что, когда сражение начинается, он уже отказывается вести бой); или же наоборот, доведение своих собственных войск до такого состояния, которое кажется им безвыходным, «гиблым», когда люди просто будут вынуждены стоять насмерть, так как отступать некуда (Сунь-цзы, гл. II, «Цзю ди»). «Дойдя до такой глубины опасности, они уже больше не ощущают страха»; «не зная больше, куда деваться, они отчаянно сопротивляются»; «не имея возможности поступать иначе, они храбро сражаются». В ситуации, как только она начинает разворачиваться, уже заложен результат: «Приказов ждут и никого не приходится принуждать к их исполнению»; «люди сплочены и без того, чтобы им командовали «сомкнуться»»; «командовать, собственно, и не нужно, – люди ждут команд и подчиняются».
Сколько бы мы ни настаивали на осознанном и доказательном характере избранных средств, мы все же понимаем, что вся конструкция, все строительные леса, устремленные ввысь, но грозящие в любую минуту обрушиться, могут подвести нас. Китайские же мыслители настаивают на законности ожидаемого результата. Наши средства, выступая объектом монтажа и оказывая давление на ход событий с тем, чтобы что-то случилось и реализовалась намеченная цель, всегда выглядят несколько искусственными. У китайцев же эффект словно сам по себе вытекает из ситуации без всякого внешнего воздействия, как только ситуация сама к нему приближается. Ведь если потенциал задействован, то мы оказываемся в сильной ситуации (выше мы говорили о сильной позиции): Формулировать можно поразному, но идея одна: «Ситуация приводит к тому, что иначе быть не может»; «все совершается, без того, чтобы к этому стремились». Посадите злейших врагов на один корабль, и как только начнется сильная буря, вы увидите, как дружно они работают перед лицом ненастья, – так слаженно у нас работают две руки. Точно так же сотрудничество в пределах одной армии должно зарождаться в ситуации общей опасности, которой подвергаются люди (Сунь-цзы, там же). Как было замечено, стратег, собираясь заставить людей оказывать сопротивление и помешать их бегству, не прибегает к материальным средствам (вроде спутанных лошадей или разрушенных дорог, как в свое время в Европе на линии Мажино), а довольствуется тем, что позволяет развиваться ситуации, в которую они попали. Потому что ситуация, принятая такой, как есть, не оставляет другой возможности, другого выхода, – придется пройти через нее.
Отсюда два вида эффективности, соотносящиеся с двумя конкурирующими логиками: наряду с отношением «средства» и «цели», которое нам ближе всего, существует отношение «условие – следствие», которому большое внимание уделяют китайцы. С тех пор, как сутью стратегии стали считать способность направлять ситуацию, а самому плыть по ее волнам и ждать, когда накопленный потенциал выльется в результат, – с этих пор стало не нужно больше ни выбирать средства, ни прилагать усилия для достижения цели. От логики создания образцов (опирающейся на определенную конструкцию формы-цели) мыпереходим к логике процесса (цзе, «получается, что» – важный момент китайского стратегического дискурса): с одной стороны, открыта система причинности, состоящая из бесконечных комбинаций, а с другой стороны, процесс замкнут, результат имплицирован внутри самого развития.
3. Расхождение в логиках можно определить, исходя из полученного успеха: гипотетического в одном случае и неизбежного – в другом. Ибо у греков мысль, родившаяся из эпоса и обретшая свои формы в трагедии, очень чувствительна к опасностям, которым подвержена человеческая деятельность. Стратег вступает в битву, как кормчий выходит в открытое море, – и тот, и другой действуют в постоянно меняющейся среде, где встречается множество непредвиденного. Они никогда до конца не уверены в том, что смогут одолеть противника или вернуться в родную гавань: всегда возможны резкие и неожиданные перемены в боевой обстановке, смена погоды на море. В повествованиях часто описываются «перепады», перипетии, носящие драматический характер. Вот почему герою для того, чтобы преуспеть, чаще всего нужно, чтобы кто-то стоял с ним рядом и приходил на помощь. Как бы хитроумны ни были ахейцы под Троей, какими бы изощренными средствами они ни пользовались, они никогда не смогли бы добиться победы без помощи богов; бороздя «неукротимые волны», истерзанный ураганами и обреченный на кораблекрушение, Одиссей сгинул бы, если бы его не выручала Афина. Даже в классическую эпоху греческие трактаты о стратегии всегда давали совет обращаться к божеству как к последнему шансу на спасение: «Помни, что все люди, решаясь на какой-то поступок, руководствуются исключительно догадками, не имея ни малейшего представления о том, какое из возможных средств повернется им на пользу», – говорит старый царь своему сыну («Киропедия», 1, 6). Вот почему, идет ли речь о том, чтобы победить врага силой или хитростью, «я советую, чтобы ничего не делалось без помощи богов» (Гиппарх, V).
В рамках греческой рационализации человеческой деятельности Аристотель ставит искусство стратегии рядом с искусством навигации и подчеркивает, что случайное играет здесь такую же роль, как и искусство (мастерство) стратега и кормчего («Евдемова этика», VIII, 2, 1247а): искусство, techne, должно компенсировать «судьбу», tuche, но оно не может полностью ее исключить.
Клаузевиц объяснил, почему на войне нельзя избежать случайности. Дело в том, что реальная война никогда не доходит до состояния абсолюта (то есть полного соответствия модели, концепции); «ей не свойственна математическая строгость», в ней невозможно достичь «логически необходимых» результатов. Многообразие отношений, составляющих канву войны, неопределенный характер границ между ними, порождают огромное количество факторов, которые не представляется возможным оценить с большой точностью; искусство войны связано, как известно, «с живыми нравственными силами», а их невозможно определить с такой же достоверностью, как физические эффекты. «Вокруг каждой ниточки, толстой или тонкой», из которых соткана основа, плетется сложная ткань возможностей, «которая превращает войну в человеческую деятельность, больше всего похожую на карточную игру»: вот почему она притягивает и вдохновляет нас, несмотря на ужас, который ей органически присущ, и не устает потрясать нас своей радикальной непредсказуемостью, недоступностью расчетам. Объективно мы не можем избежать в ней элемента случайности; всякое действующее лицо постоянно оказывается «перед реальностью, отличной от ожидаемой»; она не может исключить «сомнений» относительно намеченного плана, и чтобы придерживаться этого плана, ей нужна воля. Стратег, в лучшем случае, работает в области вероятного; «чтобы получить хоть какую-то долю уверенности, нужно довериться судьбе или случаю, – называй, как хочешь».
Там, где в западной теории обнаруживается зияющий провал, в древних китайских трактатах содержится нечто такое, что способно удивить нас глубиной обоснования, аргументацией, исходящей из неопределенности и случайности. Кто умеет опираться на потенциал ситуации, «неизбежно побеждает в бою» (Сунь-цзы, гл., 4, «Син»). Победу «не удается сбить с ее пути: это означает, что все действия стратега «с неизбежностью ведут к успеху». Согласно толкованиям, здесь невозможны ни «расхождения» (Чжан Ю), ни «два» пути развития (Ли Цюань; вспомним «добродетель», которая идет «кружным путем»: Лао-цзы, 28). Исход сражения, в силу развития соотношения сил, оказывается предопределенным еще до того, как оно началось. В самом деле, как объясняет один из комментаторов, «если войска идут к победе, надеясь на свою силу», то есть вкладывая в битву только свои физические возможности, они «всегда рискуют» в какой-то момент «потерпеть поражение». Но мудрый стратег скользит по течению, он умеет пользоваться факторами, которые работают на него, чтобы придать событиям, ситуации выгодное ему направление еще до того, как они начнут претворяться в жизнь. Когда потенциал ситуации оказывается полностью на его стороне, он начинает решающее сражение и успех ему гарантирован.
Объяснение этого явления предельно просто: как говорится далее в цитируемом трактате, искусный стратег побеждает потому, что «враг уже побежден». Победа предопределена заранее и неизбежна, потому что она имплицирована соотношением сил даже раньше, чем эти силы будут задействованы. Это отлично передает следующая формула: «Дело в том, что победоносные войска сначала достигают победы, а затем стремятся развязать сражение, в то время как побежденные начинают с того, что завязывают бой, и уже в бою стремятся победить». Эта максима может показаться парадоксальной, но на самом деле она лишь проливает свет на то неравенство сил, которое с необходимой силой проявляется в поведении противоборствующих сторон в ходе развития антагонистических отношений; она указывает на источник успеха. Войска, которые, едва завязав бой, начинают бороться за победу, заранее обречены на поражение. Потому что (и это вполне понятно) сражение уже представляет собой некий результат, глубокий анализ которого позволяет выявить ту естественную склонность, которая была имплицирована в ситуации задолго до того, как дело дошло до сражения. Эта склонность предопределяет судьбу победителя до того, как он ввяжется в бой.
Эта мысль может показаться тавтологичной и слишком банальной: «если я хорошо знаю другого и хорошо знаю самого себя, мне нечего бояться вступать и в сотню сражений» (Сунь-цзы, гл. 3, «Моу гун»). Но китайская стратегия предельно строго осмысляет эту идею, разбирает все ее следствия до конца и обнаруживает в ее глубине некоторую очевидность. Как и ход любого другого процесса, ход войны зависит исключительно от факторов, которые введены в действие: если я хорошо знаю реальное соотношение сил между мной и противником, я всегда смогу отказаться от борьбы, когда соотношние сил окажется не в мою пользу. Всякая стратегия строится, таким образом, на том, чтобы систематически получать информацию (отсюда – важная роль шпионажа во всех его возможных видах и категориях агентов, которые очень тщательно классифицируются как «резиденты», «диверсанты», «двойные агенты» и т.д. См. Сунь-цзы, гл. 13, «Юн цзянь»). Далее идет оценка информации: следует «оценить» – «измерить» – «рассчитать» – «взвесить», чтобы обнаруженная разность показала, что баланс резко склоняется к одной стороне (Сунь-цзы, гл. 4). Всякий раз подчеркивается, что войска победителя – это как многопудовая громада по сравнению с перышком (ср. Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»). Накапливая потенциал, стратег увеличивает неравновесие сил, и когда он начинает сражение, ему остается только реализовать потенциал сложившейся ситуации.
В свете таких рассуждений война уже не представляет собой чего-то таинственного или неопределимого. Она сведена к логике процесса, развивающегося исходя из взаимодействия противоположных (взаимоисключающих и взаимодополняющих) сил: двух противников – таким образом, их соотношение становится вполне когерентным. В бою, следовательно, не остается места неопределенности или случайности, он не поддается никакому внешнему предопределению – велению Бога или судьбы. «Небо» в трактатах китайских стратегов – не более чем метеорологическая или климатическая категория; перед нами концепция, по своей сути чисто натуралистическая, и небо естественным образом учитывается в ней как один из факторов при оценке соотношения задействованных сил и не более того (Сунь-цзы, гл. 1, «Цзи»). В случае поражения никому никогда не придет в голову ссылаться на «гнев небес»: виною всему всегда будет ошибка полководца (Сунь-цзы, гл. 10, «Ди син»). Что касается предварительных сведений, которые нужны стратегу, чтобы начать сражение, то он и не думает получать их от «духов», а пользуется данными своей разведки. Тому же мыслителю приписывают лапидарную формулу: «запретить предсказания и избегать колебаний» (Сунь-цзы, гл. 11, «Цзю ди»). Стратег не просто отбрасывает все гадания, естественные накануне сражения, которым так доверяла вся наша европейская античность; он не допускает даже малейшего сомнения (а ведь сомнение всегда терзает любого полководца, когда тот, составив план сражения, начинает приводить его в действие, – читаем мы у Клаузевица). Все эти рассуждения пронизывает одна модальность: то, что делается «одним ударом», не может не случиться и не дать результатов (если, разумеется, обеспечены соответствующие условия), оно «неотвратимо» (би). Идея «неотвратимости» хода вещей и естественной гарантии успеха (для того, кто умеет им пользоваться) пронизывает все учение китайцев. Такой мыслитель, как Мэн-цзы, в целом занимающий явно прямо противоположную этим стратегическим тезисам позицию, убежденный, что власть государя опирается не на соотношение сил и, следовательно, не на искусство вести войну, а на авторитет, имеющий нравственные основания, так же не отходит от логики временной последовательности. Тут скорее сама нравственность выступает как особая сила, тем более могущественная, что она держится на влечении и на влиянии, оказываемом без насилия. Заботьтесь о своем народе, радуйтесь вместе с ним, говорит государю Мэн-цзы, и вы постепенно обязательно станете самым сильным из всех государей, потому что все народы сами захотят жить под вашей властью, они сами распахнут перед вами свои двери и не смогут ни в чем противиться вам. Силой нельзя ничего добиться, а можно только проиграть, ведь срок пребывания у власти ограничен, а высокий сан порождает соперников. Но достаточно опереться на естественную склонность, обусловленную властью, чтобы люди сами привели вас к славе и триумфу (Мэн-цзы, 1, А, 7). Такое заключение можно перенести из стратегии в другие области, даже если исходные позиции прямо противоположны (нравственные ценности – против личного благополучия). Вам не нужно даже «стремиться» к результату – эффект появляется сам как следствие отражения благоприятных обстоятельств, он естественно из них вытекает и становится «неизбежным». Вся китайская философия эффективности, каковы бы ни были ее идеологические мотивы, проявляется в следующем: «вернуться» к основам основ [12], к «началу», иначе говоря, к исходной точке, к тому, что, будучи условием, перенесенное на эволюцию событий, начнет соответствующим образом последовательно саморазвиваться без внешнего влияния. Таким образом, в отношениях, построенных по схеме «средство – цель», (??) эффект не только возможен, но и становится «неотвратимым» при продолжении спонтанного развития.
Мы видим, что расхождение между всеми этими средствами для достижения эффективности слишком велико, чтобы не подверстываться под более общее различие. Оценка и выбор, лежащие в исходной точке отношения «средство – цель», – это прежде всего основа той социальной и политической процедуры, которая продвинула так далеко вперед греческий мир и которую он сделал своим главным институтом (от совета старейшин в гомеровские времена до демократическогоголосования в народном собрании). Попутно выбор интериоризируется и превращается в «начало будущего» (arche ton estomenon), где человек осуществляет свои поступки. Что касается Китая, то он никогда не поощрял выбора в своей политической жизни; он выработал свое видение мира, и у истоков эффективности здесь находится не действие как изолированный акт, а некий способ преобразования.
ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
1. Что на же самом деле может считаться достаточной характеристикой человеческого поведения, – самостоятельной и полностью независимой от всякого контекста, существующей и до начала собственно действий, и после их завершения? Что можно было бы выделить в качестве основы нашего существования? Существует ли в чистом виде такая реальность, которую мы в состоянии были бы очертить и отождествить как «действие», «деятельность»? Китайские мыслители, надо полагать, затруднились бы с ответом на этот вопрос: они рассматривали человеческое поведение, как и любой другой ход событий, в терминах процесса, размеренного и непрерывного. Ход развития природы или человеческого поведения (тяньсин – жэнь-син), человеческое дао и дао мира – основа у них одна и она непрерывна. Рассмотрение действия предполагает умение занять две позиции: представить себе человеческое поведение как явление специфическое (ergon, praxis; здесь техническая модель производства снова служит образцом) и воспринять действие как отдельную единицу, которую можно выделить и которая могла бы служить базовой для человеческого поведения.
Точно так же обстоят дела, когда речь заходит о том, чтобы осмыслить войну. Клаузевиц воспринимает ее как некий акт: это то, что он называет «боевыми действиями». Мы уже видели стратегию, рассматриваемую как «план», где план определяется «целью», но в основе всего лежит всетаки действие, предоставляющее «средства».
Такое действие, заданное планом и ведущее к цели, на войне соответствует вступлению в бой, и именно исходя из единства этого действия можно анализировать происходящее: мы получаем «тактику» как теорию, занимающуюся использованием вооруженных сил в военных действиях. Тактика относится к «форме», в то время как стратегия – к «содержанию». Следовательно, заключает Клаузевиц, существует «единственный способ видеть происходящее», состоящий в том, чтобы знать, каким будет в каждый момент войны или военной кампании возможный результат открытия огня противником. Именно здесь в рассуждениях Клаузевица скрывается главная тонкость – но, может быть, как раз в этом месте его мысль выходит за предусмотренные рамки и оказывается наиболее уязвимой. С того момента как в расчет начинают принимать открытие огня, в котором раньше могли видеть лишь возможное действие, оно начнет оказывать решающее влияние на последующий ход событий. В конечном счете ведь может случиться и так, что боевые действия не состоялись, но оказались важны их последствия – ибо эти последствия реальны и их надо принимать в расчет.
Во всяком случае, только такое действие, как вступление в бой, может, по-видимому, обеспечить «истинную эффективность», реализуясь в качестве «прямого эффекта» и достигая того, что является целью. У Клаузевица не остается ни тени сомнений насчет природы этого эффекта: на войне начало боевых действий не может означать ничего, кроме стремления уничтожить противника. Клаузевиц, как мы видим, в действительности принадлежит к той плеяде традиционных теоретиков войны, которые верят, что все начинается с движущихся друг на друга боевых порядков, как это было еще в античности (вообразим столкновение фаланг, идущих одна на другую сомкнутыми рядами); при жизни Клаузевица недосягаемых высот в этом деле достиг Наполеон (вспомним Аустерлиц). Именно на этой основе Клаузевиц строит свою теорию: единственная цель борьбы – уничтожить врага (см. «О войне», 1,2: «Уничтожение сил противника всегда является наилучшим средством, вершиной, самым эффективным действием, перед чем все остальное меркнет»). В древнем китайском трактате дается прямо противоположная рекомендация. Одна из его первых глав открывается следующим постулатом: «Вообще на войне лучше сохранить страну противника без разрушений, разгромить ее – это наихудший поворот событий» (Сунь-цзы, гл. 3, «Моу гун»). Тот же принцип сохраняет силу при проведении боевых действий в любых масштабах: «Сохранить нетронутой армию противника лучше, чем уничтожить ее». Точно так же обстоит дело, подчеркивают стратеги для большей ясности, и на уровне любого, даже самого маленького пехотного подразделения. Это делает еще более очевидным противоположность двух мнений, европейского и китайского: «Те, кто хорошо разбирается в военном деле, подчиняют себе армию противника, не начиная сражения; они занимают города без штурма и побеждают противника без больших затрат времени. Весь мир нужно побеждать без сильных разрушительных ударов, оставляя его неповрежденным; только так оружие не тупится, а успех достигается наибольший». Как резюмирует один из комментаторов (Ли Цюань), нет такой ценности, которую следовало бы уничтожить. Лучше привлечь на свою сторону силы противника, чем истреблять их. Углубившись на территорию противника, отрезав его от его баз, нарушив связь, можно заставить его сдаться, – он сам признает свое поражение. Когда я занимаю страну противника, «я сохраняю без потерь свою армию», а экономический эффект оказывается максимальным. Следовательно, здесь нет никакого парадокса. Оставим в стороне всякие кривотолки: мы избегаем массового уничтожения противника не из-за душевной доброты, а потому что стремимся к эффективности. Если цель войны, рассматриваемой с позиций боевых действий, – это уничтожение противника, то с точки зрения трансформации, эта цель выглядит как не-разрушение и не-уничтожение.
Начинает вырисовываться противоположная точка зрения, к которой мы будем постоянно возвращаться: эффективность действий – прямая (от средств к цели), но это дорого и рискованно; эффективность преобразования носит косвенный характер (от условия – к следствию), но постепенно она становится неотвратимой. Самое лучшее, что может быть на войне, уточняет китайский классик, – «атаковать противника в его стратегии», потом «в его союзниках» (или «когда армии соединяются»), а потом уже «ударить по войскам» и, наконец, «по плацдарму». Начать (непосредственно) осадную войну – это самое худшее, что может быть, потому что тогда войска как бы увязают в войне, и наши силы оказываются поставлены под удар. С точки зрения стратегии, такое неподвижное противостояние дает нулевые результаты. Стратегия состоит в том, чтобы нанести удар по противнику в его «мозговом центре», а не по его физическим силам, – говорят древние комментаторы. Дело в том, что мало-помалу деморализовавшийся враг сам сдастся, он будет побежден без сопротивления, только потому, что его сопротивление парализовано, а не потому, что силы были «введены в бой».
Понятие «вступления в бой» оказалось удобным для Клаузевица еще и вот почему: оно помогло ему анализировать войну как таковую, stricto sensu, [В строгом смысле слова (лат) – Ред.] отделив ее от всего, что ее окружает и к ней примешивается, но ею не является. Иначе говоря, терминологически различаются война как таковая, понимаемая как «применение вооруженных сил», и то, что можно рассматривать всего лишь как «подготовку боевых действий»: она заключается в «поддержании войск в боеспособном состоянии» и ее, собственно говоря, можно исключить из стратегии. Даже Клаузевиц не совсем игнорирует такую «подготовку» к войне и не отрицает ее влияния (или, по крайней мере, того, что он вынужден считать таковым, потому, что «подготовка», признает он, непосредственно приближается к действию, поскольку вслед за ней начинается война, а на практике война и подготовка к ней чередуются).
Клаузевицу тем не менее приходится развести эти понятия, чтобы размышлять о войне в свете его концепции, то есть о войне как о боевом действии в его чистом виде, которое можно рассматривать изолированно. Напротив, в древних китайских военных трактатах интегрированы не только вопросы организации и снабжения, но и экономические расходы на войну и морально-политическая обстановка в стране (см. Сунь-цзы, гл.2, «Цзо чжань»). Действительно, на ход боевых действий влияет множество факторов; навозможно исключить их только потому, что они суть «второстепенные», как это делает Клаузевиц. Эти «привходящие обстоятельства» составляют часть потенциала ситуации и оказываются определяющими с точки зрения развития действующих сил. Впоследствие они могут изменить самое природу боевых действий. Для Клаузевица только вступление в бой, обмен выстрелами являются действительно решающими факторами, тем моментом, когда все решается, моментом, в котором воплощается сущность войны. А для китайских стратегов, как уже было сказано, вступление в бой – это только результат, а точнее, следствие той трансформации, которая произошла ранее.
Рассматривая войну с позиции боевых действий как изолированных актов, Клаузевиц может представить себе ее развитие только как развертывание «многих последовательных действий» или, в лучшем случае, «стягивание в один узел», то есть комбинацию боевых действий. Иными словами, он не отдает себе отчета в продолжительности войны: идет ли речь о простой кампании или о целой войне, для него это простая сумма отдельных боевых действий. Всякий промежуток времени между ними может, таким образом, только увести в сторону, отклонить войну от ее первоосновы. Ибо все, что не есть акт, действие, не может здесь существовать иначе, нежели чисто негативным образом, в некотором «подвешенном состоянии» – иначе говоря, в «бездействии»: все то, что не является действием на войне, есть «разжижение войны во временном плане».
Как бы китайские стратеги ни оценивали значение эффективности самых коротких боевых oпeраций, следующих одна за другой, они правильно оценили положительное значение времени, уходящего на преобразование, времени, когда накапливается потенциал. Это не бесплодное, не «мертвое» время, даже если оно кажется временем бездействия: ведь точно рассчитанный ход боевой операции подготавливает дальнейшую эволюцию, благодаря которой соотношение сил в конечном счете сработает в нужную сторону. Нет «разжижения» во времени, но есть созревание со временем; эффект не тонет, а развертывается в нем. Ибо косвенная эффективность требует много времени – времени для медленной деятельности. Представляя войну не в категориях отдельных актов, а в категориях процесса, китайцы преподают нам хороший урок: как важно правильно использовать понятие длительности.
2. Следовало бы вернуться к западному мифу о действии. Тем более что действие – это и есть, собственно, объект мифа, появившегося именно как рассказ о действии, – того мифа, с которого начинается вся европейская цивилизация. Вспомним те образы, которые первыми отразили историю развития человеческого разума. Как в христианско-иудейской традиции, так и в «Тимее» Платона, Бог создает мир актом творения; героям свойственно воспроизводить это божественное деяние, хотя бы даже и в противоборстве с ним: в древних эпических поэмах литература делала свои первые шаги, описывая памятные события – деяния, прославленные как подвиги; позже трагедия вывела их на сцену и сделала своим преимущественным предметом (у Аристотеля нет термина, соответствующего нашему слову «персонаж»; он говорит, что задача театра – представлять людей «через их действие»). Констатация более чем банальная, но для Китая не столь очевидная. Китай не оставил никаких мифов относительно происхождении мира, он никогда не стремился объяснить начало мира каким- то демиургическим актом (образ Нюй Ва в этом плане не показателен). В китайской древности мы не найдем также ни эпоса, ни, разумеется, театра в том виде, в каком он являлся продолжением эпоса в нашей античности. Отсутствие столь многозначительное, сколь и существенное, заставляющее задуматься о том, откуда идут наши представления о зарождении теоретической мысли. Ведь нельзя не заметить, что китайская мысль никогда не знала культа действия, героического или трагического, она никогда не стремилась объяснить реальность через действие. Одно из самых древних сочинений, «И-цзин», или «Книга перемен», построено на противопоставлении двух типов линий, полных и прерывистых, представляющих два противоположных момента, существующих во всяком процессе. «Книга перемен» указывает, что реальность надо рассматривать под углом зрения постоянной трансформации: фигуры превращаются одна в другую в силу простых видоизменений самих движущих сил. Эти изменения можно изобразить как серию диаграмм, анализируя которые ученый может оценить реальное соотношение сил и определить потенциал ситуации. Такой анализ нужен не для того, чтобы получить объект для созерцания (в Греции мысль, теория, всегда неотделима от действия и связана с абстрагированием бытия), но для того, чтобы наше поведение постоянно совпадало по фазе с развитием событий. Эффективность, – и в Китае мы еще раз убеждаемся в этом, – это получение эффекта за счет адаптации к ситуации.
Известно, что продолжая свои размышления о трагедии, Аристотель приходит к пониманию действия как единства противопоставленных друг другу модальностей: «по нашей воле» (hekon) или «вопреки нашей воле». Это заложено в нас, и мы, соответственно, действуем то «по необходимости», то «по неведению». Он выделяет таким образом понятие «невиновности» субъекта и оставляет ему простор для «выбора» (именно отсюда впоследствии будет выведена идея воли как автономной инстанции и как условия свободы).
Заметим, что китайский язык не противопоставляет активного и пассивного залогов (различие между активным и пассивным значениями не выражается грамматически). Этот язык описывает происходящие события не с точки зрения действующего лица, а скорее, с точки зрения его «функционирования» (юн в отличие от ти). Рассмотрим, например, эффективность как результат влияния, вытекающую из обусловленности (так бывает, например, когда потенциал ситуации делает нас мужественными в сражении). Как мы можем точно определить ее? Мы не «выбирали» способа действия, но происшедшее нельзя определить и как «насилие» над нашей волей (ибо оно усиливает прилив нашей энергии); эффективность появляется, как только начинается действие.
Дихотомия «активный–пассивный» в том виде, в каком она фигурирует в наших учебниках грамматики, слишком узка, чтобы раскрыть всю сложность явления. Ведь то, что движет мною, не мне обязано своим появлением и не принято мной; это и не я, и не не-я, но это идет через меня. Если действие персонально и отсылает к субъекту, то трансформация трансиндивидуальна, в ней опосредуется, растворяется человеческий фактор. И конечно, здесь снова подтверждается правильность выбора категории процесса.
Нам следовало бы ответить на вопрос, что происходит в случае, когда результат удался, но мы не можем утверждать, что он наступил при нашем участии. Традиционное решение – известно, впрочем, что китайские мыслители без него обходились, – состоит в том, что успех снизошел на меня как «вдохновение». Этот успех, который не зависел от меня, исходил извне, но был результатом некоторого действия: это было действие богов или демонов. Разум вынужден пойти на такое решение, и хотя понимает, что оно иррационально, но терпит его, потому что оно удобно. Такова цена рационализации, которая требуется, чтобы признать субъекта автономной инстанцией, не выходя при этом за рамки идеи самого субъекта, но как бы отодвигая ее назад. Вслед за Платоном этим решением пользуется и Аристотель (да и когда, собственно, им не пользовались?): те, кто «легко добивается успеха, за что бы ни взялся», – это люди, «любимые богом» («Евдемова этика», VIII, 1247а). Счастливая судьба (eytychia) – «дар» небес, врожденная удачливость. Но постепенно, начиная с того же Аристотеля, западная мысль выработала другую концепцию «случая». В ней эффект – результат не провидения, а случайности: он исходит не от богов, а от неопределенности материи («Никомахова этика», VI). С таких позиций «случай» (случайность) предстает уже не тем, что мы раньше называли случайностью, чья причина кроется в незнании, в непонимания той темной силы, которая всем повелевает и лежит превыше видимых нами причин. Это то, что позволяет человеческой инициативе вмешиваться в ход вещей, когда в божественной деятельности появляются пробелы. Там, где нельзя положиться на то, что тебя ведет божья воля, можно – и даже нужно – делать выбор самому: в развитии мировых событий всегда есть место для человеческой деятельности, потому что там не все завершено: уходя из-под слабеющей руки Провидения, мы получаем силу «рассудительности» (ср. prudentia, «рассудительность» как противоположное providentia, «предопределению» у Цицерона. [«О природе богов», Кн. 2, параграф 140 и далее.- Ред.] В ней – единственный источник, который остается у нас, чтобы добиться успеха.
В европейской мысли постоянно оставалась брешь – идея непредопределенности вещей. Освободив мир человеческих отношений от целенаправленности, наука, особенно послевозрожденческая, пришла к выводу о необходимой связи между понятиями «действие» и «эффективность». Действительно, представляя мир человека как мир нестабильный, обреченный на прерывистость, как мир эфемерный и находящийся в постоянном движении, не имеющий принципиального порядка, который был бы заложен в него изначально или присущ ему в его развитии, европейская мысль не может воспринимать эффективность иначе, как путь рискованного вмешательства в ход событий; только такое вмешательство и может быть ответом на непредзаданность событий, единственным шансом добиться успеха.
Известно, что для Макиавелли политика – это главным образом действие, и в этом смысле она сопоставима с войной. Его «Князь» – это речь в защиту способности предпринимать энергичные действия. Ведь обычно политическая материя очень податлива, гибка и технически легко преобразуется; человек овладевает ею, несмотря на опасности, и вполне может формировать ее так, как ему нужно, придавая ей заданные контуры. В обстановке политического хаоса, сопровождающего любые инициативы, человек реагирует на опасности доблестью своих действий, своим умением не бояться нового. Вот почему если попытаться вернуться к древней идее сотворения мира, то это будет акт политического мироустроения, жесткого и решительного. В чисто человеческом плане он будет служить образцом для героев (Кира, Тесея или Ромула – и вплоть до Моисея). Именно в своих деяниях человек может стать творцом «нового порядка».
3. Остается показать, что китайская традиция всегда была скептически настроена по отношению к эффективности активных действий. Такой подход свойствен всем китайским школам, они могут настаивать на нем с большей или меньшей силой, но в главном они едины, как будто речь идет о какой-то общей интуиции, которая лежит в основе китайской традиции мышления (и которую эта традиция постоянно использует); наличие такой интуиции просто очевидно. Эта очевидность никогда, впрочем, не обосновывалась, что дает мне право пойти на риск и сделать это следующим образом. Уже только тем, что действие нарушает привычный ход вещей, оно всегда выступает по отношению к вещам как некая внешняя, чуждая им сила; раз оно приходит извне (вмешивается план, проект, идеал), в нем присутствует идея, внешняя по отношению к миру, а само действие как бы «провисает» над пустотой и всегда остается произвольным. Произвольным и навязчивым. Ибо вмешиваясь в ход вещей, оно всегда хоть немного, но разрушает самое их сущность, нарушает их целостность. Навязывая себя вещам, мы своим действием неизбежно вызываем сильное противодействие, по меньшей мере – тихое сопротивление, которое мы не способны в полной мере контролировать. Все противодействующие силы рано или поздно объединяются, чтобы вместе противостоять действию и незаметно разрушить его. В конце концов толчок, который дает вещам наше действие, амортизируется, волны его затихают и эффект «растворяется».
С другой стороны, действие происходит в такой-то, а не в другой момент, совершается здесь, а не там; оно всегда моментально и локализован (даже если длится десять лет, как троянская война...), его эффект – точечный. Раз его вмешательство произвольно и при этом изолированно, само действие обособляется, выделяется на фоне вещей, а следовательно, его замечают. Ускоряя ход развития, оно усиливает и внимание к себе. К тому же, коль скоро оно персонально и исходит непосредственно от субъекта (даже если этот субъект коллективный), то за ним легко проследить. Стоит ему привести к какому- то событию, открыть какой-то новый смысл, – из этого сразу делают целую историю. Фокусируется внимание, кристаллизуется интерес: обсуждение того, что вырывается из хода вещей, служит основой рассказа, а трудности, с которыми сталкивается герой, только создают захватывающее напряжение. Одним словом, все «шероховатости» только помогают «прицепиться» к рассказу.
Но этот аспект зримости, заметности действия – всего лишь отражение его влияния на действительность. Отсюда искусственность всякого действия, его неспособность быть ничем иным, как артефактом, простым эпифеноменом, который, в сущности, может моментально исчезнуть, как внезапно появившийся след пены на молчаливом течении событий, заметный, но быстро поглощаемый. Своим напряжением действие вполне отвечает нашей потребности в драме (драма – по-гречески «действие»), – но оно не эффективно. Или, как это можно выразить на нашем языке, любой деятель ведет себя как участник «действа», как «energymen» (от слова «energein» – «действовать»), вместо того, чтобы быть творцом-демиургом, каковым он себя считает. Всякое «действо» наивно.
Разве, в самом деле, мудрец, как и стратег (в этом отношении их роли схожи), не занимаются «преобразованиями» (хуа [14]), чтобы добиться владения миром или завоевания страны? Ведь в отличие от действия, которое по сути мгновенно, даже когда оно длится, преобразование разернуто во времени и его эффект рождается именно от его непрерывности. Китайская мысль постоянноподводит нас к этой констатации: как бы ни была незначительна исходная точка, потенциальное наращивание усилия позволяет добиться конечных результатов. Особенно выделяется та мысль, что все непрерывное постоянно «разворачивается», «утолщается» и «уплотняется», а значит, при постоянном накоплении ресурсов становится все более могущественным («Чжун юн», §26). До такой степени, что в конце концов совпадает с нашей потребностью, хотя и продолжает оставаться вполне естественным. Еще точнее это передано в следующих словах: «Все становится заметным без того, чтобы проявляться» [15]. Результат становится все более ощутимым, даже очевидным, но именно в качестве результата, никогда не привлекая внимания к своему истоку.
В качестве доказательства можно было бы сослаться, в частности, на влияние мудреца. Этот феномен в Китае анализировали гораздо чаще, чем у нас, быть может, потому что он представляет у нас какие-то исключительные трудности для анализа, если, конечно, не считать классической модальности «я не знаю» (как у Грасиана: «Они завладевают сердцами и языками людей своим «я не знаю...», которое внушает уважение» – «Придворный человек», XLII). Преобразование себя и преобразование других одинаково поступательны, одно служит продолжением другого. Дело в том, что «внутренняя достоверность» не изменяет себе и в конечном счете передает «информацию» через все поведение человека. Вследствие этого она становится «заметной» снаружи, а потом проявляется со столь очевидной силой, что ее объективация, усиливаясь, неизбежно отзывается в окружающих, которых мудрец, сам того не желая, «потрясает» и «преобразует» («Чжун Юн», §23).
Переход от внутреннего принципа к внешнему эффекту совершается постепенно и последовательное развитие становится непрерывным. Поскольку все происходит таким образом, доверие людей к принципу становится все сильнее. Оно проявляется непрерывно, все прочнее внедрясь в реальность, без малейшего насилия, но так, чтобы обеспечивалась его самореализация. Строго говоря мудрец ничего не должен делать, чтобы его уважали, не должен говорить, чтобы ему поверили не должен награждать, чтобы привлечь к себе или разражаться гневом, чтобы его боялись («Чжун юн», §33). Итак, ему ничего не нужно делать, чтобы изменить реальность; ему не нужно действовать, все и так «случается» само собой, и это – самая красноречивая формула («Чжун юн», §26).
Изменения происходят, таким образом, как бь сами по себе, как следствия простого продления процесса. Не нужно тратить силы, не нужно оказывать давление на ситуацию. Перед реальностью открыт путь к изменению, не требуется никакого внешнего насилия, а следовательно, не будет и сопротивления. Именно так происходит, когда oт проблем морального порядка мы переходим к pacсуждениям о том, каким образом советник может привлечь к себе внимание князя (все больше сближаясь с ним), или как он поворачивает развитие ситуации себе во благо (постоянно модифицируя ее). Древняя формула мудрости сохраняет силу также для стратегии. Китайский путь к эффективности можно было бы сформулировать в следующих словах: «В длительном процессе преобразований довести до осуществления» (Гуйгу-цзы, гл. 8, «Мо»).
«Довести до осуществления» (скорее, «позволить осуществиться», – первое звучит слишком повелительно) – это не значит стремиться приближать успех силой. Нужно дать возможность успеху наступить как бы самому по себе, как бывает, когда действуют, постепенно увеличивая объем и наращивая массу. Таким образом, все получается так, как будто это не я всеми силами рвусь к успеху, а сама ситуация имплицирует его, развиваясь по нарастающей: предписание ловко внедрилось в привычный ход вещей и больше не ощущается в нем.
С другой стороны, в отличие от действия в прямом смысле, преобразование происходит во всех точках целого. Именно здесь кроется один из аспектов проблемы, которому китайцы придавали особое значение и на котором особенно настаивает древний трактат «Книга перемен»: преобразование не знает «пробелов». Оно не только не локально, не точечно, как действие, но его вообще нельзя локализовать, так как его развитие всегда глобально. Следовательно, и его эффект всегда диффузен, обтекаем, никогда не привязан ни к какому месту.
Так как преобразование непрерывно и поступательно, оно проявляется всюду, одновременно и незаметно. Оно не поддается ни четкому определению (согласно индивидуальной воле), ни конкретизации по времени и месту; оно оказывается недоступным для вычленения и зрительно не воспринимается. В отличие от действия, которое всегда заметно, почти театрально, эффект преобразования растворен в ситуации. Об этом много говорили мудрецы: под влиянием преобразования «народ изо дня в день развивается в сторону добра, не отдавая себе отчета в том, от чего это зависит» («Мэн- цзы», VII, А, 13). Это остается справедливым и в случае с советником князя, который управляет делами на пользу себе: «Надо вести дела так, чтобы день за днем постепенно продвигаться вперед, но так, чтобы другие не отдавали себе в этом отчета» [19] (Гуйгу-цзы, гл. 8, «Мо»). Тот факт, что приказание, предписание «пробираются» в привычный ход вещей и как бы растворяются в нем, делает их еще более эффективными. Неосознаваемые, они становятся неподконтрольными и начинают исполняться как бы пассивно. Параллельная формула относится и к стратегу: «Нужно руководить военными действиями таким образом, чтобы успех был с каждым днем все большим, но при этом никто нас не боялся» (там же). Другие, то есть противник, и не думают бояться нас, потому что они не видят никаких изменений в ситуации и не считают, что она становится опасной (а когда она становится опасной, уже слишком поздно – враги полностью в нашей власти). Преобразование было столь незаметным, постепенным накоплением («позитивности» или потенциала – «мощи»), что даже в своем лагере мы можем отдыхать, не отдавая себе отчета в том, откуда идет выгода: мы просто идем по пути, который ведет к успеху, не понимая того, как все происходит.
Эффективность тем выше, чем она незаметнее. Мудрец изменяет мир тем влиянием, что исходит от его личности, день за днем, постепенно, так, что ему не нужно набивать себе цену и заставлять говорить о себе («Чжун юн», §33). Точно так же, когда речь идет о хорошем полководце, не надо возносить хвалы ни его «прозорливости», ни его «мужеству» (Сунь-цзы, гл.4, «Син»). Существует парадоксальное, но очень точное выражение: никто не возводит памятника хорошему стратегу. Дело в том, что стратег так хорошо вел дела и сумел так повернуть развитие ситуации, что победа показалась легкой и теперь никому и в голову не приходит восхвалять его. Это был заранее предопределенный выигрыш – говорят люди, принижая его заслуги. Но на самом деле это значит – невольно воздать ему самую высокую хвалу, ибо заслуга его так велика, что успех кажется вполне естественным, а раз так, то и сам стратег остается незамеченным.
Это может показаться еще одним парадоксом, но на самом деле здесь всего лишь вскрывается очевидное: «Прежде те, кто был силен в сражениях, добивались легкой победы». Но в том-то и дело, что они завязывали бой только тогда, когда заранее знали, что легко добьются победы, сумев повернуть ход событий в свою пользу, а значит, только тогда, когда были уверены в победе. Вместо того, чтобы добиваться победы «рывками», в боях, проявляя неслыханное мужество и храбрость (что потом будет отмечено), они обеспечивали свой успех преобразованием антагонистических отношений, начатым гораздо раньше, настолько раньше, что теперь его легко принять за результат саморазвития вещей.
Без напряжения, без события не бывает эпоса, не получается драма, не из чего сделать историю. Становится понятным, почему у китайцев не сложилось своего эпоса. Осмысляя эффективность применительно к действию и преобразованию в Греции и в Китае, приходится говорить о двух совершенно противоположных друг другу концепциях. Греки считали преобразование исключительно природным процессом, а человеческим – только действие. Даже если Аристотель освободился от платоновского мифа о сотворении мира, в его естественнонаучных трудах природа персонифицирована: аристотелевская природа «изобретательна», «подобна демиургу» – она «творит вещи»; а еще она «художник», «зодчий», «повелитель», у нее есть свой план. При всех различиях между природой и искусством, при том, что начало ее движения заложено в ней самой и ее действие имманентно, она все же, подобно искусству, предполагает отношения «средства–цель»; даже если она не «выбирает» средств (впрочем, не будем забывать, что художник приходит к необходимости выбора по незнанию), она от этого не в меньшей степени ориентирована на конечный результат, которого «хочет» достичь.
Китайцы, напротив, всегда рассматривали эффективность человеческих действий в свете естественного преобразования. Стратег, полководец изменяет ситуацию подобно тому, как природа растения заставляет его расти, а река постоянно прокладывает себе русло. Подобно всем этим естественным модификациям, то преобразование, которое он осуществляет, одновременно диффузно и дискретно, оно незаметно в своем движении, но проявляется в результатах. Китайцы верят в имманентное преобразование вещей больше, чем в трансцендентное действие: человек не замечает, как он стареет, не видно, как река пробивает свое русло, и тем не менее, именно эти незаметные изменения важны и для ландшафта, и для жизни.
Один образ лучше других схватывает эту диффузную эффективность трансформации (мне придется повторить термин): эффективность ветра («Чжун юн», §33: «Кто знает, откуда дует ветер...»). Поскольку ветер проникает повсюду и длится во времени, никто не видит, как он дует, но на его пути «травы ложатся» («Лунь юй», XII, 19). Этот ветер – не вдохновенное дуновение, не божественная пневма, что возникает мгновенно, чтобы, подобно лезвию, выхваченному из ножен бытия, вызвать великий порыв героического акта или поэтического творчества; скорее, это непрерывный поток, который распространяется по всему миру и сообщает ему свое возбуждение, постепенно пропитывает его своим стремлением и распространяет свою подвижность до бесконечности. Греческая литература начинала с «Илиады», где рассказ вдохновляется выдающимися событиями, а богиня воспевает гнев Ахилла и по-театральному зрелищные сражения. Тогда как первая часть первого литературного произведения Китая («Книги песен», «Ши-цзин»), датируемая приблизительно тем же временем, что и «Илиада», и называемая «Ветер княжеств» («Го фэн»), стремится воскресить в коротких строках преобразующее влияние, которое, исходя от личности князя, распространяется по всему княжеству и определяет нравственный закон: оно проявляется в самых незначительных чертах чувств и поведения людей, вовлекая их в свой поток, но никогда не становясь конкретным, уловимым, или, тем более, вычленимым – и в этом смысле оно подобно ветру.
СТРУКТУРА СЛУЧАЯ
1. Судьба (tuche) с одной стороны, искусство (techne) – с другой, а между судьбой и искусством – третье явление, необходимое для осмысления действия, – случай.
Идет ли речь о мореплавании, о медицине или о стратегии (Платон выстраивает эти дисциплины в одну линию в «Законах», IV, 709b), – всякий раз между теми вещами, что зависят от судьбы (или «от бога»), и теми, что зависят от нас самих (техника), в качестве третьего помещается случай, соединяющий их. От него и зависит эффективность: это тот самый благоприятный момент, который предоставляется нам волей судьбы и который искусство позволяет нам использовать; такое стечение обстоятельств, благодаря которому наше действие способно вписываться в ход событий, не вторгаясь в него, но приспосабливаясь к его причинным связям и оставаясь под его влиянием. Благодаря ему общий план действий доходит до воплощения; это тот «повод», что позволяет нам овладеть ситуацией и обеспечивает нам статус хозяев положения. В политике тоже, признается философ, он всегда ждал благоприятного момента, чтобы действовать (Письмо VII). Ибо случай необходим, даже если это будет что- то вроде сицилийских приключений Платона; случай необходим философу, чтобы он мог внедрить в практику свою «теорию». Цель – действие – случай: теперь схема завершена; случаю отведена роль связующего звена между целью и действием. Ведь «цель действия» сама по себе «зависит от случая», напоминает нам Аристотель («Нико-махова этика», III, lllOa 14).
Следовательно, чтобы осмыслить эффективное действие, важно принимать во внимание эту новую координату: удобный момент, то есть время. Дело в том, что случай – это как раз и есть совпадение действия и времени, когда мгновение становится вдруг мигом удачи, когда время «работает на нас», идет нам «навстречу», превращает случайность в счастливый случай. Благоприятное время, подоспевшее как раз кстати, счастливое, но быстро проходящее, когда с трудом можно понять, где кончается «еще рано» и начинается «уже поздно», – этот-то момент и важно «уловить», чтобы добиться успеха. Если наука занимается вечным (тем, что всегда остается одним и тем же и что можно доказать: неизменный идеал математиков), практическая польза чрезвычайно изменчива, вариативна; Аристотель напоминает, что «полезное сегодня, не будет таковым завтра» («Большая этика», I, 1197а 38). Чтобы добиться «поставленной цели», следует уточнить должным образом не только «чего мы хотим», но и «когда хотим»: благо подлежит десяти аристотелевским категориям, включая место и время. И коль скоро мы понимаем, что нет «блага вообще», то случай становится благом в зависимости от категории времени. Иначе говоря, важно не просто «время», а «подходящее», «удобное» время. И даже внутри этой категории времени «разные науки изучают разные случаи»: случай будет по-разному трактоваться в медицине и в военном деле и можно даже сказать, что имеется столько специфических случаев, сколько складывается ситуаций.
Но при этом – еще один контрудар в ответ на критику в адрес Платона – случай подвергается риску стать чем-то неуловимым. Потому что, распыленный по всевозможным реальным ситуациям, случай вряд ли может стать объектом науки, или даже «техники», – ведь техника тоже стремится обобщать. Тем не менее, важность случая (kairos) признается во все времена нашей европейской античности. «Нет ничего важнее, чем знание о случае (kairos)» (Пиндар), «Это лучший из спутников в любом виде человеческой деятельности» (Софокл), его «всемогущество» общепризнано. Начиная с первых поэтов, Гомера и Гесиода, «случай» тесно связан с понятием успешного действия, – указывает Моника Треде, – именно здесь надо искать ключ к тому понятию», которое получило полное развитие после небывалого взлета «techne» в V-м в. до н.э. Когда оратор хочет убедить нас в чем-то, он не ограничивается одними только рассуждениями; чтобы подчеркнуть правдоподобие описываемых событий, он старается извлечь пользу из обстоятельств всюду, где только возможно, пользуется благоприятным случаем и высказывается по его поводу (Горгий и Исократ). Точно так же гиппократовская медицина остерегается слишком общих рекомендаций и задается целью приспособить терапию, не имеющую никакого устойчивого начала (kathestekos), к особенностям и «пестроте» реально встречающихся случаев. Это нужно не только для того, чтобы дать правильную дозировку лекарств (медицинский «кайрос» – это прежде всего вопрос меры), но также и для того, чтобы по ходу лечения вовремя вмешаться, если наступит кризис.
Об основании очевидности настолько часто говорят первые греческие поэты, что порой возникает сомнение: неужели наши представления о случае сложились сами по себе? И мы начинаем понимать, с каким упорством пробивала себе дорогу концепция «благоприятного времени», каковы были составные части случая у греческих мыслителей. Ведь на заднем плане у них всегда пребывает не что иное, как онтология, противопоставляющая понятия бытия и становления, неподвижного и движущегося: дело в том, что люди «ждут» случая именно для того, чтобы подобрать такой закон, которому бы подчинилась нестабильность вещей или, точнее, для того, чтобы закон был наконец принят этими вещами. В основании этой концепции лежат отношения, уже успевшие оказать сильное влияние на развитие греческой философии в период ее расцвета. Речь идет о частном и общем, о том, как была обнаружена их радикальная противоположность друг другу (можно ограничиться частным, как Аристотель, но это значит – уйти от теории). В таком случае последней надеждой для нас остается лишь мир частных сущностей, оказавшихся в плену у времени, тот мир, в котором нам приходится жить. Но эта надежда не призрачна, потому что и в этом мире живет гармония: между «слишком много» и «слишком мало» лежит случай, – summetros, соразмерный, то есть такой, что соответствует греческому идеалу числа и меры. И наконец, в основу случая положены искусства, technai, а эти последние прямо связаны с действием. Вот почему нельзя избежать еще одного вопроса: что, собственно, остается от концепции благоприятного времени (и вообще, о времени ли идет речь?), когда мы выводим понятие случая из некоторого выбора, имплицитно заложенного в ситуации, если мы не рассматриваем его больше в перспективе действия, а понимаем как преобразование в рамках другой логики? Если «случай» при этом не исчезает совсем, то его структура будет изначально иной и потребует пересмотра.
2. В Китае также можно найти понятие «благоприятного момента», «удобного», такого, который нельзя «упускать», ибо в противном случае мы рискуем утратить стратегическую эффективность. Здесь тоже благо оказывается распределенным по множеству аспектов: для «ума» благо есть «глубина», для дел – «добродетель», для «начала движения» – «момент» (Лао-цзы, §8). Такой момент «запуска» не должен «запоздать» (Гуйгу-цзы, гл. 8, «Мо»). Следует поподробнее разобраться в том, как трактовала это понятие древняя литература по военному делу (Сунь- цзы, гл. 5, «Ши»). Если потенциал ситуации сравнивают с потоком, который в своем стремительном течении способен уносить даже камни, то момент «запуска» действия сравнивают также с хищной птицей, которая неожиданно бросается на жертву и одним ударом убивает ее. Она побеждает только потому, что удар был нанесен в тот миг, который требовался, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее птицу от жертвы (здесь использовано понятие ше, первоначально означавшее узел в стволе бамбука, а потом – стечение обстоятельств и их истинную меру). Если в тот момент, когда птица убивает жертву, предпринятая атака совершается с максимумом интенсивности, значит накопился максимум ее потенциала. Потому что, как уточняет один из толкователей этих текстов (Ван Си), «Стремительный бросок хищной птицы за дичью – это результат потенциала ситуации». Как и в примере с потоком, катящим камни, здесь «из потенциала ситуации рождается затем момент, который подходит для атаки». По каноническим текстам выходит также, что потенциал создает головокружительное напряжение, из которого рождается порыв, после чего подходящий для решительного дейстия момент оказывается предельно кратким. Предварительному и постепенному накоплению сил противопоставляется краткий миг захвата; но последовательное развитие происходит внутри одного и того же образа: «потенциал ситуации – подобен натяжению тетивы арбалета, а подходящий момент – выстрелу».
А вот как обрисовывается другая концепция «случая»: это уже не удача, которая выпадает нам на пути в силу счастливого стечения обстоятельств, вдохновляя на действия и способствуя успеху, а наиболее подходящий для вмешательства момент в ходе последовательно предпринимаемых действий (в крайних случаях такое вмешательство может быть и не единичным – так мы рвемся к нему). Это такой момент, когда постепенно накапливаемая потенциальная энергия достигает высшей точки, позволяющей получить максимум эффективности. Как утверждает толкователь (снова Ван Си), этот потенциал ситуации «приходит издалека», даже если момент атаки предельно краток.
В свете преобразования случай – это не более чем завершение развития; он подготовлен временем. Отсюда следует, что в нем нет ничего спонтанного, что он – продукт эволюции, которым лучше воспользоваться как можно раньше, как только он появляется. Этот случай – совсем другой; или, скорее, он двойствен, потому что мы видим его на обоих концах временного отрезка (длительности процесса): позади каждого такого случая, который, казалось бы, появляется неожиданно и который нужно еще уметь тотчас задействовать с пользой для дела, просматривается другой, служащий исходной точкой процесса, от которой берет начало развитие.
В действительности мы имеем дело не с одним, а с двумя решающими мгновениями (в начале и в конце преобразования): конечный миг, когда нападают на противника с максимумом интенсивности, да так, что противник вскоре бывает разбит; и начальный миг, когда наступает поляризация, при которой потенциал начинает плавно «раскачиваться», склоняясь к одной из сторон. Насколько в конечной фазе случай становится очевидным, настолько в начальной фазе его присутствие незаметно, едва различимо. И все-таки именно этот первый случай оказывается решающим, потому что с его появлением зарождается возможность эффекта, тогда как случай в конце – это лишь следствие. В свете сказанного становится понятным, почему в Китае именно благоприятному случаю, сопровождающему пусковой момент, придается такое большое стратегическое значение, – именно здесь зарождается тенденция, которая ведет к хорошему «запуску».
Согласно одной из замечательных формул (Гуй-гу-цзы, гл.7, «Чуай»), именно момент «запуска» связан с определением возможного «потенциала ситуации» в его «эмбриональном состоянии», «в первоначальной стадии». Потому что, как мы видели, стратег может рассчитывать на его дальнейшее развитие и полагаться на него: чем раньше он его почувствует и сумеет распознать, тем лучше он сможет им распорядиться. Все решается на самой ранней стадии и малейшее движение, которое начинается здесь, будь то «полет насекомого» или «ползание червячка», играет свою роль – подобно «взмаху крыльев бабочки» у Лоренца и Пригожина.
Мудрец в этом отношении исходит из тех же идей, что и стратег. Ибо когда речь идет о том, чтобы самому быть в согласии со своей этикой или чтобы достигать эффективности в мире, как тот, так и другой приходят к необходимости отыскать момент зарождения тенденции (ее первые признаки), и это – их главная забота. Как бы ни была слаба тенденция вначале, с того момента, как она появилась, она действительно неминуемо начнет менять ситуацию. Мудрец внимательно наблюдает за ее колебаниями внутри себя, ведь если он немедленно не внесет коррективы, она уведет его все дальше и дальше от его пути («Чжун юн», §1); стратег следит за появлением любой благоприятной тенденции в мире, ибо когда он ее обнаружит, он сможет уже до самого конца опираться на нее. В момент зарождения тенденции ничего не заметно, но определенная ориентация уже наметилась. Или, как объясняет один из комментаторов применительно к этике (Чжу Си комментирует «Чжун юн», §1), еще нет никаких внешних признаков, но начало движения уже положено, и это незначительное движение, если не придать ему значения, может иметь неизмеримые последствия. Ведь оно, едва «вылупившись» на свет, начинает направлять ход развития событий (или сознания) и может распространять свое действие сколь угодно широко, особенно при наличии времени. Следовательно, из этого важнейшего понятия (понятия начала движения) нетрудно извлечь урок: потенциал ситуации, который проявляется при определенном случае, на самом деле необходимо проследить с самого его начала, с момента зарождения; при всей изменчивости явлений важно постоянно следить за их развитием, и только тогда можно быть уверенным, что мы сможем нанести удар в нужный момент.
Итак, для стратега чрезвычайно важно на начальной стадии уловить нужный момент, благоприятный «случай», момент решающий, хотя еще трудно различимый. Ибо именно с данного момента ситуация начинает незаметно изменяться и от него, в конечном итоге, будет зависеть успех всей операции. Здесь слышится первый «щелчок» того рычага, который «тайно» управляет последующими событиями. Здесь закладывается основа успешного осуществления будущего действия (Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»; отметим существенное расхождение между текстом и комментариями по поводу чжи и вэй).
Если принять, что «случай» способен развиваться, то следует пересмотреть и понятие «кризиса» (в смысле «решающего момента»). Ведь критический момент тогда уже не будет соответствовать стадии проявленности (гиппократовская наука о врачевании утверждает, что «кризис» наступает в тот момент, когда больной может «вынести суждение о самом себе»). «Кризис» продвинется выше – до той стадии самых незначительных изменений, где он зарождается, где собственно, совершается изначальная поляризация, то есть нечто собственно «решающее». Критический момент не связан, как в театре, со зримым эффектом (снова Греция!); он проходит совершенно незаметно. Так что же, как только мы научимся вскрывать критические моменты, эволюция станет предсказуемой и управляемой, а «кризисы» исчезнут навсегда?
3. Предвидеть «случай» – таково самое общее назначение стратегического искусства как на Западе, так и в Китае: «предвидя болезнь заранее», ее можно легко предотвратить, утверждает Макиавелли, извлекая уроки из истории Рима («Князь», 3); когда же «болезнь разыгралась», действовать «уже не время», ибо «болезнь стала неизлечимой». Здесь проявляется первое расхождение: Макиавелли говорит о предвидении только как о средстве избежать болезни (а не в таком контексте, где можно было бы опираться на то, что будет основой будущей ситуации). При внешнем благополучии в тайниках может быть спрятан яд, и его надо отыскать заблаговременно, – иначе яд погубит нас (там же, 13). С другой стороны, существует два способа убедиться в необходимости и выгодности такого роде предвидения: либо мы строим рассуждение (тогда случай рассматривается по отношению к действию), либо опираемся на логику развития (тогда случай рассматривается по отношению к преобразованию).
В первом случае уместно привести пример такого историка, как Фукидид: в древней Греции он дальше других продвинулся в направлении рационализации «случая». Его герои, Формион и Брасид, «рассчитывают» случай, который последует в будущем, при помощи «вычисления» (logismos); они учитывают всю совокупность обстоятельств и строят всяческие предположения. С одной стороны, они сводят воедино как можно больше возможных данных, с другой (на следующем этапе) – разрабатывают разные гипотезы,чтобы остановиться потом на одной из них, самой вероятной. Логика, основанная на правдоподобном (eikos), позволяет им выстроить таким образом идею о состоянии духа противника, предусмотреть его намерения, и тем самым – оценить шансы на успех. При этом они сочетают знания о началах – психологических, стратегических, политических – с как можно более точной оценкой ситуации, всех достоинств операции, степени ее риска, причем оценка состоит в соизмерении двух планов – лишнее подтвержение тому, что работа ума в Греции всякий раз направляется на установление необходимой связи частного с общим. Такое искусство рационального прогноза (pronoia), способно поднять греческого стратега над видимостью и привести его к «наиболее правдоподобному», о котором известно, что оно и есть «самое незаметное» (alethestaton/aphanestaton; здесь Запад снова занят поисками спрятанной под вуалью «истины», поисками сокрытой сущности). А китайский стратег не строит предположений, не ищет аргументов, вообще не строит ничего. Он не выдвигает гипотез, не пытается рассчитать вероятность. Все его искусство состоит в том, чтобы как можно раньше обнаружить самые слабые тенденции, стремящиеся к развитию: выделяя их в тот момент, когда они едва пробудились и начинают оказывать свое подспудное влияние на непрерывный ход вещей, следовательно, еще до того, как им удастся «всплыть» и открыто проявить свою эффективность, он в состоянии предвидеть, к чему они могут привести; не пропустив момента их внезапного проявления, он опережает их в актуализации. Комментатор нашего трактата по дипломатии (Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин») уточняет: «Начало движения, которое едва зарождается», но как таковое уже оказывается «критическим», «развивается от незаметного к явному». Вот почему дальновидный стратег – это тот, кто владеет им еще на начальной стадии, когда оно «еще не проявило своих видимых признаков и не актуализовалось» [25]. На этой стадии буря еще не вышла из-под земли, «включение» кризиса остается «тайным». Но уже известно, что, подобно большому количеству нагромождающейся горой земли, эффективность неизбежно проявит себя.
По сути, речь идет об образовании трещин (Гуйгу-цзы, гл.4, «Ди си»). Вначале трещинка еще мала и как бы пребывает в подготовительном периоде, но ее как «предвестник» болезни можно обнаружить визуальным способом. Однако если эту трещинку не заделать, она тотчас сама начнет расширяться, раскрываться и углубляться, превращаясь последовательно в «трещину», «щель», «расщелину». От трещинки к пролому – можно предугадать, как все будет развиваться, процесс становления заранее имплицирован в ней. Отныне модификация заявила о себе и остается лишь, чтобы она сделала свое дело. «Опасность» начинается, как видим, на стадии появления самой малой трещинки. Известно, что мир образован соединением и разъединением (уже Небо и Земля одновременно и соединены, и разделены): образование трещин, таким образом, заложено в великой логике жизни и пронизывает всю «ткань» вещей, постоянно угрожая разорвать ее. Отсюда необходимость постоянно заботиться о наложении «швов» любыми доступными средствами: «заделывая», «прикрывая», «стягивая», «замазывая»...
Вот почему стратег должен постоянно следить за появлением малейших трещинок, в первую очередь – у противника. Вся стратегия по отношению к другому состоит, в сущности, в таком двойном маневре (Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»). С одной стороны, не дать противнику малейшей возможности воспользоваться трещинами в нашем строю, не позволить, чтобы у него оказались преимущества перед нами, обречь его на перемещения вдоль фронта и не допустить, чтобы он смог углубиться на нашу территорию. С другой сторо-ны, нужно замечать появление малейших трещин у противника, с тем, чтобы напасть на него, как только трещины превратятся в прорывы и дадут нам возможность взять его без боя. В трактате по дипломатии уточняется, что нужно «пускаться в поход» лишь «пользуясь слабиной противника». В противном случае речь может идти о произвольном вмешательстве, опасном уже в силу того,что оно насильственно. А между тем, достаточно «нащупать» у другого «трещинку» и дать ей возможность превратиться в широкую расщелину, чтобы этот «другой» неизбежно потерпел поражение.
И все же в рамках такой стратегии возникает встречный вопрос: а что делать, если другой не допустит слабины? Далекий от того, чтобы поставить под сомнение сам тезис, я, ставя вопрос таким образом, лишний раз хочу выверить логику происходящего, проследив ее вплоть до крайностей: в данном случае ничего другого не остается, как только ждать. Вместо того, чтобы помышлять о нападении на непоколебимого противника, нужно «дождаться» того момента, когда у него появится «слабинка», а тогда уже «непременно начать действовать» (такова настоятельная рекомендация Гуйгу-цзы в главе «Бэнь цзин»). Нападать на сильного противника – это и дорого и опасно. Ожидание – таково неизбежное следствие предвидения. Действительно, по логике вещей известно, что рано или поздно другому придется столкнуться с угрозой появления трещины. А до тех пор, пока все гладко и нет ни малейшей лазейки, чтобы проникнуть на территорию противника, стратег должен «держаться позади и поджидать удобного случая» [28] (Гуйгу-цзы, гл.4, «Ди си»): он ждет первой возможности, когда откроется небольшая трещинка, когда она со временем превратится в большую «брешь» и позволит ему в удобное время одним броском ворваться в стан противника. Мы лишний раз убеждаемся, что искусство ведения войны подкрепляет искусство ведения дипломатии: вначале надо быть скромным и сдержанным, «как девица», до того момента, пока противник сам не «откроет свои ворота»; а когда ворота открыты, нужно устремиться туда со всей мощью – и вот уже «противник не в силах сопротивляться» (Сунь-цзы, гл. II, «Цзю ди»).
В случае, когда ни один фактор не является основополагающим, то есть ситуация неблагоприятна и не оставляет никаких шансов на победу, мудрый ждет, выжидает, и главное для него – самосохранение. (В Китае и сегодня он уединится в деревне, скажется больным и т.д.). Эта формула заслуживает того, чтобы ее рассмотреть внимательнее: «Мудрый - в своем не-деянии - ждет, пока не появится возможность действовать» (Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»). Иными словами, он ждет, пока ситуация, в которой он оказался, снова не получит положительного заряда. Ибо ему известно, что появление нового заложено в самом процессе - и в будущем именно в нем возникает новая когерентная связь. Эта связь в свою очередь (поскольку процесс зависит только от нее) есть не что иное, как чередование: негативные факторы сменяются позитивными, как бы компенсируя зло благом. Несчастливая полоса пройдет; начнется новая, пока незаметная, но мудрец знает, что она принесет ему удачу. И он спокойно ждет, чтобы потом поплыть по ее течению.
4. Разницу в структуре случая, какой она видится на Западе и в Китае, следует искать в концепции «времени». В Греции теоретики, оказавшись полностью во власти фундаментального противопоставления «теория-практика», не нашли иного выхода, как разделить это понятие надвое. От этого родились антагонисты: Хронос и Кайрос. Они несовместимы друг с другом, но оба они - сыновья Эона, Вечного Времени. С одной стороны, есть время, которое строит знание, время четко вымеренное, такое, что его можно разделить, проанализировать, и которым, следовательно, можно управлять. С другой стороны, есть время, открытое действию, которое формирует случай, время рискованное, хаотичное, и следовательно, неуправляемое, «неукротимое». Уже у Аристотеля это время случая противопоставляется другому, мерному времени; его характер описывается как трудно поддающийся управлению и постоянно подверженный разного рода колебаниям. Мы знаем, что нововременная теория выделяет это время как самое важное, а может быть, и основное. Макиавелли говорит, что «окончательное установление» римского владычества стало возможным только благодаря «стечению обстоятельств». Время, как его понимают в Китае, - это процесс, а не предмет знания и не объект действия (Аристотель пишет, что «цель», telos, соотносится с «удобным случаем», kairos). Это не время, для которого достаточно провести измерения, оставаясь беспристрастным; это тем более не время, в которое можно вмешаться силой, ибо «так я хочу», когда собираюсь извлечь пользу из создавшейся неразберихи; это, скорее, поступательный процесс, состоящий в постоянном само-соизмерении, совершающемся по-разному на каждой из его стадий.
Речь идет не об упорядоченном времени, которым занимается наука, это вовсе не «послушное время», но и не время случайное, открытое навстречу действию; скорее, это «строптивое» время, но все же поддающееся расчету. Оно поддерживает равновесие в ходе преобразований и остается когерентным, не переставая изменяться. Это время, которое не знает деления на теорию и практику; следовательно, это не Хронос и не Кайрос (не регулярное время, но и не рискованное). Оно никогда не повторяется и на него никогда нельзя положиться; я думаю, что его лучше всего назвать стратегическим временем.
Поскольку развитие времени доступно просчитыванию, стратег действительно может предвидеть и умеет ждать (предвидеть, какое время наступит, и дождаться того момента, когда оно изменится к лучшему). Мудрец и стратег всегда вместе – вот то общее положение, к которому нас снова и снова возвращает китайская философия («Чжун юн», §24, Гуйгу-цзы, passim, и разумеется, комментарии к «Книге перемен»). Логика их рассуждений такова: обладая абсолютно свободным сознанием, на которое не оказывают давления разного рода «закосневшие» идеи, планы, жесткие схемы и проекты, столь характерные для индивидуальной точки зрения (а в положительном смысле это означает, что сознание стало коэкстенсивным в масштабах всего процесса и сохраняет свою флюидно-подвижную природу, постоянно развиваясь, как развивается сама реальность), мудрец и стратег оказываются способными уловить когерентность становления и предвосхитить будущие перемены, как если бы и тот, и другой внутренне ощущали недостаток чего-то объективного. А все дело в том, что и мудрецу, и стратегу известно, что постоянное обновление жизни, если взглянуть на него с точки зрения глобального процесса, никогда не идет в неверном направлении, и они надеются на восстановление нужного равновесия между противоборствующими силами (без того, чтобы динамическое равновесие стабилизировалось). В этом случае самым подходящим термином будет «распознавание»: тщательнейшим образом рассматривая то, что происходит сейчас, стратег обнаруживает в зародыше какие-то новые, еще не появившиеся явления.
Наш трактат по дипломатии открывается такими словами: в стратегии рассматривается чередование «открытий» и «закрытий», два полюса реальной действительности, два противоположных и взаимодополняющих фактора (инь и ян). «Вычисление итога» совпадает с «началом деяния» внутри «множества видов», а сами мудрецы/стратеги открыты «внутренней логике сознания», а значит, им доступны «предвестия перемен». В их руках ворота «жизни и смерти», ключи к «успеху и поражению». В самом деле, с одной стороны, «изменения не имеют конца и цели», но с другой стороны, каждое из существующих явлений «имеет закономерные сроки завершения» [30]. Отсюда, в соответствии с чередованием, которое регулирует реальность (инь и ян, «твердый – мягкий», «открытый – закрытый», напряжение – разрядка» и т.п.), она оказывается в высшей степени подконтрольной. Наука прошлого или «преднаука», о которой идет речь, не прибегает к гипотетическим рассуждениям или магическим операциям, она довольствуется выявлением того, что «скоро случится», исходя их того, что «уже случилось», так как одно имплицирует другое, и так без конца. В Китае распространены выражения: «конец» – это в то же время «начало», настоящее – это постоянная смена состояний (а мир – вечные перемены): следовательно, если я включаюсь в текущий процесс, я могу заранее ощутить, куда меня понесет течение, а если так – то я могу с ним справиться (Гуйгу-цзы, гл.4, начало). Так появляется двойственность в трактовке случая, и она стоит того, чтобы глубже разобраться в ней: не для того, чтобы зафиксировать различие (я бы охотнее вообще обошел его), но для того, чтобы лучше понять суть. И для начала – раскрыть, временно обостряя контрасты, все то, что в китайской мысли трактуется как происходящее само по себе, несмотря на огромное разнообразие позиций (именно это, может быть, составляет наибольшую трудность при восприятии китайской философии: она всякий раз обходит этот вопрос, постоянно возвращается к нему, но нигде не отвечает на него). Это определенная логика эффективности, которая, по сути, не содержит в себе ничего экзотического (скорее, она близка нам по многим аспектам) и которую китайская мысль никогда не считала нужным эксплицировать, рассматривая ее как нечто очевидное. Да и мы сами, несмотря на наш богатый опыт, доведенный до мудрого благоразумия, редко заботились о том, чтобы создать, – а может быть и не могли создать, – целостной теории. Видимо, и нам мешала предвзятость.
Рассмотрим наши разногласия более внимательно. Макиавелли не ждет от времени ничего хорошего. Оно случайно, непостоянно и прерывисто, оно его мало интересует (если только речь не заходит о времени, необходимом для стабилизации политического целого с помощью традиционных правил легитимации). Он с недоверием относится к возможности извлечь пользу из времени, «даже если в наши дни принято постоянно ссылаться на мудрецов» («Князь», 3). «Ибо время сметает все, что стоит на его пути, и приносит с собой и добро и зло»: вот почему в наши трудные времена нововведений, времена риска и опасностей, единственным источником силы остаются инициатива и способность импровизировать.
Только рискованное действие, соответствующее моменту, может быть ответом непредсказуемой игре случая (так действовали Цезарь Борджиа или Юлий II). Всякое промедление подобно самоубийству. И наоборот, если считать, что эффективность зависит не от действия, а от преобразования, а случай растворен в периодически повторяющемся процессе, на длительность процесса можно рассчитывать. Но отказ от элемента «авантюры» на поле боя вовсе не означает, что мы выгадываем время, откладывая начало действия на более позднее время. Имеется в виду не отсрочка действия. Мы лишь поджидаем благоприятного момента, когда развитие начавшегося процесса приведет нас как можно ближе к рассчитанному результату (надо отличать его от поставленной цели). Важно как можно меньше вмешиваться в ход событий, и успех придет сам – благодаря естественному развитию событий.
Несомненно, обучение правителей технике обращения со временем играло свою роль и в Европе на протяжении долгого периода ее политического становления. Европа учится «уступать» времени, идти в ногу с ним – с этим временем, о котором известно, что оно движется «шаг за шагом» – gradatim. «Политик» Грасиана знает, что «костыль времени способен сделать большую работу, чем палица Геракла». Он понимает, следовательно, что ему придется «пересечь широкий ров времени, чтобы попасть в центр случая» («Универсальный человек», 3). Он тоже умеет «ждать». И тем не менее, он несколько уклоняется от чистого ожидания развития. Ведь в правила чистого ожидания не входит предпочитать «терпение» «торопливости», рекомендовать разумные сроки (отсрочку во времени), расхваливать «медленное» по сравнению с поспешным (ибо в конечном счете время все приведет в равновесие: испанскую медлительность и французскую живость, флегматичность и порывистость). Когда Грасиан превозносит выжидание, он делает это по отношению к определенному лицу, восхваляет терпение как черту характера и как этическую добродетель; аллегоризация идет рука об руку с психологизацией, она служит обоснованием господства над собственными страстями (принуждения, которое необходимо, чтобы «не взрываться без повода»). Мы не отходим далеко от гуманистического идеала самообладания в противоположность вынужденной заданности, зависимости от хода событий; мы остаемся в рамках логики цели и действия, даже если вплотную приближаемся к логике преобразования. Ибо стратегическое выжидание – это нечто намного больше, а скорее – нечто совсем иное, чем «созревание» планов (по контрасту с «поспешностью», которая влечет за собой одни неудачи). Выжидание – не промедление и не спешка: оно по-своему выверенно, именно потому, что остерегается всякого заранее выстроенного проекта, не знает «нетерпения», но в любой момент готово совпасть со временем процесса.
Собственно говоря, в своем понимании героических поступков наши гуманисты вплоть до Макиавелли даже тогда, когда всячески превозносили авантюризм и риск, никогда полностью не отрицали идею регулирования; они никогда не уходили далеко от этой темы: вспомним хотя бы банальный пример с «колесом фортуны». Когда Фортуна отворачивается от нас, всегда надо верить, что ее колесо «повернется снова», по очереди возвышая и повергая то одних, то других: никакое поражение не должно обрекать нас на окончательное поражение (мы не должны предаваться отчаянию). Точно так же никакой успех не гарантирует нам блестящего будущего (не следует быть слишком надменными). Наряду с этим выводом у Макиавелли есть идея о «природе вещей в мире», согласно которой всякое существование изменчиво и недолговечно, но мир в целом все-таки стабилен. Не будем забывать и того, что время в конечном счете – это «отец всякой истины»... Но здесь сравнение внезапно принимает новый оборот: нельзя не учитывать того факта, что подобное представление о колесе фортуны остается чисто мифическим (оно просто сохраняется в сознании народа, смешавшись в нем с верованиями и скептицизмом). Тем более, что у Макиавелли оно представлено несколько иначе, чем в смысле рискованного деяния: оно находится как бы на горизонте человеческого мира, на самом его краю. Его основание неизменно, а вокруг – все изменчиво, но постоянное и временное не смешиваются. И тем более время судьбы не умаляет времени случая, хотя ему и не дано превратить человеческое время в регулярное время природы.
5. Отсюда вытекают два способа понимания случая и имеется возможность предпочесть один из них: случай как совпадение или как результат. В Европе отношение «необходимость–случайность» выступает господствующей идеей; оно присутствует как бы на заднем плане и у Макиавелли: человеческий мир соткан из необходимых, но разрозненных и прерывистых последовательностей, между которыми может произойти благоприятное совпадение.
Пользуясь элементами драмы (как же любима была эта драма!..), можно сказать: случай – это милость, которая приходит только тогда, когда надлежит восстановить разорванную связь. Как в постановках на старые религиозные сюжеты, эти разрывы в конечном счете – часть существования. Вот почему, когда заходит речь о том, чтобы знать или чтобы действовать, а еще лучше – чтобы творить (совпадение – это еще и вдохновение), нам так приятно бывает подчеркнуть такое мгновенное совпадение между двумя разными хронологиями, образующее «счастливую одновременность случая» (Владимир Янкелевич, «Le Jene sais-quoi et le Presquerien, I, La maniere et Uoccasion): «пересечение» происходит регулярно (как говорится, «в назначенной точке»), как раз между мгновением «возможности» и мгновением «вмешательства». Иначе говоря, случай можно было бы определить как «точку пересечения», при которой «хроническая» разделеннось, ставшая неэффективной, сменяется «кайротическим» соединением, которым надо вовремя воспользоваться. Но оно так хрупко, что еще рано говорить о нем как о совпадении или о точке пересечения. Янкелевич, кажется, готов вернуться к традиционным терминам: ведь речь идет скорее о касании, а не об интерференции, таким скоротечным кажется это совпадение и таким бесконечно малым его время; оно – как вспышка молнии в каком-то «почти полном отсутствии времени». Отбросив греческую идею о цикличности времени и вечном возвращении, мы еще острее почувствуем исключительность случая. Она трагична по сути, и риторика любит ловко пользоваться ее пафосом. В необратимом процессе времени случай «единичен», «беспрецедентен», он никогда не повторяется, он не предупреждает о себе и не знает «второго раза», к нему нельзя приготовиться заранее, его нельзя догнать, если он упущен, и т.д. Случаясь в первый (и последний) раз, случай всегда внезапен. Этому нельзя научить, можно только импровизировать на эту тему. «Чтобы ослабить неотложность внезапности, – пишет Янкелевич, делая отступление, – нам следовало бы теснее примкнуть к кривой обновляющей эволюции: так как там нет пределов, такое «согласие» подарило бы нам – кто знает? – возможность овладеть случаем... » На этом Янкелевич останавливается и ставит многоточие. Гипотеза намечена, сделан поворот в размышлениях, возможную логику которого пытались использовать, но развить не сумели.
Наметившаяся альтернатива внезапно принимает новый оборот, потому что ее рисунок не вписывается ни в какие рамки, которые могли бы подкрепить ее и сделать более основательной. Вот почему Янкелевич останавливается в этом месте, а идея повисает в воздухе. Идею признают и развивают в Китае. В китайской традиции она сопровождает развитие на каждом из его этапов вплоть до завершения процесса, причем постоянно совпадает с ним по фазе (сравните выше: «примкнуть к кривой развития», «согласие»). Случайная точка пересечения, совпадение гарантируется всем ходом процесса: вместо того, чтобы быть быстротечным и случайным моментом, предоставленным действию, случай становится участником всех фаз и стадий преобразования. В действительности имеется изначальное совпадение еще на стадии зарождения, у истоков процесса (чжи начала); но так как его обнаруживают очень рано и опираются на него, то им обуславливается эволюция, из которой потом постепенно становится возможно извлекать пользу.
Первоначальное совпадение является «решающим» по тем возможностям, которые ему предстоит актуализовать, тогда как на другом конце, на завершающей стадии, происходит мощное накопление потенциала: между начальным совпадением и финальным «случаем» постоянно пребывает все время процесса: мы теперь подчинили его себе и можем направить в нужную сторону. На завершающей стадии случайное постепенно, путем эволюции, преобразовалось в «неизбежное» следствие; незачем теперь прибегать к инициативе рискованного действия, вмешательство в ситуацию должно быть минимальным.
Строго говоря, налицо растворение события. Сражение – это всего лишь заключительная фаза, хотя его с радостью воспевают и обычно именно оно составляет эпоху. На этом этапе главному военачальнику не приписываются никакие заслуги. В Европе же случай оказывается, по преимуществу, событием двойного назначения: пришествием и воплощением. С одной стороны, случай врывается, внезапно проявляется, взрывая процесс становления; а с другой, он заставляет считаться с временными параметрами, определяя их hie и nunc, [Здесь и сейчас (лат.) – Ред.] как та латентная фаза-причина, что существовала прежде события и теперь стремится в нем реализоваться (она и порождает причинность, замечает Янкелевич). В Китае этот момент (случай) не воспринимался ни как нечто необоснованное, чисто привходящее, ни с точки зрения причинных отношений (как та самая неуловимая causa sui, [Причина самой себя (лат.) – Ред.] которая неотступно преследовала нашу метафизику, и от которой Янкелевичу тоже не удалось освободиться). Но для Китая время случая – это переходная ступень, мгновенный просвет, в который видно постоянное преобразование.
Можно, таким образом, заключить, что китайцам уже очень давно было известно понятие длящегося времени, «медленного» его течения, которыми наша историческая наука стала интересоваться лишь недавно. Они назвали это другими именами, но такими, которые очень точно передают суть явления и даже проясняют само понятие: это «молчаливое преобразование».
6. Связывая случай с действием, воспринимая их как встречу, возводя их в событие, Европа собирает здесь в один узел все свои мысли и сводит воедино проблемы. Бесспорно, греческий ум сначала сделал все, чтобы рационализировать случай. Доверяя всемогуществу меры, опираясь на расчеты очевидного, под двойным давлением авторитета «меры» (metron) и «вычисления» (logismos), врачи, ораторы и стратеги, увлеченные перспективой бесконечной власти «наук» (technai), уже видят себя «инженерами случая» (Моника Треде). Цицерон тоже отдает дань этому оптимизму, считая, что существует точная наука о наилучшем месте и наилучшем времени («наука, – говорит он, – о благоприятных моментах», способствующих успеху). У Панэция мы встречаем «науку о случае, удобном для действия». Тем не менее, в конце V в. до н.э. в Греции вера в господство случая оказалась под угрозой: судьба стала завоевывать сцену, судьба, обращения к которой даже Фукидид не смог избежать, а ведь открытие случая тоже принадлежит ему. Кайрос присоединился к Тюхэ и почти слился с ней.
Аристотель принимает все это к сведению и относит случай к обстоятельствам, естественным образом способствующим человеческой деятельности. Другая трудность для науки – это то, что случай оказывается чем-то неуловимым для познания и не поддается обобщению. В конечном счете, констатирует Дионисий Галикарнасский, никто из философов или риторов не сказал ничего полезного относительно кайроса. Против случая рассуждение бессильно, как бессильна и решимость; ум признает здесь свою ограниченность. Так исходя из иррациональности случая было сделано заключение об иррациональности успеха. Пути эффективности запутались. Иной человек преуспевает, признает Аристотель, не только без всякого размышления, но и вопреки всем выводам науки и разума. Макиавелли остается лишь повторить слова Аристотеля: порождая иррациональные отношения, непостижимость людей и обстоятельств может, однако, дать блестящие результаты там, где разум приходит в отчаяние и расчетливый человек проигрывает.
Чтобы объяснить такое множество иррациональных моментов и избавиться от них, Запад был вынужден придумать свою мифологию Случая и персонифицировать его. Лисипп (современник Аристотеля) воплотил его в скульптуре, а Посейдипп восславил: Кайрос – покоритель всего и всех, передвигаюшийся «на цыпочках» (или «летающий повсюду») с бритвой в руке; прядь волос падает ему на лоб (чтобы за нее можно было ухватиться, встретив его лицом к лицу), но сзади у него лысина (если гнаться за ним, то ухватиться не за что). У Макиавелли Случайность тоже принимает образ богини, пребывающей в вечном движении, «с одной ногою на колесе». Все как бы предупреждают нас о том, что Случай можно «ухватить» только на лету, «за волосы», – не размышляя, не выбирая, а как бы похищая его. И все-таки мне кажется, что не следует ограничиваться только таким пониманием этого образа. Есть что-то другое в этой теме: в доказательство можно привести то удовольствие, с каким европейские авторы выстраивали всяческие аллегории по ее поводу. Если случай – это вызов разуму, остается оценить смысл, который открывается за ним, напряжение, которое создается им. Ибо к статусу иррациональности не сводится образ случая – и это со всей очевидностью проявилось в Китае. Здесь появляются новые источники Случая, возникает другая аргументация.
Прежде всего, Случай взывает как к смелости, так и к проницательности; он требует, чтобы его вызов принимался отважно, он предполагает превосходство. В древних китайских трактатах идея возвышения над самим собой не получает развития, по крайней мере, относительно отдельных личностей, поскольку случай понимается не как эффект воли, а как результат обусловленности (можно сравнить это с тем, когда войска ведут бой не на жизнь, а на смерть, потому что у них нет другого выхода). В греческих военных трактатах мы не найдем такого понятия (китайский мудрец-стратег борется – мы это видели – прежде всего с жаждой крови); во всех греческих текстах, связанных с войной, фигурирует «храбрость» (tolma,см. Гиппарх, 7; то же мы видим и у такого опытного стратега, как Брасид). То же можно сказать о риторике (от Горгия до Исократа). «Храбрость» – это та самая смелость при встрече с судьбой, из которой Макиавелли сделал доблесть как таковую, – это ее он восславляет под именем virtu. «О per fortuna о per virtu», «либо по счастью, либо по доблести»: если случай и сыграл свою важную роль в успехе основателей государств, то только потому, что он давал возможность проявиться их храбрости, позволяя им «решиться». Дело в том, что по природе Фортуна – женщина. Она уступает «горячим мужчинам» скорее, чем «холодным». Она предпочитает молодых, потому что они более решительны. Неожиданность случая вызывает прилив энергии, а риск ведет даже к подвигу. Всякий удачно использованный случай – это путь к славе, он вдохновляет на подвиг. А китайская стратегия, – мы это уже видели, – не интересуется славой и не поддается романтике героизма. Можно сказать иначе: стратегия, которая в принципе не признает героизма, и не должна быть героической.
Понятый как совпадение, случай поднимает человека выше самого себя, заставляет его идти на то, что выше его сил, до самых поднебесных вершин. Случай заставляет время идти вне его, делает неслышным его ход: здесь открывается надежда, о которой никто и не подозревал, потому что приоткрывается другой мир, мир, вызывающий головокружение. Создавая шанс прорыва, этот же случай становится шансом вырваться на свободу, а потому он приводит в движение все возможности. Китайская мысль никогда не интересовалась такой экстериоризацией (потому что другая сторона всегда комплиментарна, дополнительна, и хорошо вписывается в логику интеракции). Китайская мысль никогда не приходила в экстаз по поводу совпадения (случая). При этом она очень чутко реагирует на все то, что содержит элемент трогательного, захватывающего, того неожиданного и непредсказуемого, где все – игра, все разворачивается здесь и теперь и моментально откликается на сиюминутную ситуацию – на этот «накал настоящего момента» (по Янкелевичу). Китайская философия стремилась осмыслить пользу, которую можно извлечь из развития событий, предполагающих длительный временной отрезок, а не то, что возникает в силу исключительного взрыва страстей и сил, вызванных ими к жизни. Дело в том, что такая случайность привлекательна сама по себе (и все то, что она вызывает, и что ускользает обычно от нашего внимания, потрясающе). Вынужденный констатировать, что неопределенность на войне неизбежна, откуда вытекает, что строгая теория в принципе невозможна, Клаузевиц делает неожиданный пируэт и относит эту неопределенность к числу своих открытий и доводов в пользу своей теории войны. Ибо она открывет новые горизонты, вызывает новый прилив энергии – она отвечает стремлению к новизне. Да, утверждает он, война – это «игра», и именно в этом кроется «элемент, который вообще лучше всего соответствует духу человека»; пусть даже на такого рода связях нельзя выстроить науку о войне. Ведь «вместо того, чтобы склоняться перед жалкой необходимостью, мы врываемся в мир, где перед нами открыты королевские возможности», «мужество обретает крылья», и в результате храбрость и стойкость перед лицом опасностей становятся естественной жизненной средой, куда разум устремляется, «как бесстрашный пловец бросается в пучину вод». Итак, игра, риск, храбрость, от которых всегда старались уйти китайские стратеги.
Случай в том виде, как он интерпретировался в Европе, порождает радость риска, неожиданности, неизвестности, радость приключения, одним словом – все то, откуда, собственно, и появляются легенды и мифы (излюбленные персонажи которых совершают подвиги на войне или в любви, но при этом роль случая одна и та же). Представленный как судьбоносное совпадение, случай заставляет мечтать, его мир в конечном счете связан скорее с удовольствием, чем с эффективностью. Другими словами, все иррациональное в нем обретает свою логику на втором плане, на уровне воображаемого, и здесь возникает аллегоризация. Вот почему принято говорить о «капризах фортуны», вот почему Маккиавели советует «завоевывать» – или даже «покорять» ее – как женщину. Логика душевного подъема или логика эффективности: здесь их пути расходятся. Если пойти по пути европейской трактовки эффективности (с учетом базового разделения «цели – действия – случая»), мы оказываемся на пути, который в конечном счете ведет скорее к героизму, чем к стратегии. В самом деле, можно ли утверждать, что Макиавелли или Клаузевиц так уж озабочены эффективностью, как они говорят? Разве, в сущности, у них не присутствует всегда некая избыточность, преувеличение, по отношению к тому, что могло бы быть чистой функцией, эффектом, но что связано скорее с экзальтацией, с личной доблестью, со славой? Наверное, нам никогда не уйти от эпопеи...
В таком случае не стоит ли хотя бы на время отбросить наши сравнения и попытаться, оставаясь на позициях китайцев, понять, как эффект скромно и незаметно разворачивается сам по себе, имманентно, в соответствии с органически присущим ему состоянием последовательного развития? Воображение и страсти тоже могут быть источниками эффекта, но они в нем и исчерпываются. Важно понять, как можно достигать эффекта без лишних затрат.
НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ
(И НЕ ОСТАНЕТСЯ НИЧЕГО, ЧТО НЕ БЫЛО БЫ СДЕЛАНО)
По моему убеждению, на Западе создалось неверное представление о понятии «не-деяния» в учении о Пути (дао) – даосизме. Основополагающим текстом этой школы, в котором рассматривается «не-деяние», является трактат Лао-цзы – самый короткий из великих памятников китайской мысли (он насчитывает не более пяти тысяч слов). Он переведен на наибольшее количество европейских языков. И это, бесспорно, связано с тем, что в нем наиболее полно раскрывается суть дела, при том, что сам текст принадлежит к числу наименее поддающихся переводу памятников мировой философии. Это один из самых трудных и самых коварных текстов. Он тем более важен, что никому никогда не удавалось изучить его до конца; он всегда считался не полностью сохранившимся, а потому каждому позволительно было читать его на свой лад. Этот текст – памятник мудрости, навсегда оставшейся в прошлом, заслоненной от нас работой нашего разума или во всяком случае – «затуманенной» его стараниями. И все же его афоризмы сохранили в себе некоторое неотразимое волшебство, так что смысл их кажется одновременно и простым, и таинственным: самым простым (или наиболее глубоким, изначальным) и тем более таинственным.
Таков «Восток» – или, скорее, мираж «Востока». Восток – страна вечной экзотики, в которой Запад нашел для себя антипода, такое удачное воплощение собственных фантазий. Восприятие этой вымышленной страны осуществляется по принципу компенсации: иррациональность «Востока» может при необходимости служить клапаном для спуска пара нашей машины, получившей свою завершенную форму в науке. «Восточный» образный (и «поэтический») стиль мышления может ненадолго стать отдушиной для нашей мысли с ее понятийно-логической структурой. Но все это мы проделываем, не выходя за рамки мыслительного пространства, без всяких отсылок к «внешней» реальности. У Лао-цзы встречается такая же апофатика, как и наша, та, что представляет, по сути дела, инобытие нашего теоретического дискурса. Поэтому Лао-цзы с такой легкостью определяют по ведомству «мистики». А поскольку эффективность у нас понимается как следствие действия, то и не-деяние объясняется просто: как оборотная сторона нашего героического действия; другими словами, как отрешенность и пассивность («активный» Запад грезит «покоем» Востока).
Но не-деяние по Лао-цзы вовсе не предполагает безразличия к человеческой деятельности, не призывает отрываться от внешнего мира, а, напротив, учит, как надо поступать, чтобы преуспеть в жизни. Другими словами, это означает, что мыслитель-даос не призывает отрешиться от внешней среды, ибо для него не существует другого мира, во имя которого он смог бы отказаться от того, в котором он пребывает, в существование которого верит и ради которого готов сносить все превратности судьбы. Вообще афоризмы древних китайских трактатов по большей части обращены к государю и представляют собой политические рекомендации, или даже советы по стратегическому искусству. He-деяние важно лишь потому, что позволяет получить вполне ощутимую пользу – «овладеть» миром и установить в нем порядок. В этом суть его (единственно возможной) эффективности.
Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать формулу: «Ничего не предпринимать – и не останется ничего, что не было бы сделано» [32] (Лао-цзы, 37, 48). Связь, которую я здесь выражаю нейтральным союзом «и», на самом деле объединяет в себе два, казалось бы, противоположных смысла – противительный и сочетательный. Или возьмем другой афоризм: «Ничего не делать, и не будет ничего, что не было бы сделано». Служебное слово (эр) связывает два члена предложения и выражает сосуществование противоположностей и переход в иное; второй его смысл – в том, что оно вообще не высказывает какого-то определенного смысла; оно вводит между двумя частями особое измерение развертывания и создает (благодаря своей «пустоте») время для протекания процесса. В целом формула означает не только то, что не-деяние не исключает эффективности, но и особенно – и это важно, – что лишь ничего не предпринимая (научившись не действовать), можно наилучшим образом достичь желанного результата. В действительности на данной стадии (когда «нет ничего такого, чтобы не было сделано») двойным отрицанием заранее, еще до получения результата, снимается всякая ограниченность, всякая неполнота и создается все необходимое для достижения максимальной эффективности.
Вот почему идет ли речь о правителе или о мудреце, не-деяние – это всего лишь условие и само по себе – шаг к реализации честолюбивых мечтаний. Если говорится, что государь должен «действовать так, чтобы» подданные «не отважились больше действовать» (3), то это значит, что своей инициативой как «разумным» деянием он нарушает привычный ход вещей (действовать или говорить: в этом отношении говорить означает действовать – намеренно, открыто, напряженно; так и мудрецы говорят не больше, чем действуют (56); или же, перевернув сравнение, можно сказать, что деяние так же осмысленно, как и слово). С началом действия устанавливается «другое начало», иное по отношению к тому, как развивалась ситуация до сих пор, это «деятельное начало» (ср. комментарий Ван Би, ст. III, 45, 56 ). Поскольку это действие привносит с собой что-то чужое, интерферентное, не заданное в системе (как модель или какая-то интенция), оно неизбежно становится источником помех, «вмешивается» в процесс, препятствуя ему (64, конец). А значит, с самого начала не следует препятствовать «случаться» тому, что и без нас могло бы случиться само.
Если в европейской традиции во все времена высоко ценилась отвага, мыслитель-даос восхваляет отсутствие отваги. В его понимании действие – это опасность, вызванная всякого рода нестроениями: кому хватает «мужества, чтобы действовать», тот непременно погибает; и напротив, тот, кому хватает сил «не решиться», оказывается способен обеспечить главное – прежде всего, остаться «в живых» (73).
Как видим, противопоставляются две логики. Первая, логика активного действия, – это логика расходования и бесконечного накопления по образцу «чем больше, тем лучше». Она побуждает постепенно обновлять свои знания (48), идти всегда вперед (47). Другая логика, напротив, постоянно призывает уходить от вмешательства в ход вещей, ограничивать свои действия. В свете этого противопоставления можно лучше понять исходный афоризм: «Сокращать, постоянно сокращать до тех пор, пока не наступит стадия не-деяния: ничего не предпринимать – (эр) не будет ничего такого что нельзя было бы предпринять» (48). Нулевой уровень деяния в данном случае будет соответствовать режиму полной эффективности: «миром» можно «овладеть» лишь в том случае, если не будешь «хлопотать».
Всякое деяние всякий раз сопровождается недеянием. По мере разворачивания действия усиливается раскол между сделанным и не-сделаным, часть действия всегда неизбежно откладывается «на потом», но в будущем ее уже невозможно наверстать. He-деяние не только прямо пропорционально деянию; оно препятствует реализации деяния, подготавливает его «провал», «разрушает» деяние (64). Другими словами, у всякого деяния есть своя оборотная сторона; так и все, чем «владеешь», содержит в себе «потерю», а всякая привязанность к одному имплицирует безразличие к другому. Чем больше действий, тем больше потерь (Ван Би, 5). Вот почему лишь в том случае, если не будет больше ни не-деяния, ни деяния, удастся избежать одновременно и успеха и провала.
Как недвусмысленно следует из комментария (Ван Би, 29), тому, кто развивает свое деяние, и тому, кто приводит в исполнение свое намерение, приходится неминуемо испытывать как заинтересованность, так и разочарование. Такая случайность – оборотная сторона произвола; она требует ухода от реальной действительности, побуждает отсекать все, что выходит за пределы замысла [35]. К тому же деяние на некоторое время блокирует ход событий, хотя известно, что действительность находится в постоянном развитии; следовательно, то, что противоположно деянию (его отрицание) должно соответствовать привычному ходу вещей, сообразовываться с ним и придерживаться его (инь в противоположность вэй): следует непременно поддерживать реальность, чтобы она могла развиваться по собственному усмотрению (а значит, и по нашему тоже). Вот почему: «Те, кто хочет завладеть страной посредством деяния, – провозглашает Учитель, – совершенно беспомощны» (29) Ведь им и в невдомек, что человеческий мир нельзя уподобить «горшку», который можно взять в руки: он сотворен из видимого и невидимого, все в нем поочередно то появляется, то исчезает, ничто в нем не останавливается; одним словом, «мир не может быть предметом действия». Да, его можно считать инструментом – «горшком», – но нельзя подчинить. А чтобы им пользоваться, необходимо постоянно сообразовываться с ним.
Мы таким образом вернулись к предыдущему различению: когда мы подавляем в себе желание действовать, в нас раскрывается способность дать всему случаться своим ходом (47), а значит, появляется понимание того, что мир способен «преобразовываться сам по себе» (37). И следовательно, на смену управляемому действию приходит имплицитное преобразование. Такой отказ от управления событиями приобретает первостепенное значение в области политики. Чем больше появляется всякого рода постановлений и предписаний (а они как раз и составляют силу политического деяния), тем хуже обстоят дела в мире: чем больше запретов, тем беднее страна; чем больше законов, тем больше грабителей (57). В шутку можно сказать, что наводить порядок в большом княжестве – это все равно, что варить мелкую рыбешку (60): не следует прикасаться к ней, «потрошить или снимать чешую» (хэгиан гун), иначе все развалится. Чтобы «не появлялось ничего такого, что не вписывалось бы в порядок» (следуя все той же формуле – «не будет ничего такого, что не сможет произойти») и чтобы такой порядок – порядок, выверенный в ходе постоянного преобразования, а не порядок предустановленной гармонии, – охватил весь мир и превратился в нечто «постоянное», требуется «практиковать не-деяние» или, точнее, соблюдая тавтологичность термина, «делать не делание» (Лао-цзы, 3, 75). Тем самым мы (парадоксальным образом) подтвердили, что даосское «не-деяние» отнюдь не предполагает отсутствия интереса к окружающему миру, что оно вовсе не уводит нас от реальности, а значит, не является чем-то «мистическим». Ведь отрицается здесь не само деяние, а его внутреннее наполнение: деяние сохраняется (с целью получения будущего эффекта), исчезает только его «предметность», и та – лишь в той своей части, в которой может содержаться повод для какой-то пристрастности, косности. Освобожденная от заложенной в ней ригидности и ограниченности, человеческая деятельность начинает развиваться во всей полноте, она сливается с естественным ходом вещей и уже не препятствует развертыванию объективного процесса: если мы перестанем пытаться активно управлять деяниями, то таким образом исчезнут и случайность, и беспорядок. Действовать, не действуя: я и не действую (в соответствии с заранее составленным планом, ускоряя ход вещей своими предвзятыми действиями) и в то же время не являюсь не-действующим (не остаюсь пассивным), ибо я сопровождаю реальность на всем протяжении ее развертывания (мы действуем вместе, я – ее партнер).
По мере того, как мир перестает быть «предметом» действия, я становлюсь основной составной частью «становления» этого мира: мои «действия» не противоречат больше внутренней структуре реальности (Лао-цзы, 81). Такое чистое действие (как «чистая любовь») – деяние без действия – совершается без усилий и без «трения». Теряя свою жесткость и прерывистость, оно становится последовательным. И им можно наслаждаться бесконечно. Можно сказать и так: «действовать, не действуя», – это как «вкушать безвкусное (не ощущая вкуса)» или «хлопотать без хлопот» (63). На самом деле, подобно тому, как безвкусное («пресное») является скрытым основанием для всевозможных «вкусов» (и полностью содержит их в себе – в некотором «виртуальном» состоянии), мудрец воздействует на самые основы процесса «становления» и следует потоку его развертывания: от этого деяние или наслаждение усиливаются сами по себе, не зная никаких исключений, а потому оба становятся «неисчерпаемыми».
Вернемся к вопросу, который возник в самом начале наших рассуждений и продолжает занимать нас, равно как и китайских мыслителей, постоянно возвращающихся к нему: зародившись, процесс в дальнейшем развертывается сам по себе, что-то в нем уже задействовано, и оно должно достичь своего становления. «Развертывается сам по себе – это означает, что «порыв» содержится в существующем положении вещей, он проявляется спонтанно, естественно, и по-другому ничто и не может «произойти» (таков смысл грыжань [40] у Лао-цзы). Тем не менее, имплицитность отнюдь не означает непременной реализации: необходимо еще обеспечить все условия для его развертывания. Лао-цзы (64, конец) так переосмысливает афоризм о «действии без действия»: вместо того, чтобы «отважиться на действие», лучше «содействовать спонтанному развитию всего сущего»; другими словами, надлежит способствовать развитию всего того, что развивается естественным путем. Здесь, как представляется, у Лао-цзы намечено некоторое противоречие. Афоризм указывает на возможность появления смысла, поступательное развитие которого в конечном итоге приводит к «очевидности». Очевидность непостижима, мы можем только «обрести» ее. В той или иной степени все китайские мыслители исследуют понятие «очевидности». К нему нас постоянно возвращают и афоризмы Лао-цзы.
Рассмотрим тот же афоризм в двух его аспектах: поскольку процесс происходит естественно, в него ни в коем случае не надо вмешиваться, решаясь на действие (ибо тем самым будет нарушена спонтанность происходящего). Но с с другой стороны, следует учитывать естественный ход вещей и способствовать ему. Оборотная сторона действия (прямого, произвольного, целенаправленного), «действие-не- действие», обладает косвенной эффективностью, возникающей в результате обусловленности и реализующейся посредством преобразования. В качестве модели или основного примера используется обычно пример с ростом растений (Китай – страна земледельцев, а не пастухов). Как говорится у Мэн- цзы (II, А, 2), чтобы растения росли хорошо, их не надо тянуть вверх (прямое воздействие), но надо обрабатывать землю, на которой они растут (создание благоприятных условий). Нельзя ни ускорять рост растений, ни оставлять их без заботы. Но освобождая растения от всего того, что могло бы тормозить их нормальное развитие, мы как бы содействуем их росту. Аналогичная картина наблюдается в области политики. Хорошим правителем (а именно о таком идет речь у Лао-цзы) будет тот, кто, снимая принуждения и привилегии, способствует тому, чтобы каждое существо могло развиваться по своему усмотрению. Его действие-без-действия – это дозволение к действию, «попустительство». И оно совсем не предполагает никакого действия. Ибо главное – это действовать так, чтобы все могло происходить само по себе. Такое «потворство» развитию всегда активно, даже если собственно деяния при этом минимальны и разрозненны.
Сливаясь со спонтанным ходом вещей, наше действие-без-действия с трудом поддается формализации. Его можно интерпретировать от обратного, противопоставляя «отрегулированное» тому, что «размеренно совершается само по себе» (51) и неуловимо. Оно становится неощутимым, как только действие выходит из-под чужого влияния и соединяется со спонтанным ходом вещей, распространяясь по окружающему миру. В нем нет больше ничего такого, что могло бы выпирать, выдаваться наружу. Слияние происходит так быстро и на такой ранней стадии, что вскоре их уже нельзя различить. Действие-без-действия становится прямолинейным и плавным. Стирается граница между действием и содеянным, невозможно определить, кто стал причиной эффекта, – каждый из участников процесса искренне верит, что может претендовать на эту роль. Когда действие-без-действия правителя порождает эффект, возникая в адекватной ситуации, все говорят: «это произошло само собой» (17). Вот почему о хорошем правителе известно только, что он есть (Единственный – над всеми нами), и его заслуги тем значительнее, чем меньше о них мы знаем (но не потому, что их пытаются утаивать из скромности, а потому, что другие оказываются не способны их оценить).
Когда эффективность становится естественной («едва только» – можно так сказать, и быть может, посредством этого «едва» ее только и можно надлежащим образом раскрыть (23, начало): исчерпав в себе желание говорить о ней, мы тем самым начинаем осознавать эффективность), тогда наболее отчетливо проявляется «пустота». Другими словами, поскольку действие-без-действия соотносится с наслаждением от «безвкусного» («пресного»), то понятие «пресного» позволяет наилучшим образом представить данное действие. (Ван Би, 23). Из-за отсутствия всякого вкуса возникает некое нейтральное состояние, и именно оно делает возможным соединение с тем безразличным основанием всех вещей, что выступает основой, по сравнению с которой все они не более чем виртуальны. Соответственно, в реальности можно выделить несколько уровней (Ван Би, 25, а также большой комментарий к «И-цзину»): уровень конкретного осуществления, он же уровень актуализации («Земля») с «имплицированным» человеком на нем, уровень дискретных очертаний вещей, предвосхищающий их актуализацию и информирующий людей (чему «подражает» Земля : «Небо»), еще выше – бесконечный ход развития вещей от их латентного состояния к актуализации и обратно (ему «подражает» Небо: это «Путь»). Выше Пути уровень«естества» (как способности случаться sponte sua [Спонтанно, по своему почину (лат). – Ред]): скорее, это не самостоятельный уровень, а некое совершенное состояние «Пути», при котором эффективность проявляется во всей своей полноте.
Здесь «конечный предел», «последняя граница» (Ван Би): «естество» ничего не имитирует, выше него ничего нет, оно отличается от всего остального тем, что пребывает в гармонии только с самим с собой. Можно подумать (или поверить), что такая организация реальности соответствует платоновскому миру идей. Однако отметим, что «подражать» еще не значит «воспроизводить» (подобно тому, как нарисованное ложе воспроизводит ложе, сделанное мастером, который, в свою очередь, воспроизводит идею ложа); речь идет о замене одного понятия другим (а не о восхождении и нисхождении). Важно помнить, что речь идет не об уровнях бытия, но о стадиях или уровнях «присутствия» естества (как мы уже видели, у китайцев понимание реальности не онтологично, а процессуально). Из сказанного ясно, что организация реальности достигает высшей точки не в трансцендентном (Благе), а в той способности, которая, являясь «основанием» реальности, составляет «основу» для процесса (откуда всякий раз ведет свое начало процесс существования, – его сущность и одновременно его источник). Эта способность создает абсолютную форму «Пути». Ее можно назвать имманентной добродетелью (ср. «Дао дэ-цзин», «Книга о Пути и добродетели»).
Следует более точно договориться о значении каждого из терминов. Здесь речь идет не о нравственной добродетели, не о Благе. Основатель даосизма заявляет об этом без обиняков: подобно внешнему миру («Небу и Земле») мудрец не претендует быть человечным и действовать по-доброму (5). Ибо к его действиям не подходит ни понятие действия, ни понятие добра: когда проявляешь человечность по отношению к другим, то заботишься прежде всего о добрых поступках, индивидуальных и преходящих. Получается, что действие совершается для публики, а эффективность его невелика. Понятие добра – всего лишь норма, разработанная для внешнего мира (этика, справедливость), и именно из-за нее мир оказывается расколотым на две части, противопоставленным самому себе (как добро – злу) и в конечном итоге – искалеченным.
При уменьшении одного за счет возрастания другого теряется взаимозависимость и когерентность противоположностей (2, 49). Добродетель должна пониматься не как бытие, а как эффективность, определенное качество эффекта, способность производить некий эффект, как сила (о целебных свойствах растения, о целительной силе времени так и говорят: они «имеют силу»...). В китайском языке (и у Лао-цзы в том числе) слово «добродетель» (дэ) имеет также глагольное значение «достигать», «обретать»: добродетель – это наличие эффекта (Ван Би, 38).
Само понятие имманентности скорее бегло очерчено, чем точно определено (определить его означало бы потерять его). Три формулы следуют по спирали одна за другой, воспроизводя его логику (дважды, 10 и 51): она позволяет событию «случиться», но не владеет им, воздействует, но не обосновывает, взращивает, но не управляет. Другими словами, имманентная добродетель не узурпирует то, что порождает (она бескорыстна), совершает то, что не заслужит похвалы, она заставляет (позволяет) развиваться, но не оказывает никакого давления. Она проявляется нетрансцендентно. Можно сказать, что «все вещи опираются на нее, чтобы появиться», хотя она их не ведет, но и «не отказывается» от них; эффективность реализуется без громкой славы; она одевает и кормит все существа, но не является повелителем для них (34; это «способность», а не «господин», Ван Би, 10). Добродетель всегда проистекает из самого основания реальности («бездонная глубина» [43]). К ней постоянно должен обращаться мудрец, уподобляться ей, чтобы «не потерять» ее и чтобы она превратилась в эффективность (23). Такая эффективность за счет имманентности составляет общее место всех китайских философских текстов. Два наиболее значительных направления в китайской традиции мысли – конфуцианство и даосизм – различаются в своих трактовках эффективности: первая избегает резко разводить два смысла понятия добродетели (согласно Мэн-цзы, преимущество князя перед другими князьями может быть достигнуто силой такой добродетели, как человечность); другая традиция подчеркнуто их разделяет. Идет ли речь о внутренней справедливости или о чистом согласии со спонтанным ходом вещей, обе традиции сходятся в одном: в понимании не-деяния («недеяние» не является достоянием одного только даосизма, хотя и составляет его наиболее характерный мотив). Конфуцианство восхваляет этические совершенства, чьей высшей точкой оказывается спонтанное развитие, тогда как послушание превращается в свою противоположность – легкость и непринужденность («Чжун юн», 20). О Шуне, образцовом добродетельном государе, Конфуций говорит, что «ему удалось восстановить порядок без действия» («Лунь юй», IV, 4), а также «добиться, чтобы все совершалось без усилий» и «проявлялось, не показываясь». Эти слова могли бы стать определяющими для характеристике обеих китайских традиций (ср. Лао-цзы, 47 и «Чжун юн», 26).
Различие между даосизмом и конфуцианством, по сути, состоит не столько в том, как они представляют себе способ развертывания реального мира, а в том, как они подходят к истокам реальности. Последователи конфуцианства рассматривают реальное, исходя из «основания»: источника инициативы, постоянно воздействующего на ход событий, никогда не иссякающего, всегда направленного в одну сторону (понятие «чжэн», соотнесенное с понятием «жэнь», «человечности», солидарности, изначально заложенной внутри нас) и позволяющей производить постоянную выверку размеренного хода событий. Даосы исходят из недифференцированной основы (понятие у), не препятствующей актуализации как отдельных существ (ю как параллель у) [45], так и всей полноты естественного пути развития – дао, который поворачивает вспять, как только достигнет своего апогея. И даосы и конфуцианцы сходятся в вопросе об имманентности эффекта. Независимо от того, является ли определяющим нравственное влияние, или же развитие протекает в соответствии с естественной склонностью (нравственная эффективность всегда естественна), завершение тенденции происходит само по себе, все идет своим чередом без внешнего вмешательства (Лао-цзы, 73), и результат появляется в свой черед (Мэн-цзы, IV, А. 9). Идет ли речь о «пути», «дао», или об этике, реальный мир неизбежно сам приходит к ним, возвращается к ним (ср. двусмысленность слова «гг/м»(??)). На самом деле под «возвращением» понимается как бы возврат реального мира к его исходному «основанию» («основание» недифференцированности или «основание» человечности; ср. Лао-цзы, 22, 34; и «Лунь юй» 21, 1; «Мэн-цзы», IV, А, 4 и 13). И этот возврат приходит «с прибылью», что вполне объяснимо, так как речь идет о продуктивности, эффективности. В этом отношении мнение всех мудрецов едино: возвращение к имманентности – гарантия надежного прибытка. Мудрецом в Китае считается тот, кто постигает естественный ход вещей и действует так, что мир возвращается к нему как платеж по долгу.
3. Поскольку не-деяние, восхваляемое даосами, не лишено своих стратегических преимуществ, не приходится удивляться, что к нему постоянно обращаются советники двора. Теория не-деяния – не отвлеченный вывод мудрецов, она помогает не только правителю, но и всем тем, кто хочет добиться успеха в жизни, в обычных условиях, на самом низком уровне; точнее было бы сказать, что когда мы отказываемся от видимости деяния, то событийность как бы растворяется и все кажется «равным». Ситуация изменяется, но «тихо, без громких слов». Когда речь идет о делах дипломатии или политики, то наиболее первичным уровнем данного не-деяния является, как мы видели выше, выжидание. «Мудрец своим не-деянием (в своем не-деянии) достигает того, что называют «добродетелью» (Гуйгу- цзы, гл. «Бэнь цзин»). Очень важно правильно осознать суть этой формулы, которая наиболее выразительно звучит в теории даосизма: следует терпеливо выжидатьне только в том случае, если обстоятельства складываются таким образом, что это необходимо для самосохранения (и для будущего, которое, как мы смеем надеяться, наступит), но и, что особенно важно, в случае, когда мы не решаемся предпринять какие-то действия, поскольку они могли бы нарушить привычный порядок вещей. Таким образом, здесь предлагается ничего не делать для достижения наибольшей эффективности. Следует еще раз вернуться к тому, чему учит даосизм: бесполезно пытаться силой изменить ситуацию. Такое действие может быть героическим – во всяком случае, ярким и выдающимся, - но всегда бывает малоэффективным: все будет напрасно, все, что будет предпринято при таких условиях, потерпит крах. Поэтому советник двора «намечает свою стратегию» только после того, как «отделит легкое от трудного» (Гуйгу-цзы, там же). Его действия сводятся к тому, что он идет по пути наименьшего сопротивления, при этом не встречая никаких препятствий на своем пути; он поступает в соответствии с рекомендациями трактата о дипломатии, то есть приспосабливается к «спонтанности и изменчивости протекающего процесса», естественного дао, что и делает его стратегию столь «эффективной». Чем лучше ему удается угадать направление естественного хода событий, тем полнее его действие растворится в потоке жизни и сольется с ним.
Формула «не-деяния» легко применима в искусстве дипломатии: если при взаимодействии с другими мы умеем приспосабливаться к обстоятельствам, то в любом случае сможем с выгодой для себя воспользоваться ситуацией, вплоть до того, чтобы ею же и управлять, не предпринимая ничего конкретного (Гуйгу-цзы, гл. 1, «Бай хе»). В отношениях между людьми, имеющими разные интересы, не- деяние означает, что мы, спокойно приспосабливаясь к ситуации, укрепив свой дух (по даосской системе), то есть воздерживаясь от проецирования своих идей и намерений на ситуацию, или, как об этом говорится в трактате, «скрываясь», – можем таким образом безраздельно властвовать над другими (Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»).
Образ змея или дракона хорошо передает ту мобильность ума, которая позволяет свободно, непринужденно эволюционировать (здесь эволюция противоположна деянию): так дракон плавно изгибает во всех направлениях свое бесформенное тело, то сжимается, то растягивается, то свертывается, то развертывается; он составляет единое целое с облаками и несется вперед, увлекаемый ими и не затрачивая энергии. Его даже трудно различить на фоне неба. Точно так же и стратегическая линия, не направленная ни к каким определенным целям, не застывает в каком-то одном виде, а следует за всеми поворотами событий, имея полную возможность ими воспользоваться: если стратег ничего не делает, это означает, что он не разбрасывает и не расходует свою энергию на какие-либо определенные действия, не подобно извивающемуся телу дракона, пользуется непрерывным обновлением ситуации, чтобы – постоянно извиваясь - продолжать движение вперед.
Хорошо видно, как тонко, изощренно дипломатия усвоила «не-деяние» даосов. Если даосизм имеет в виду общий порядок вещей, то придворный, советник, названный в трактате «мудрецом» (оставим здесь это слово), преследует исключительно свои личные интересы (осуществимые через правителя), не испытывая при этом никаких угрызений совести. Особенно интересно то, что если даосизм совершенно не приемлет рассудочной деятельности (обясняя это тем, что разум искажает изначальную простоту вещей; Лао-цзы, 19), то придворный включает не-деяние в свой стратегический расчет, который, как известно, действует тайно и прибегает к разного рода махинациям (Гуйгу-цзы, гл. «Моу», конец).
В то же время здесь последовательно проводится мысль о необходимости (для достижения своих личных целей) приспосабливаться к ситуации. Следует принять естественный ход вещей, реагировать на него «как самка», советует Лао-цзы (значение шунь или инь); это позволит научиться стратегическому поведению, связанному не с действием, а с реакцией (ин); а тогда окажется достаточно одного такого движения, напоминающего скольжение, чтобы полностью изменить будущее. В то время, как действие рискованно, поскольку оно реализуется в не до конца понятой ситуации, а также – в начале процесса – требует больших затрат сил и энергии, то когда речь идет о деянии-без-деяния, то есть о реакции, дело обстоит совершенно иначе: если просто реагировать на ситуацию, то это не ведет к какому-либо риску, так как ситуация уже стала вполне определенной и окончательно проявилась. Это не требует лишних затрат энергии, поскольку можно использовать ту энергию, которая была затрачена другим человеком, создавшим эту ситуацию. Наконец, если действие обусловлено произволом первоначального акта и должно в какой-то мере влиять на реальность, чтобы иметь возможность вписаться в нее, то реакцию оправдывают уже те обстоятельства, которые ее спровоцировали. Действие обязательно будет обусловленным и опосредованным (оно должно быть, с одной стороны, подготовлено каким-то намерением, а с другой, мотивировано каким-то желанием), в то время как реакция может быть непосредственной (вызванной волей и мыслью другого).
Иначе говоря, если действие – трансцендентно и предполагает внешнее влияние (требующее признания и уважения), то реакция вводит нас в логику имманентности, в соответствии с которой достаточно просто принять существующее положение вещей. Приведенные рассуждения можно проиллюстрировать следующим образом. Если действие под влиянием заранее разработанного плана утрачивает гибкость и застывает на какой-то определенной точке, живость реакции позволяет ей быть легкой и мобильной: отзываясь на любые воздействия как тело змея-дракона (вспомним змея горы Чан, чью стратегию предлагают в качестве образца: когда на него нападают со стороны головы, он поднимает хвост, когда со стороны хвоста – он поднимает голову, когда на него нападают сбоку, голова и хвост поднимаются одновременно: Сунь-цзы, гл. «Цзю ди»). Таким же образом в трактате о дипломатии делается вывод о том, что реакция «не имеет своего определенного места» (Гуйгу- цзы, гл. «Бэнь цзин» ): она может проявляться в любой точке, в любое время. Одним словом, ее невозможно «локализовать».
4. Рассуждая таким образом, можно сформулировать следующее парадоксальное утверждение, смысл которого не всегда очевиден: «не-деянием» может питаться идея диктатуры. В самом деле, обратимся ли мы к традиции, или к свидетельствам текстов, невозможно отрицать, что политическая концепция авторитарной власти у «легистов» была непосредственно связана с положениями даосской философии. Но, по сути дела, в этом нет ничего странного (и тексты в этом смысле не дадут нам никакого опровержения, как показал Леон Вандермеерш): поскольку авторитарная власть распространяется на все и заставляет всех испытывать на себе ее давление, то постепенно она превращается в тоталитарную и уже не испытывает необходимости действовать столь целенаправленно. Очевидно, что раз и навсегда навязанные всем и всему правила и условия жизни, всеобщее полное подчинение неминуемо являются результатом такой политики.
Когда тирания достигает своего апогея, тирану уже ничего не надо делать, ему остается только следовать естественному ходу вещей: подчинение тирану становится спонтанным и самопроизвольным; и таким образом достигается режим идеальной реактивности, а трансцендентность, доведенная до своего логического завершения, превращается в имманентность.
Обосновывая абсолютную авторитарную власть, китайские «легисты» именно от имманентности ожидают наибольшей эффективности (означающей, по мнению «легистов», полное подчинение). В соответствии с анализом, проведенным одним из лучших теоретиков этого направления (Хань Фэй-цзы, гл.8, «Ян цюань»), природа такой власти, являющейся результатом определенных условий, связана с тем, что она никогда не проявляется открыто и явно, а носитель власти сам пребывает «пустым и бездейственным», предоставляявласти самой осуществляться. Такая ситуация объясняется тем, что хотя деятельность разворачивается во многих направлениях, «главное» находится в центре, и этим, как мы видели, определяется положение власти. Представляется, что исходя из этой диспозиции формируется и аппарат власти: центральное положение позволяет суверену, с одной стороны, установить порядок поощрений и наказаний для всех подданных, заставляющий каждого индивида действовать под влиянием страха или корысти; а с другой стороны, дает возможность благодаря тщательно разработанным процедурам коллективной ответственности, соперничества и слежки держать под контролем все население. Поскольку этот аппарат таков, что он действует, или точнее, реагирует, как простой механизм, правителю не приходится больше беспокоиться о том, чтобы вершить суд: наказания и поощрения осуществляются автоматически. Ему не надо больше прилагать усилия, чтобы следить за порядком, благодаря хорошо отлаженной системе доносов. Когда такой режим окончательно устанавливается в обществе, необходимость в наказании может уже отпасть, потому что каждый подданный внутренне уже созрел для того, чтобы – по своему желанию или вопреки ему – соблюдать установленные законы. Каждый выполняет свои обязанности так же естественно, «как петух поет по утрам» или «как кошка ловит мышей», а «мудрецу» (в данном случае – государю-деспоту) ни о чем не приходится «беспокоиться». Ему достаточно крепко держать в руках бразды правления, и тогда «со всех сторон ему готовы будут оказать помощь»: он должен только дождаться, когда его власть проявится в полной мере, и тогда каждый подданный будет готов проявить всю свою преданность по отношению к своему правителю.
Теоретик деспотизма пытается показать преимущества такого строя: благодаря автоматическому действию механизмов власти ее функционирование будет всегда адекватно (ср.: «все так хорошо организованно вокруг него (правителя), что как только он открывает двери, все уже готово»); функционирование власти непременно будет четким и ровным, потому что не зависит от доброй воли правителя или других людей; кроме того, такая власть будет постоянно возобновляться и продлеваться: таким образом, механизм может действовать беспрестанно, его функционирование всегда будет размеренным и последовательным. В результате общая картина будет иметь следующий вид: правитель тем могущественнее, чем меньше он вмешивается в ход событий; таким образом, «как внизу, так и наверху», как на уровне народа, так и на уровне правителя «больше нет необходимости действовать». Поскольку каждый занимает свое место, все идет само собой; все винтики и колесики, когда-то запущенные в ход, автоматически продолжают вращаться.
Именно в таком контексте следует понимать, почему о власти говорят, что она – «пуста» (ср. «пустота и бездейственность»; он «ожидает», оставаясь «пустым», чтобы другие начали действовать вместо него). «Пустота», вакуум, означает в данном случае, что правитель предоставляет возможность действовать механизму власти, принадлежащей ему, не вмешиваясь в ее функционирование, и следовательно, не привнося в нее ничего личностного (он сам действует как простое механическое устройство): он остерегается проявлять и даже в мыслях иметь какие-либо предпочтения, поскольку его субъективное мнение могло бы нарушить безупречное функционирование власти; не в меньшей степени он опасается проявить открыто свой глубокий ум, чтобы не мешать четкой работе всей системы (кроме того, у других людей могло бы возникнуть желание начать соперничать с ним, чтобы выяснить, у кого умственные способности выше, и если бы правитель оказался ниже окружающих его людей, то это привело бы к конкуренции и борьбе за власть, что тоже могло бы разрушить систему сложившихся взаимоотношений).
Идеальный деспот воздерживается от обычного «управления», так как проведение определенной политической линии означает, что установление какого-то сиюминутного порядка подменяет собою следование тому глобальному порядку, который вытекает из всей системы. Кроме того, оно бы свидетельствовало о том, что некие индивидуальные намерения накладываются на то, что должно работать само по себе, только исходя из своих внутренних потребностей. Хороший суверен, если он не желает нарушить этот имманентный самодостаточный порядок, должен особенно опасаться проявлять свою добродетель: выказать великодушие или благородство означает поставить под сомнение закономерность поощрений и наказаний.
Этим объясняется то, что его роль называют «пустой»: идеальный государь остается «незаметным». Теоретик авторитаризма говорит о нем то же, что сказал бы мудрец-даос: должно быть лишь известно, что «он существует наверху» (Хань Фэй-цзы, гл. 38, «Нань сань»). Однако можно заметить некоторое внутреннее противоречие в этой версии деспотизма, связанной с «не-деянием». Если даосизм проповедовал не-деяние правителя для того, чтобы дать возможность раскрыться индивидуальности подданных, освободив таким образом их инициативу от жестких рамок предписаний и запретов (которые, как полагают даосы, непосредственно связаны с развитием цивилизации), то «легистский» деспотизм выполняет прямо противоположную роль: подчинить всех индивидов власти одного человека, воплощающего само Государство.
В то время как даосизм направлен на установление социального порядка, характеризующегося «естественной простотой», «легисты» стараются организовать отправление власти на совершенно искусственной основе (власть должна быть независима от чувств и эмоций правителя и основываться только на действующих в данном обществе законах и нормах и на строгом контроле за их соблюдением). Тем не менее они ожидают, что такая искусственная организация, сконструированная чисто механически, будет действовать самопроизвольно; именно таким образом они пытаются возродить идею «не-деяния», принадлежащую даосизму, а также положение о естественности процесса: Суверен не должен ничего делать, а должен предоставить возможность проявиться естественному ходу вещей, ибо тогда повиновение придет само собой, а социальный порядок установится самопроизвольно. «Легисты» близки даосам в части, касающейся критики разума и отказа от идеала добродетели, а также в том, что они приписывают спонтанности большую эффективность. Но коль скоро «легисты» стремятся к ускоренному развитию общества на исходе китайской Древности и не верят в возможность возвращения к патриархальному обществу, о чем говорится у Лао-цзы (80), они особенно озабочены тем, чтобы правитель мог стать самым могущественным среди других суверенов, оспаривающих его власть. Для восстановления единства Китая «легисты» готовы пойти на любые меры – в том числе деспотические – и использовать все преимущества имманентности: только при условии, что они сумеют радикализовать власть до такой степени, что она снова станет незаметной (и сольется с функционированием аппарата); таким образом они придадут ей характер закона природы, действие которого неизбежно и неминуемо, и им удастся представить ее как естественную и само собой разумеющуюся.
Даосизм показывает путь имманентности при освобождении от социального принуждения, тогда как «легистский» деспотизм обращается к имманентности только для того, чтобы сделать принуждение абсолютным. При следовании одной и той же логике рассуждения сделаны совершенно противоположные выводы: но даже при столь ярко выраженном деспотическом характере легистской тирании мы вновь видим перед собой то самое соотношение условия и результата, которое стало структурно организующим для всей китайской концепции эффективности. Если условия неподходящие, то, как указывает мыслитель-легист, (Хань Фэй-цзы, гл.28, «Гун мин»), сколько бы ни было проявлено героизма, результат будет плачевный: сколько бы ни было приложено сил, «колос не вырастет зимой»; когда же условия становятся благоприятными, то результат приходит имманентным образом – без необходимости прилагать особые усилия, увещевать, призывать, торопить, подталкивать; так же, как «течет вода или плывет корабль», суверен и деспот следует естественному пути и все ему бесприкословно подчиняются. Именно поэтому суверена называют «совершенномудрым». Он должен только спокойно ждать.
ПОЗВОЛИТЬ ЭФФЕКТУ ПРОЯВИТЬСЯ
Следует признать, что практически никогда никому не удавалось решить очень важный, быть может, даже самый важный вопрос, от которого зависит результативность действия: при каких условиях возможна эффективность, что нужно с нашей стороны, чтоб достичь ее в той или иной конкретной ситуации? Разумеется, этот вопрос неоднократно ставился в научно-технической области, чей объект исследования стабилен и строго определим. А еще – в области искусства: в повествовательных искусствах, в эстетике и риторике. Эффективность в данном случае носит специфический характер – убедить или произвести приятное впечатление. Но тот же вопрос ни разу не рассматривался в общем плане, с точки зрения поведения человека в живом неопределенном мире, как не рассматривался он и в свете более широкой стратегической перспективы: в Европе не было разработано искусство получения результата (даже «Князь» Макиавелли не дал нам его), как не изучалась в теоретическом плане и «хитрость» (metis). Ибо все наши исследовательские усилия были направлены на изучение «действия» – добродетельного и удивительного, являющегося предметом этики или эпопеи.
Но после знакомства с учениями мудрецов древнего Китая мы начинаем сомневаться в том, что эффективность измеряется чем-то видимым, осознанным, реальным. Зрелищная эффективность далека от настоящей эффективности: она продолжает оставаться пеной на поверхности, вместо того чтобы постепенно раствориться в реальной действительности. Самоутверждаясь, она порождает антагонистические реакции: отсюда бесконечный разлад и путаница. Напротив, мудрецы древнего Китая учат нас не хитрить с себе подобными (как это делают Одиссей или Ренар), а ловко использовать реальную обстановку, полагаясь на логику ее развития, что позволяет, с одной стороны, получить объективный эффект без каких-либо усилий и затрат, а с другой стороны, избежать неприязни окружающих и сохранить с ними терпимые отношения. Все стороны эффективности взаимообусловлены, и, по Лао-цзы, она возможна только тогда, когда отвечает трем основным параметрам: эффективность исключает принуждение, присвоение и пресыщение.
Можно ли об эффективности поведения сказать больше, чем уже было сказано и чем о ней продолжают говорить повсюду? Мягкая рассудительность, идущая из глубины веков, составляющая основу любой мудрости (так называемой «народной» мудрости или же «государственной») со всей очевидностью напоминает, что всем нам необходимо по возможности избегать всяческих излишеств. Исходным для Лао-цзы является образ кувшина, который, будучи не наполнен, держится вертикально, и наклоняется, как только его начинают наполнять (9). Чтобы заполнить до краев, его будут удерживать силой. Но как только ничто не будет удерживать его, он начнет падать и содержимое прольется. Вот почему лучше остановиться до того, как он будет наполнен, чтобы, находясь в равновесии, он не опрокинулся. Еще образ: слишком тонко заточенное острие в конце концов ломается. Мораль: не нужно прилагать лишних усилий (наливать, затачивать...). По-гречески этот девиз звучит как meden agan, «ничего слишком», по-китайски – цю тай (ср. Лао-цзы, 29). Здесь возникает и «чрезмерность» как предмет единодушного осуждения, может быть, слишком банальный – но только на первый взгляд. Ведь излишества, осмеянные в эпиграмме и воспетые в греческой трагедии, в Китае воспринимались бы несколько иначе. Превышение меры опасно, ибо оно может завести нас из человеческого мира в иную, гораздо более опасную область, например – в мир богов: такова «дерзость», hubris . Оно опасно еще и потому, что способно вызвать к жизни неподвластные нам силы, которые непременно попытаются испытать нашу судьбу. Вместе с тем в Китае превышение меры не означает ее нарушения. Учитывается только логика развертывания ситуации в том смысле, что жидкость, например, при избытке переливается через край, а слишком тонко заточенное острие ломается. А значит, избыток эффективности оборачивается против самой эффективности. Избыток эффективности убивает эффективность. Исключив любой нравственно-религиозный фон (который, однако, всегда приходится допускать в большей или меньешей степени), приходится признать (исходя из самого понятия эффективности), что насильственным образом умножаемая эффективность превышая порог реально допустимого, перестает быть осмысленной и разрушается.
Следовательно, главное – чтобы эффективность не подвергалась перегрузкам со стороны того, кто ее производит. Она должна оставаться естественной эффективностью, свободной от влияния дополнительных эмоционально-человеческих факторов (30). Мы довольствуемся чистой эффективностью как таковой, мы далеки от того, чтобы воспользоваться ею с целью показать самих себя в выгодном свете: мы далеки от высокомерия, бахвальства, тщеславия. Чтобы в результате эффективность была достаточной, необходимо, чтобы она вытекала из данной уникальной ситуации, осуществлялась когерентным образом и воспринималась окружающими в качестве неизбежной, единственно возможной, не таящей в себе никаких уловок. Следует избегать излишних усилий, которые, безусловно, не способны усилить самое эффективность. В противном случае эффективность становится зависимой от неестественных изменений ситуации, к которым приводит любое применение силы. Более того, эффективность в данном случае сопровождалась бы нерациональной тратой сил. А в конечном итоге усиление воздействия приводит к ослаблению самой эффективности, к ее недолговечности, поскольку всякая сила есть не что иное, как обратная сторона слабости, порождающей ее в порядке компенсаторного эффекта: когда применяется сила, эффективность оказывается зависимой от колебания отношений междy силой и слабостью. Она при этом готова в любую минуту переметнуться к другой стороне.
Кроме того, зависимость делает ее самое непрочной, так как любое проявление силы всегда временно; а значит, ее воздействие ничтожно и обречено на мимолетность.
Любой фактор, направленный на усиление эффективности, превращается в «помеху», затрудняющую ее возникновение и особенно тормозящую ее проявление. Это значит – «выдаваться вперед и выделяться», говорится у Лао-цзы (24). «Неустойчиво держится тот, кто стоит на цыпочках, не может ходить тот, кто широко шагает». Все, что делается в избытке, не только совершается впустую, но и подрывает основы возникновения эффективности. Чем больше превышение меры, тем меньше остается от эффективности, ведь чрезмерность приводит не только к изменению или ослаблению эффективности, но и препятствует проявлению естественных процессов, таких, которые должны были бы проявиться без приложения каких-либо усилий. Вместо чистой эффективности возникает всего лишь сопутствующий эффект, за который к тому же приходится заплатить дважды: внутри, когда разрушается эффективность, и вовне – когда она становится далека от желательной. Ведь вместо того, чтобы протекать «незаметно», как бы спонтанно, эффективность становится выделенной, вызывая «напряженность», фокусируя на себе «противодействие», что в конечном итоге завершается утратой эффекивности.
У Лао-цзы то же требование сформулировано еще жестче: «Раз уж эффективность начала проявляться, не следует цепляться за нее». Умный стратег не припишет ее себе, не поставит себе в заслугу. Ведь как только эффективность начинает принадлежать кому-то одному, тотчас логика присвоения станет сказываться на эффективности, «наказывать» ее, поскольку все то, чем мы владеем, предназначено для того, чтобы его отдавали. Присвоение способно лишь наделить спорным характером самое эффективность. «Обладание эффективностью» (см. 77, Гуйгу-цзы, глава «Моу») предполагает, что обладая ею как позицией, мы тем самым покушаемся на чужую позицию. Из-за соперничества обладателей двух разных позиций эффективность теряет свою естественную природу, а ее продолжительность становится ничтожно малой. Напротив, достаточно не держаться за эффективность, и она не покинет нас: закрепление эффективности за конкретным человеком делает эффективность ненадежной, а принадлежность всему окружающему миру обусловливает ее жизнеспособность, возвращает только ей одной присущую имманентность.
Данное стратегическое положение можно выразить следующим образом: «Пусть эффективность развивается своим путем и да исчезнет тот, кто ее производит». Здесь выражены две мысли: во- первых, та, что эффективность вытекает, как результат, является следствием, а не замыслом; во-вторых – вместо того, чтобы выступать творцами эффективности и наживать себе на этом славу, лучше поставить во главу угла факторы-носители эффективности, для раскрытия которых следует создать максимально благоприятные условия. Перед нами более глубокое понимание «героизма»: любой ценой стараться, чтобы эффективность достигалась без насилия, без дополнительных усилий, чтобы она никоим образом не находилась на виду, и при этом не претендовать на плоды этого всего, возвеличивая самого себя. Эффективность должна достигаться в порядке вещей, незаметно в конкретной обстановке, как бы поглощаться ею – и сама становиться реальностью. Отказ от явной интенсификации усилия (от решительности, активности) должен ставиться в зависимость от того, что порождает эффективность: усилие превращается в эффект лишь в том случае, когда оно подчинено процессу развертывания, помогает делу и становится частью эффективности. Отсюда требование не «насыщать» ее. И не только не превышать границу эффективности, но и не доводить ее до предела. «Пять разных цветов ослепляют, пять нот оглушают, а от пяти вкусов ощущение становится неприятным».
Хотя изречение, призывающее к «уменьшению своих желаний» (Хэ шан гун), выше приводилось как предписание нравственного характера, отказ от крайностей позволяет заключить, что у ощущения больше эффективности, поскольку она проявляется менее настойчиво (ср. «чрево» в противоположность «глазу» как органы соответствующих способностей): эффективность прекращает проявляться, как только усилие оказывается наибольшим и начинает переходить границу. Более того, эффективность проявляется не тогда, когда усилие возрастает, а когда ей самой приходит время случиться.
Когда восприятия достигают своей вершины и наполняют чувства, эффективность перестает ощущаться и становится неэффективной. Она тем более не ощущается, если усилие подается полностью и сразу. Напротив, эффективность сможет проявиться только потому, что будет иметь место преобразование, позволяющее плавно переходить из одной стадии в другую, восполняя недостаток усилия за счет не-усилия. Тогда можно наблюдать явление постепенного уравновешивания или плавного выравнивания усилия (15), как это происходит в случае со взбаламученной водой, когда, успокоившись, она постепенно становится прозрачной, или напротив, когда некое существо, впавшее в оцепенение в результате длительных потрясений, вновь обретает жизнь. Вот почему дао отказывается от состояния полноты. Ведь у полноты нет будущего, она обречена на исчезновение, поскольку переходит за предел, а все ненаполненное стремится к полноте, и тем самым, к постоянному обновлению.
Вот почему в конечном итоге настоящая эффективность всегда кажется недостаточной. «Великое дело избегает удаваться» (или: «ждет до вечера»), – говорит Лао-цзы (41). Так в современной живописи, часто ограничивающейся лишь наброском, а все, что кажется недостающим, как бы приглашает продолжить работу автора, обеспечивает творению долгую жизнь и со временем не перестает оказывать свое влияние; незавершенность способна поддерживать эффективность в деятельном состоянии. Как в случае, когда «звук приглушен, зато сильно его звучание»: в противоположность пяти нотам, которые все вместе оглушают, доводя восприятие до предела и лишая ощущения эффективности, небольшой силы звук тем лучше распространяет свою гармонию, чем сильнее он сдерживает свои порывы, отступая вглубь. Другими словами, чтобы как следует проявляться, настоящая эффективность должна оказаться прямо противоположной завершенному усилию, которое постоянно отстает от своего результата; это необходимо как раз для того, чтобы не прекращать своего существования. «Большое достигается только при постоянной нехватке; и значит, его применение неисчерпаемо; полнота подобна пустоте, и значит, ее применению нет предела». Можно еще сказать, что прямота кажется кривизной, а ловкость неловкостью, красноречие – сдержанностью и т.д. Отметим, что слово «кажется» отнюдь не указывает на действительно недостаточный характер эффективности. Вполне законно допустить ее кажущейся, чтобы она постоянно находилась в состоянии становления, творчества и никогда не поддавалась актуализации. В противном случае, достигнув полноты и распространившись на «весь горизонт», эффективность не сможет выполнять свою функцию проявления и возобновления. Другими словами, настоящая эффективность всегда кажется «пустой». Образ отсутствия, пробела является одним из ведущих у Лао-цзы: долина (ср. «полная мощь как будто всегда слаба» и «высшая мощь подобна слабости»(41)) Сквозь пустоту отсутствия проходит «дух», никогда не угасая – и заполняя ее собой. Так же и эффективность: благодаря своей пустоте, она никогда не выступает в полном объеме, и лишь ее влияние бывает максимально полным.
2. Существуют два способа понимания пустоты. Или это пустота не-существования, вписывающаяся в метафизическую перспективу бытия и не-бытия. Такова пустота в буддизме (sunya на санскрите, кун по-китайски). Или же это функциональная пустота Лао-цзы (понятие сю): она проявляется как коррелят полноты, благодаря ей полное способно оказывать свое воздействие. Эти две трактовки настолько различаются между собой, что их никогда не спутаешь, даже если в дальнейшем они бы и оказали друг на друга влияние (известно, что отчасти именно благодаря этому недоразумению буддизм из Индии, индо-европейской, метафизической страны пришел в Китай; здесь мы со всей очевидностью понимаем, что чужие мысли можно усвоить лишь тогда, когда ошибаешься, одно принимая за другое).
Противоположная незаполненному пространству и функционирующая соотносительно с ним пустота у Лао-цзы является средой, индиферрентно поглощающей полноту. Из пустоты полнота начинает осуществляться, когда она превращается в эффективность. Следовательно, пустота не есть «небытие»; она составляет латентную основу вещей; так говорят о полотне картины или о тишине: они составляют почву для порождения и звучания звука, для появления рисунка; подобные аналогии мне кажутся наиболее подходящим способом преодоления онтологического атавизма.
Продолжим наше сравнение с произведением искусства: далекий от того, чтобы быть бессодержательной пустотой, наш пустой холст предстает в виде «тонкой грани», противостоящей полноте эскиза; она позволяет конкретному уничтожиться и стать дискретным, а полному выступить с полной силой во всей плотности: так бесконечно тонкое и острое движение штриха освобождается от тяжеловесных форм и вещей, в то же время пронизывая и оживляя эти формы и вещи. Его пустота удерживает полное от увязания. Если бы тонкий штрих перестал проходить через реальность, она окончательно превратилась бы в нечто застывшее, неподвижное и бессильное; без постоянного прилива сил из пустоты реальность полностью превратилась бы в безжизненное пространство. Лао-цзы приводит множество образов, иллюстрирующих это положение (11). Все спицы колеса сходятся в ступице, а «именно там ничего и нет», там (в центре, где находится ось) выемка, пустота, но именно она обусловливает «работу повозки» (колесо вращается и повозка движется вперед). Подобным же образом обрабатывается глина, из нее делается сосуд, а «внутри у него ничего нет», но именно этой пустотой осуществляется функция сосуда: благодаря внутренней пустоте сосуд превращается в полезный предмет, способный содержать в себе что-то. Или еще один пример: благодаря пробиваемым в стенах дверям и окнам дом становится жилым.
Когда полное становится пустотелым благодаря выемке, сделанной в дереве, в земле или в стене, оно делается способным выполнять определенную функцию и производить эффект. Эта мысль обобщена у Лао- цзы следующим образом: то, что выступает как «польза» на стадии актуализации вещей, проявляется как «функционирование» на уровне их индифферентной основы (11). Благодаря актуализации полного, бесконечное функционирование пустоты может выйти из своей неопределенности и проявиться как особая польза; но благодаря безучастности пустоты, служащей латентной основой для вещей, любая особенная актуализация также перестает ограничиваться своей особенностью, находит себе место в контексте наряду с другими особенностями, открывая тем самым свою собственную виртуальность, – ибо реализация пустоты порождает специфическую эффективность. С другой стороны, пустота, делающая эффективность неопределенной, является генерализующим и исходным условием ее существования.
Возможность эффективности осознается полнее, если принимать во внимание два свойства, которыми она обладает благодаря пустоте: общаться и развертываться. Обе функции настолько тесно переплетаются между собой, что лучше говорить о них в негативном плане, от противного: если бы не индифферентность пустоты как общего основания, то индивиды не смогли бы встретиться и взаимодействовать между собой, выделяя каждая свою эффективность (благодаря действующему «промежутку» – понятие у); если бы «пустотность» пустоты не выступала как проводящая среда, то эффективность не могла бы развиваться и распространяться. У Лао-цзы понятие эффективности пустоты (тун – Ван Би, 14, '0,44) характеризуется следующим образом: вус – это то, что позволяет эффективности переходить из одного состояния в другое. «В месте, лишенном актуализации, ничто не способно ни уйти, ни пройти, ни перейти в другое состояние».
Эффективность перестает проявляться, как только полное становится непроницаемым для пустоты и превращается в препятствие: образуя отражающую поверхность, полное превращает реальность в нечто застывшее, лишенное всякого движения. Да оно и невозможно: сплошное увязание. Свободное от всякого мистицизма (поскольку отсутствует метафизическая установка), сведение всего к пустоте, которое так восхваляют у Лао-цзы, в сущности есть не более чем призыв разблокировать ситуацию, жертвой которой становится реальность, как только она лишается промежутков времени и становится насыщенной. Все, что заполнено, недоступно для творчества. С исчезновением пустоты разрушается тот промежуток, в котором могла бы проявиться эффективность. Превратившись в нечто непроницаемое и жесткое, лишенное пустот для заполнения, реальность выступает как тормоз. Следовательно, полнота, приведенная в порядок, становится препятствием для спонтанного развития ситуации.
Прежде всего данное предупреждение важно в политическом отношении: развитию реальности всегда препятствует избыток полноты, упорядоченной и насыщенной всякого рода запретами, которые, получая дальнейшее развитие, в конце концов тормозят развитие общества и исключают любую эволюцию в нем. Вот почему реальность надо очистить от всех этих запретов и предписаний, вводя пустоту как основу дальнейшего развития. Снятие кодификации – а любая кодификация есть не что иное, как паралич реальности – открывает простор для инициативы, которая способна развиваться sponte sua: достаточно пустоте дать проявиться, как действие тотчас становится не-действием.
Пустота – это то, что удерживает реальность «на плаву», а значит нечто эффективное и «подвижное» (в противовес «увязшему»).
Пустоту нельзя рассматривать как нечто духовное или материальное, связанное с физикой тела или метафизикой души. У пустоты логика функциональная: пустота – это то, что позволяет полному оставаться жидким и дышать, оставаясь «воздушным»; она удерживает его «на плаву» и поддерживает в нем жизнь (и это важно, поскольку перспектива выступает тогда не как перспектива души, сущности, а как перспектива жизни как процесса). Китайская живопись дает яркий пример, делающий ощутимым взаимодействие пустоты с полнотой. Именно такое взаимодействие изображается на картинах китайских художников: белый цвет фона на свитке позволяет сплошным линиям «общаться» между собой, он образует то незаполненное пространство, в котором завязываются отношения и устанавливаются связи. Наряду с этим он им дает возможность развивать свою эффективность, делая набросок бесконечным – на пространстве бесконечности.
Достаточно чуточку ослабить нажим, делая его незаметным, как за ним откроется бесконечность, лежащая в основании вещей; малейший промежуток способен продлиться до самого дальнего горизонта. Вот почему горизонт рассеян по всему свитку, пронизывает весь рисунок сверху донизу; «небо» не ограничено какими-то рамками, а присутствует всюду (или скорее, его нет, но оно творит повсюду). Пустота в нашем наброске делает его мгновенным отпечатком того, чего нет, а не выставляет напоказ «видимое» во всей его красе; он улавливает невидимый поток – поток невидимого (шэнь), и наш эскиз превращается в линию. Именно отсюда пустота постоянно черпает свою эффективность: если полнота всегда ограничена и нам всегда кажется, что ей вот-вот наступит конец, то пустота неисчерпаема. Ее основание бесконечно. Вывод: пустота – неисчерпаемая основа эффективности.
У Лао-цзы говорится (4): «дао – пустота, но как только им начинают пользоваться, его никогда не удается исчерпать» (более того, его невозможно и заполнить заново, ср. 35) И еще: «Когда начинаешь его использовать, не приходится много трудиться» (6). Пустота ничему не противоречит, мы не даем поводов для недоверия и сопротивления, так и в случае наших успехов окружающие спокойно воспримут их. Люди будут введены в заблуждение нашим отступлением и сами придут нам на помощь: вместо того, чтобы брать на себя всю полноту действий и стремиться к насыщению, к полноте, активно действовать, лучше воспользоваться пустой эффективностью, направляя к единому центру напряженность ситуации. «Успех будет обеспечен» (эр, т.е. надо учитывать «пустоту», понимаемую как незримое развертывание событий, приведшее к успеху). Последние становятся первыми: мы на Западе постоянно твердим об этом, но здесь это происходит не в порядке вознаграждения (и не благодаря какому-то сущностному превосходству), а по логике имманентности, вытекающей из определенной ситуации. Более того, отсутствие – это еще не самоотречение, а скорее, стремление почувствовать себя в состоянии реализовать собственные интересы в более благоприятных условиях (если свое «я» мы рассматриваем как нечто внешнее, то отступление означает лишь отсрочку и появление при более благоприятных условиях). Речь опять-таки идет об эффективности. Остается лишь осознать теперь, как подобное самоуничижение, завершающееся успехом, достигаемым чужими руками, вписывается в самую общую логику, в соответствии с которой противоположности порождаются одна другой, один аспект обусловливается другим. Нас учат (67): для того, чтобы быть в состоянии управлять другими, не следует «выделяться». Мы как будто становимся экономными, не тратим сил на то, чтобы показать себя мудрыми или человечными, чтобы храбро рваться в бой. Одно может перейти в другое, противоположности способны взаимообращаться, одно создает резерв для другого, в котором этот другой черпает свои возможности: одно подготавливает другое, заполняет пустоту другого, чтобы затем вернуться к исходной полноте. Храбрым становишься только тогда, когда научаешься быть жалким; запас сил для того, чтобы почувствовать себя мудрым, появляется лишь тогда, когда учишься быть скромным. Противоположное служит почвой, порождающей свою противоположность. Лао-цзы утверждает, что тот, кто сразу заявляет о своей решимости и величии, обречен на неминуемую гибель: ведь здесь у щедрости, решительности и величия нет той почвы, на которой они могли бы появиться. Вот почему нельзя рассчитывать на то, что эффективность может быть вызвана, она может только случаться; не ищите эффективности самостоятельно, но будьте готовы принять ее. Эффективность есть нечто такое, что пожинается, как плод. Вот почему «щедрой» всегда является та позиция, которая находится где-то внизу и не блистает добродетелью. Следовательно, она всегда «с нами» (28); такую добродетель, способную притягивать эффективность к себе и только к себе, хорошо передает образ «моря», в которое впадают реки (39, 66). В чем причина того, что реки и моря управляют остальными текущими водами? В том, что они находятся внизу: море незаметно притягивает к себе реки, текущие по склону, подчиняет их себе за счет перепада уровня. Сила моря подчинять себе реки идет «снизу вверх».
Подобно морю ведет себя мудрец по отношению к простому люду: его речи ставят мудреца «ниже» людей. Мудрый правитель всегда говорит: «Я, ваш покорнейший слуга» или «Я, одинокий сирота» (39). А если правитель и оказывается над людьми, то они не страдают от этого, напротив, бывают счастливы продвигать его все выше и при этом не чувствуют себя утомленными (66). Мудрец без всякого труда использует в своих целях чужую энергию (68). Такая покорность означает на самом деле умение ставить себя ниже других и не имеет ни моральных, ни психологических оснований. Суть ее чисто стратегическая (61). У Лао-цзы эта идея переносится и в область дипломатии: вместо того, чтобы навязывать свою гегемонию, вызывающую неизбежное неприятие большая страна по собственной воле решает по ставить себя «ниже» малых стран, содействуя тем самым появлению у них желания обратить свой взор к большой стране: так у большой страны по является влияние, она завоевывает «авторитет». Продолжая развивать эту мысль, Лао-цзы утверждает: «Незаметен тот, кто сам восхваляет себя; неизвестен тот, кто сам себя утверждает; хвастун не достоин уважения; бесславен тот, кто гордится собой» (24).
Эффективность опосредована – и только, она проявляется лишь в процессе. Кто стремится добиться непосредственной эффективности, тот лишь затрудняет возможность ее получения. И не потому, что он нетерпелив и стремится как можно быстрее достичь поставленной цели, а в силу того, что он составил себе неправильное представление о реальной действительности: все, что прямо направлено на достижение эффективности, связано с усилием, но эффективность как результат достигается только в ходе процесса, изменяющего ситуацию, а не в зависимости от поставленной цели и прямо вытекающих из нее действий. Глубоко ошибается тот, кто стремится насильственно добиться эффективности, предпринимая «рывки», вместо того, чтобы следовать по пути дао, на котором эффективность случается сама по себе. Вот почему, если избегаешь хвастовства, то будешь на виду, если не будешь самоутверждаться, то будешь известен и т.д. (22) Эта мысль находит свое подтверждение и в этическом плане: претендующий на величие правитель – это всего лишь лже-правитель, величие его не более, чем претенциозность. Он на всю жизнь останется жалким и мелочным. И наоборот: только потому, что он до самого конца не стремится быть великим, правитель оказывается в состоянии добиться истинного величия (63) и становится по-настоящему великим государем.
Любая стратегия получения эффективности сводится в конечном итоге к простейшей истине: нужно уметь ее имплицировать, то есть научиться пользоваться ситуацией таким образом, чтобы она, без всякого принуждения, сама порождала эффективность. Развитие такой логики позволяет заключить, что настоящим стратегом является тот, кто сумеет наилучшим образом заполнить пустоту ситуации, да так, что она явится источником компенсаторной эффективности, мощное проявление которой будет действовать в пользу мудреца.
Не без удовольствие читаем мы у Лао-цзы: «Если ты согнут или увечен, то лишь для того, чтобы превратиться в здорового; если ты кривой, то для того, чтобы превратиться в прямого; если ты пуст то для того, чтобы быть заполненным» (22). В чрезвычайных условиях зарождается естественная склонность, способная увлекать нас к противоположной крайности. В случае отрицательной, «пустой» крайности мы попадем под регулирующее напряжение реального, уносящее нас помимо нашей воли к противоположной крайности, к полноте. Эту мысль, отмечает Лао-цзы, способен усвоить лишь тонкий ум, и затем он использует ее в борьбе со своим противниками: «Если хочешь что-то свернуть, то должен прежде развернуть (пример с исходной ситуацией, эффективность которой должна выводиться естественным путем быть ей внутренне присущей; ср. понятие гу. Если же мы хотим что-то ослабить, то мы должны это усилить, если хотим что-то упразднить, тс нам следует укрепить это; если хотим что-то устранить, то должны это увеличить (36). Эта мысль успешно применяется Ван Би в области политики: «Если хотите избавиться от деспота, пустите его катиться по наклонной плоскости, бросьте его в доведенную до крайности тиранию. Он сам пойдет по пути, ведущему к гибели, и произойдет это лучше и легче, чем ежели бы вы пытались покарать его».
Извлечем урок: освобождение Китая наступит в результате саморегулирования реальной жизни а не революционным путем. Хотя правда и то, что революция – пароксизм, то есть высшая степень действия, имеющего цель. Революция всегда претендует на эпический размах.
[В начале века понятие революции были усвоено Китаем, хотя оно и шло вразрез с традиционным понятием «мандата» и его «утраты» (гэ-лшн); так или иначе, это слово послужило для обозначения «революции». Страной было заимствовано не столько понятие модели, сколько практика, нацеленная на изменение реальной действительности на основе революционной теории марксизма-ленинизма, приведшей к революции в России 1917 г. Верят ли в нее в Китае до сих пор?]
Великодушие и покорность порождаются сами собой, исходя из той компенсации, которую они имплицируют, а не стимулируются высоким вознаграждением. Вспоминаются слова из Евангелия, параллель которым мы находим на последних страницах Лао-цзы: мудрец обладает тем большим, чем больше он отдает другим (81). Бесспорно, что «чем большим ты обладаешь, тем выше тебя почитают»: мы действительно обладаем чем-то ценным, если люди не стесняясь приходят к нам за помощью. Подобное отношение к другим не требует вознаграждения с их стороны, и в то же время выигрыш сказывается незамедлительно, хотя он может быть и растянут во времени. Такое отношение вполне реально, свободно от лжи или лицемерия. Мудрому и в голову не приходит притворяться, как мог бы поступить вероломный правитель; людям не приходится разрываться между видимостью и правдой (дабы подчеркнуть жестокость правителя или заманить другого в ловушку обманчивостью внешней видимости). Другого захватывает реакция на эффективность, вызванная таким отношением. Тем не менее великодушие и покорность представляются подозрительными с точки зрения морали: даже в Китае конфуцианские книжники трепетали при одной лишь мысли о том, что, прикрываясь учением о мудрости, толкователи Лао-цзы выведут наиболее эффективную стратегию, способную наилучшим образом обслуживать заинтересованные круги (см. Лю Инь, XII в., «Цзинсю сяньшэн», «Дуйчжайцзи»).
Исходя из принципа взаимозависимости противоположностей, пронизывающей все аспекты реальности, и учитывая тот факт, что влечения, обусловленные им, притягивают друг друга, превращаются друг в друга и становятся неисчерпаемыми, мы можем смело пользоваться компенсаторной логикой реальности, дабы заставить ситуацию реагировать в нужном направлении. Для этого достаточно начать движение в сторону, противоположную результату, который мы хотим получить (так бывает, когда удаляешься вглубь, чтобы вырваться вперед; когда занимаешь нижнюю позицию, чтобы подняться наверх, и т.д.). Ситуация складывается тогда, когда мы еще не вошли в нее, и в ней уже виднеется выход, так что мы уже пользуемся теми плодами, которые остаются пока незаметными для других. По сути, достаточно только не оказывать давления на вещи, чтобы наши самые корыстные интересы обусловили появление эффективности; будет достаточным, если эти цели впишутся в траекторию вещей, да так, что эффективность проявится сама под влиянием своей имманентности.
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ – К ПОЛУЧЕНИЮ ЭФФЕКТА
1. Вместо того, чтобы изобретать психологию воли – в Китае она так и не была разработана – мы лучше сосредоточимся на феноменологии эффективности. Ведь эффективность одновременно и слишком проста в своей причинной обусловленности, и слишком легко объяснима, одновременно слишком откровенно вторична и слишком совершенна, чтобы можно было правильно осознать появляющийся эффект; понятие ее слишком узко и ограниченно, и вместе с тем – слишком резко отделено от целостного процесса, порождающего ее; эффективность слишком плоско-результативна и тем самым – слишком зрелищна и выразительна (до такой степени, что порой кажется искусственной: как в том случае, когда речь заходит о поиске «эффектов» в музыке или в поэзии, или же когда речь идет об «эффектном, красивом жесте»: такой эффект одновременно слишком театрален и слишком техничен).
С одной стороны, эффект и эффективность различаются между собой; с другой, они близки, у них общий латинский корень (efficere: «делать так, чтобы...»). По сути своей, эффект – операциональное измерение эффективности, то, к чему ведет эффективность и от чего зависит ее наличие; эффект – это осуществленная эффективность; эффективность всегда носит в себе зародыш эффекта, эффект периодически возникает, обусловленный ходом процесса, в прямой зависимости от логики поступательного развития, а не от логики создания. Следовательно, эффективность в ее полноте и насыщенности дает эффект, и как таковая, во многом определяется им; эффект же, напротив, предполагает эффективность как нечто пустое и пребывающее в процессе развертывания, становления, и в силу этого никогда открыто не проявленное, как бы не существующее, но и неисчерпаемое.
Именно это свойство эффекта всегда интересовало китайских философов. Они не слишком заботились о том, чтобы противопоставлять бытие становлению, не задавались вопросом о происхождении реальности (и о том, зачем она возникла; поэтому в Китае и не были созданы мифы о творении). Китайские мыслители скорее ставили вопрос о том, как реальность «происходит», как она осуществляется (понятие юн) и благодаря чему она становится жизнеспособной в определяющем ее развитие поле дао. Реальность постоянно проявляется не только как эффективная, но и как аффективная, эмоциональная (ган). В силу своей целостности и размеренности она беспрестанно развертывается и продолжает бесконечно «происходить», ее никак невозможно исчерпать.
Так мы приходим к понятию «происхождения», процессуальное – приходим путем игры слов, но возможно ли поступать иначе, если нам необходимо установить разницу между словами? Все реальное – процесс и только процесс, и в плане человеческого поведения реальным становится только то, что составляет элемент процесса, то, в чем выражается процесс. В отличие от эффективности, обусловленной действием, остающейся в пределах соотношения «средства – цель», эффект не надо искать, не надо прикладывать никаких самостоятельных усилий для его получения. Он вытекает из естественного процесса, и вся стратегия будет заключаться лишь в том, чтобы научиться имплицировать его, находить процесс, движущийся в нужном направлении. Появление эффекта происходит естественным путем, само по себе.
В силу того, что эффективность как имплицитное следствие, вытекающее из процесса как непременного условия появления эффекта, возникает опосредованно по отношению к поставленной цели, она выступает в качестве своеобразного «плода», который «созревает» в результате незаметных преобразований, а не по причине героических усилий и предпринятых «рывков». Реальность нельзя взять «штурмом», поспешными действиями, – подчеркивает Мэн-цзы (II, А, 2). Необходим длительный процесс как непременное условие появления эффекта. Как известно, как бы мы ни тянули вверх растение, оно от этого не станет больше: ему надо расти самому.
Парадоксальным образом выходит, что «высшая добродетель» (или высшая доблесть, сила) не бывает добродетельной, а потому добродетель (доблесть) заключена в ней самой; добродетель (или доблесть) не может перестать быть добродетельной, а потому в ней нет добродетели (Лао-цзы, 38). В этом противоречии яснее открывается очевидность: добродетели (доблести) всегда бывает более чем достаточно, она никогда не иссякает, не исчезает, разве что только тогда, когда ее пытаются номинально отыскать как таковую (я «хочу быть» добродетельным); она проистекает из своего собственного источника sponte sua и может быть использована, но не обретена.
Тот, кто постоянно стремится обрести добродетель или силу и не преследует никаких других целей, кроме как добиться добродетели любой ценой, действуя каждый раз «умышленно», никогда не сможет обладать ею в полном объеме. Это в частности предполагает (сколь бы парадоксальным это ни казалось), что движение в неблагоприятном направлении («против течения») может быть непременным условием эффективности (и появления эффекта). Погоня за экономией с целью увеличения эффективности всякий раз умаляет эффективность, приводит к ее неминуемой гибели. Как только мы устремляем свой взор на то, ради чего действуем, и сосредотачиваем все внимание на этом действии, само действие становится «пристрастным» (Ван Би), «нарочитым», нацеленным только на то, что изначально было задумано, и в конечном итоге, приводит к ничтожным результатам. Ограниченность мотивации не позволяет подняться над сиюминутным интересом, тогда как истинная суть этой специфической ситуации в том и заключается, чтобы постоянно содействовать пополнению эффективности. Поэтому очень важным оказывается различие между такими добродетелями, как «человечность» и «справедливость». Поскольку обе они предполагают действие, их следует отнести к разряду низших добродетелей, хотя первая, «человечность», выше второй, «справедливости», ведь действовать человеколюбиво означает действовать без цели, ради самого действия, и даже не имея в виду этого действия, под влиянием внезапного чувства сострадания. Скорее, здесь речь идет о реакции, а не о действии, о пробуждении в каждом из нас чувства вселенского масштаба, такого, которое не надо ни предусматривать, ни выбирать. Ведь чувство жалости испытываешь к человеку только потому, что перед тобой человек. Значит, добродетель «человечности» распространяется на все человечество и «великодушно» объемлет его. И напротив, когда чувство «любви к другому» выражается в не столь широком масштабе, действие становится «справедливым», в него постоянно вносятся поправки, оно уточняется, ограничивается в зависимости от обстановки. Его добродетель обречена, она истощается и оказывается неспособна завершиться сколько-нибудь значительным действием.
Существуют две степени действия: действие без намеченной цели – великодушное, избыточное; действие заранее условленное – урезанное. Главное различие между «человечностью» и «справедливостью» состоит в том, что справедливость осуществляется как ответное действие, «шаг за шагом» (скорее, «шаг – за шаг») и завершается с появлением эффекта, тогда как человечность способна сама породить эффект, укрепляя одновременно и эффективность. Это связано с наличием «почвы» эффективности, которая обычно незаметна, но как только ее «задействуют», доводит эффективность до полного раскрытия, сама же при этом остается «неиссякаемой» (см. «И-цзин», «Цыси», А, 5). Напротив, интенциональность сдерживает проявление эффективности, удерживает ее на поверхности лишь на том уровне, на котором она смогла появиться. Она не находит себе места, поскольку возникла поневоле (ср. смысл и применительно к интенциональности – Лао-цзы, 20; Мэн-цзы, VII, В, 33). Что, в свою очередь, является отражением феноменальности, соответствующей каждой из них: высшая доброде-тель проходит незамеченной, поскольку у нее нет заранее поставленной цели: отсюда отсутствие «добродетели», о которой говорилось выше. Ее невозможно выделить и определить, поскольку она сливается с эффективностью; ее вообще невозможно распознать (Ван Би: великого полководца не восхваляют). Следовательно: высшая добродетель проходит незамеченной в силу того, что не имеет заранее поставленной цели.
У низших добродетелей есть имена; ведь они преследует явную цель, прилагают усилия к достижению эффективности и успешно достигают ее. Низшие доблести можно было бы считать настоящими добродетелями. Да, можно было бы... Но, как только они утверждают себя, они сразу же дают повод к своему опровержению и становятся предметом противодействия (поэтому-то они и становятся заметными). Низшие добродетели одновременно и более определенны, и более спорны.
Феноменология эффекта связана не с видимой эффективностью, а с ее невидимой частью. Ведь для получения полноты эффекта с точки зрения его мощности или плотности мало оставаться на уровне одной только эффективности, как и недостаточно задействовать только добродетель «человечности», заложенную природой внутри каждого из нас (Ван Би, 38). Даже обращение к добродетели «справедливости» не делает наше поведение достойным, не говоря уже о том, что тщательное соблюдение ритуалов не приводит к очищению самих ритуалов. И ритуалами не достигнешь справедливости: чуть что – и отклонения налицо (57). Ведь чистое еще не дает полной чистоты, полное не обуславливает настоящей полноты (39). Мы оказываемся не в состоянии получить настоящий эффект (Ван Би, 4) даже тогда, когда мы, казалось бы, вплотную подошли к возможности достижения полной эффективности и могли бы максимально использовать ее с целью выявления эффекта. Эффект, полнота эффективности – это еще не настоящая эффективность (та бывает «пустой», происходит из «почвы»). Даже если остановиться на «добродетели» дома, дом от этого совершенным не станет. Мы можем перейти от дома к княжеству, можем даже овладеть им, но никаких усилий недостаточно, чтобы до конца заполнить это княжество. Уровень, который кажется достаточным, на самом деле оказывается недостаточным. Для получения эффекта (а эффект этот – полная противоположность полноте эффективности), важно постоянно располагать незадействованной эффективностью, и конечно же, располагать той дискретной «почвой», благодаря которой усилие может быть по-настоящему эффективным. «Почва» неисчерпаема, и (в отличие от зримого усилия) она тем сильнее, чем активнее действие, обусловливающее эффективность. Эффект может появиться только в том случае, если усилие «действует» в благоприятном направлении и располагает источниками эффективности. Источник становится неиссякаемым, как только процесс «пошел». Циклический характер движения в духе «пути» (дао - 40) проявляется в том, что приходится постоянно возвращаться к стартовой позиции процесса. Логикой постоянного возвращения к началу пронизана вся теория Лао-цзы (тема «обмана» и тема «питания», 28); регресс не противоположен прогрессу, а напротив, имеет целью уплотнение и поддержание движения в благоприятном направлении.
Обычно о наличии «почвы под ногами» говорят применительно к человеку; но и в отношении эффекта также важно говорить о его «почве», другими словами, об имманентном основании эффекта. Эта основа эффекта изображается в Китае при помощи образа «ствола» дерева, на котором развиваются ветки – происходят единичные явления (Ван Би, 57). Можно также сказать, что речь идет о «матери» эффекта и ее «детях» [63] (52, ср. Ван Би, 32, 38). Находясь на уровне «матери эффекта», нет надобности продолжать действие, чтобы эффект мог наступить: добродетель «срабатывает» сама, без того, чтобы требовалось обосновывать ее проявление; она развертывается и не имеет «соперников». И напротив, если не заботиться об имманентной почве, спонтанно порождающей эффект, мы останемся, собственно, на стадии «зарождения» эффекта (Ван Би, 39), и как бы мы ни ускоряли наши усилия, эффективность будет обречена. Между двумя стадиями существует разница не на уровне сущности (как полагает наша метафизика), а на уровне актуализации. Полная актуализация возможна только в том случае, если постоянно осуществляется возврат к неактуализованному; при движении «против течения» (пока еще эффективность не начала актуализоваться), она конкретизируется и дифференцируется (изначальная «единица» у Лао-цзы); усилие уже становится жизнеспособным, но пока еще удерживается от окончательной реализации и получает импульс к непрерывному возрастанию, которое и позволит ему превратиться в эффект. Благодаря виртуальной «почве», усилие способно «создавать» действие и актуализоваться.
2. В конечном итоге именно так следует понимать не-деяние правителя или, точнее говоря, его способность «действовать без действия». Ситуация перестает быть парадоксальной: правитель «действует» (так говорят), пока реальность еще не достигла актуализации (64). Действие в данном случае идет, но идет в неблагоприятном направлении, да так, что в нем вообще невозможно усмотреть никакого действия. Ведь мудрый правитель знает (мудрец – это тот, кто все умеет и знает), что в основе эффективности лежит процессуальность, а не претензии на руководство делами и конкретной ситуацией, на совершение каких-то подвигов. Ему хорошо известна точка зрения Лао-цзы, в свете которой дерево «начинается с того, что совсем ненамного возвышается над комлем», а чтобы возвести башню, следует «устроить насыпь вровень с землей». И что путешествие в дальние страны начинается у нас под ногами. Что бы ни предпринималось (путешествие или строительство башни), прежде всего речь идет о процессе (растущее дерево). И каким бы незначительным или непритязательным ни было начало, оно всегда является началом процесса. И чем раньше мы начинаем оказывать влияние на ход вещей, тем меньше нам придется впоследствие поддерживать его.
На стадии актуализации реальность становится исключительно «жесткой» и тормозит всякое продвижение процесса. Тогда следует ускорить «действие», сосредоточиться на нем и превратить его в активную деятельность. Как и на стадии актуализации, реальнее оказывает сопротивление действию, действие ослабевает, иссякает, а эффективность сходит на нет. Когда же актуализация совершается в неблагоприятном направлении, «против течения», то реальная действительность, напротив, продолжает оставаться гибкой и плавной, в ней нет места сопротивлению, ведь еще не случилось то, чему придется противиться. Случается только то, что конкретно. На данной стадии (стадия 6у – 28, 32) реальное еще полностью не задействовано, его функция еще не определена окончательно. Вот почему его можно понемногу подчинять себе, и малейшее подчинение станет решающим, ведь в нем будет содержаться процессуальная составляющая вещей, которая позже начнет проявляться во всей полноте.
Из вышесказанного Лао-цзы делает следующий вывод применительно к человеческому поведению: стратегию следует разрабатывать на стадии движения «против течения». Это для нее наиболее благоприятные условия, в которых не проявляются еще никакие явления, симптоматические для будущих изменений (64,73). Этот вывод справедлив и для военной стратегии. Так, китайские стратеги считают, что врага тем легче победить, чем дольше – все дольше и дольше – будет длиться противостояние сторон, столкновение в его незавершенной форме. Данная последовательность напоминает о себе в связи с деградацией эффективности: наилучшей представляется стратегия выжидания, когда нападение на врага совершается в тот момент, когда он начинает разрабатывать свою стратегию; здесь можно поразить его «союзников», помешав объединению его вооруженных сил, затем – его «войска», и только уже в самом конце – «места» их дислокации (Сунь-цзы, гл.З, «Моу гун»). Эффективность уменьшается по мере того, как проясняется ход вещей: чем конкретнее становится реальность, тем труднее ею управлять.Чем острее становится конфликт, чем скорее процесс продвигается вперед, тем сложнее выстраивать наше поведение. И чем активнее мы действуем, тем труднее нам действовать. На уровне «места», при осаде, когда противостояние достигает максимума развития (до такой степени, что действие начинает тормозиться), инициатива реализуется с трудом. Чем большие силы вводятся в действие, тем более значительными становятся потери. И для победы потребуется больше времени и усилий. Вот почему «одержать сто побед в ста сражениях» – это всего лишь посредственный результат, хотя он и может показаться грандиозным. Суть военного искусства – предупредить действия врага и заставить его отступить, действуя незаметно, «против течения», вопреки процессу развертывания военных действий – с тем, чтобы не пришлось впоследствии давать новый бой (Сунь-цзы, гл.З, «Моу гун»). Действовать «против течения» означает добиваться эффекта на расстоянии. Не следует надеяться на эффективность с ближнего расстояния. Лучше поражать врага с как можно большего расстояния: обязательно надо узнать его замыслы и сделать так, чтобы он остался без военачальника (Сунь-цзы, гл.11, «Цзю ди»). Как мы видели выше, победу надо одержать задолго до того, как она станет свершившимся фактом. И опять-таки ничего нет удивительного в том, что мы торжествуем победу, когда она уже одержана и когда другие ясно это понимают. Настоящему стратегу дано увидеть «росток» до того, как он прорастет (Сунь-цзы, гл.4, «Син»). Он способен заранее определить все возможные условия и управлять развитием ситуации в нужном направлении.
Для достижения успеха важно учитывать существенное различие, с одной стороны, между «конфигурацией, позволяющей мне победить» и становящейся достоянием всех, а с другой стороны – конфигурацией, при помощи которой я определяю или управляю этой победой и которая остается тайной для окружающего мира (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши»). Две конфигурации ситуации: при движении «против течения» (определяющая, но неощутимая) и при движении «по течению» (очевидная и ощутимая). Очевидной и эффективной становится та конфигурация, которая предшествует актуализации; она по сути своей есть нечто большее, чем дислокация войсковых частей; ибо она состоит из всех фаз процесса, когда я потворствую врагу с тем, чтобы постепенно разбить его.
Укажем еще на одно различие, позволяющее уточнить неощутимый характер такого управления ситуацией (ср. комментарий Мэй Яочэня): люди полагают, что основу успеха составляют ощутимые «следы», а не «имплицитные конфигурации» [66], очертания которых обусловили предыдущую эволюцию и при помощи которых я добился успеха. Другими словами, людям видна эффективность (как только она случается, она принимает определенного рода ограничение и становится результатом), а не место, откуда она берет начало и куда «ведут следы» – все то, что привело к эффекту. Согласно древнему трактату по дипломатии, две вышеназванные стадии могут быть представлены в виде «круга» и «квадрата»: до своего видимого проявления ход вещей имеет вид «круга», а с появлением первых признаков ситуация начинает управляться «квадратом» (Гуй-гу-цзы, гл.2 «Фань юн»).
До актуализации действуют «круги», после актуализации в действие вводятся «квадраты». «Круглое» соотносится с подвижным, открытым разным возможностям, не имеющим жесткости, лишенным «ребер» и «углов». «Квадратное» предполагает выбор жесткого правила или направления, четкую определенность и неподвижную закрепленность в конкретной позиции. Первоначально при движении «по течению» наша позиция приспосабливается к конкретной ситуации, а уже потом, после того, как она приобретает какую-то форму, ею начинают управлять; сперва ситуация эволюционирует, а мы применяем дипломатию, затем она созревает и мы «принимаем меры» (пример с квадратным камнем – Гуйгу-цзы, гл. «Бэнь цзин»). На начальной стадии ничего еще неизвестно и «знакомство» осуществляется при помощи «круглых» форм, еще «нейтральных» по отношению ко всему, что может быть приведено в движение. Затем начинается движение, в действие вводятся «квадратные» формы, позволяющие сохранять стабильность. Можно привести также пример с круглым «Небом», определяющим ход вещей, и квадратной «Землей», которая эти вещи воплощает. В областях, связанных с гаданием, «круглое» связывается со стеблями тысячелистника, которые, скользя между пальцами, позволяют уловить невидимую (не-предвидимую) эволюцию ситуации. «Квадратное» соотносится с фигурой гексаграммы, рамкой, которая поддается окончательному определению и позволяет установить тот или другой конкретный случай в его относительной устойчивости («Чжоу-и», «Цыси», А, 11). Из двух вышеуказанных стадий первая (круг) является стратегически важной; трактат о дипломатии призывает обратить на нее основное внимание: она допускает развитие в любом направлении, реагирует на малейшие случайные изменения и использует для своих целей малейшие возможности, заложенные в тех вещах, с которыми она находится в тесном контакте с самого начала движения.
3. Лао-цзы подчеркивает (27), что исходное действие, проявляющееся в движении «против течения», при котором все гибко и нет никакого противодействия, далеко от того, чтобы идти «по проторенной дороге»: ведь оно учитывает любую случайность, незамедлительно реагирует на любое изменение и не поддается ни кодированию, ни жесткому закреплению. «Проторенная дорога» – это след, оставленный чем-то тяжелым и косным. Истинная эффективность постоянно импровизирует, она никогда не может увязнуть в какой-то колее; ее не надо поддерживать. Уместно привести здесь еще некоторые афоризмы Лао-цзы (27): «умеющий мастерски ездить не оставляет на дороге следов от колес», «умеющий искусно считать обходится без счет и записных дощечек», «умеющий надежно закрывать ворота обходится без задвижки и засова, и тем не менее их открыть нельзя», «умеющий крепко привязывать не пользуется ни веревкой, ни цепью, а развязать невозможно». Речь идет здесь не о какой-то сверхъестественной способности, а, напротив, как подчеркивает Ван Би, о том, чтобы умело воспользоваться тем, что совершается само по себе, совершенно естественным путем, ничего не подстраивая, ничего не провоцируя. Успех достигается легко, и эта легкость обусловливается имманентностью, той самой имманентностью, с которой действие составляет единое целое. Эффективность не магична, не технична (ранее мы видели, что здесь имеет место альтернатива: что не технично, должно быть отнесено к области иррационального и магического). Если мы начинаем действовать на очень ранней стадии, еще лишенной всяких рамок и помех, нам не приходится проникать в особенности построения вещей (47), применять какие-либо средства – ибо на данной стадии вещей как таковых нет, как нет и причин, препятствующих движению. И след, оставленный на дороге колесом, и инструмент являются ущербными с точки зрения чистой процессуальности. И все следы – эти всего лишь «промахи», «ошибки», которые можно охарактеризовать в свете вышеприведенных формулировок: умеющий верно говорить не делает «ошибок», так как он обходится без «анализа» и «различения», появляющихся только на уровне реального, актуализация которого сопровождается дифференциацией. Следы, ошибки, орудия – вот составляющие реального, которое случилось, стало конкретным, будучи обусловленным внешним, насильственным воздействием; здесь, заключает комментатор, нам не приходится определять ход вещей «при их актуализации» [67].
С одной стороны, до того, как начнется «актуализация», а, с другой стороны, как только произойдет «индивидуализация», нам следует или внести изменения в метафизику, или просто- напросто отказаться от нее (ее предметом является противопоставление вечного бытия – становлению, абсолютного бытия – бытию видимому); нам следует перейти к логике процессуальности, пройдя через этап вышеуказанного первичного противопоставления, но исходя при этом не из противопоставления, а лишь из соположения различных стадий развертывания реальности. Даже у Аристотеля противопоставление потенциального актуальному не рассматривается как абсолютное, а опыт Китая свидетельствует о том, что не может быть речи о «форме», которая в своем «актуальном» состоянии телеологически не обусловливала бы «развитие». Получившаяся в результате эффективность лучше всего может быть понята от противного: когда мы желаем достичь какого-то эффекта, то неверно думать, что он может быть достигнут лишь при помощи наших личных усилий. При этом нельзя упускать из виду то, что все, подвергающееся индивидуализации, совершается непременно в одном из направлений, но неизбежно имеет свою оборотную сторону, открывает новый «путь» в обратном направлении. Это справедливо вплоть до стадии конкретной индивидуализации: ведь любая индивидуализация порождает свою противоположность (следовательно, на этой стадии любой эффект сопровождается контрэффектом). Любое действие порождает противодействие: появление категорий «добра», «прямоты» свидетельствует о возможности появления категорий «зла» , «кривизны», развитие которых последует в обратном направлении. Следовательно, принимая какие-то определенные меры с целью непосредственного получения эффекта, мы содействуем тем самым появлению в пустоте противоположных возможностей, порождающих контрэффект.
Лао-цзы справедливо указывает на то, что вместо принятия каких-либо единичных мер с целью получения эффекта следует действовать напрямую, «вниз по течению», избегая расщепления противоположностей (20, 58), и в то же время – как можно четче фиксировать эти противоположности. В результате процесс станет развиваться «против течения». С исчезновением полноты Пути стали говорить о «человечности» и «справедливости». А когда страну охватили беспорядки, то появились «честные» и «преданные» сановники (18). Как подчеркивает Ван Би, когда в стране все благополучно, никто не замечает, где находятся эти «честные» и «преданные» сановники. Мы могли бы сказать, что добродетель «сгущается» или как бы «выдается наружу» только в случаях недостаточности. В противном случае она неощутима и существует в виде диффузного, незаметного флюида. Подобно тому как любая добродетель свидетельствует о недостаточности, любое усовершенствование эффективности выявляет лишь то, что еще подлежит совершенствованию. У Ван Би данная мысль звучит по-другому (35): «Намеченная цель появляется в пустоте и она справедлива, а действие ее неиссякаемо». Отсюда бесконечная бешеная гонка, усилия по принятию адекватных мер с целью исправления ситуации, – и каждое новое исправление лишь с большей выразительностью подчеркивает тот недостаток, против которого оно было направлено. Стремление как можно быстрее достичь цели лишь удаляет от цели; эффект никогда не будет получен на этом «ложном» пути (Лао-цзы, 53). Следует радикальным образом изменить сам принцип построения концепции эффективности. Имеется в виду не только отношение «средства – цель» на уровне принятия отдельных мер, но и рискованный характер самого этого отношения (успех или неуспех: вся напряженность времени кризиса), как и любого применения усилий (в зависимости от поставленных задач – как средств, обеспечивающих успех). Не следует сосредотачивать свое внимание на разработке понятия эффективности, которая на данном этапе еще не связана с действием. От усилия следует перейти к эффекту. И только здесь можно вывести понятие эффективности, хотя она и не будет ощущаться сколько-нибудь осязательно. По сути своей китайская теория, предполагающая процесс преобразований, ведущий к получению эффекта неким опосредованным способом (она может быть только опосредованной, что звучит парадоксально с точки зрения внутреннего содержания самого понятия), подразумевает не столько эффективность, действенность, сколько получение эффекта.
Понятия плавности и непрерывности процесса находят свое объяснение в теории получения эффекта, в которой нет места конкретному, произвольному, отсутствуют понятия цели и усилия. Этот эффект имплицируется определенными условиями, он не может неожиданно исчезнуть или отклониться в сторону. Он связан не столько с действием (событийностью), сколько с безличным «приходом», «наступлением», «осуществлением»; он неощутим и неосязаем, свободен от противоположностей и наступает в качестве опосредованного результата. Различие между эффективностью и способностью приносить эффект можно сравнить с разницей между «лекарством» (оно эффективно или нет) и «солнцем» (без него невозможен никакой эффект – концептуальная, причинная эффективность). Способность приносить эффект не растворяется в сути вещей; она сама составляет суть вещей, обусловливая любой «приход», любое «наступление». В этом она сливается с имманентностью.
Китайский правитель стремится овладеть эффективностью как имманентностью, чтобы разобраться в многообразном и неупорядоченном внешнем мире, мире вещей, в их причинной зависимости; стратегу такой подход помогает добиться успеха. Рассматривая способность приносить эффект как суть вещей, возведя ее в абсолютный принцип, мы оказываемся перед дилеммой: эффективность как нечто трансцендентное, не зависящее от воли человека, – или как способность приносить эффект, процессуальность, соответствующая имманентности. В теологическом плане данная дилемма разрешалась в пользу Бога (эффективность) или человека (порождение эффекта). Правильное решение проблемы видится не в противопоставлении этих двух понятий (уровней), а в их согласовании, но не с целью «созерцать» их, а с целью «действовать», «продвигаться вперед». Другими словами, «подключить» силу действия к «эффективности», «внедрить» свое действие в «процессуальность» вещей, да так, чтобы не требовалось больше действия (известная китайская притча о «корнях» и «ветвях» дерева). Такой подход дал начало двум трактовкам «внедрения» в ситуацию: с одной стороны, в Европе зародилась теоретическая наука с ее разграничением двух плоскостей, с другой – в Китае сложилась стратегия, говорящая об их сопряжении.
Несмотря на то, что в теологической плоскости неосязаемое рассматривается как концептуально-имманентная эффективность эволюционного процесса (прежде всего «сфера божественного», здесь это духи умерших, гиэнь), у Лао-цзы мы находим отрицание этого положения (60) (закономерно, что это место трактуется комментаторами не в чисто историко-религиозном плане, а в зависимости от того, какие изменения оно предполагает): «Духи мертвых не вызывают эффектов, и только мир людской приписывает им это» на определенном пути развития. Эффективность невидимого (шэнь) близка здесь к эффективности в теологическом плане. Но автор идет дальше: «Скорее, это не потому, что они не могут произвести эффекта, а в силу того, что их эффекты не приносят никакого вреда людям; и не столько потому, что они не вредят людям, сколько потому, что мудрецы не приносят никакого вреда людям». «Это потому, что эффективность невидимого не приносит никакого вреда всему естественному, – добавляет Ван Би, – а поскольку живые пытаются ограничиться одним только естественным, невидимая эффективность ничего дополнительного не привносит; а если она ничего дополнительного не привносит, то и не осознается как таковая, т.е. как порождение эффекта». В нашем понимании эффективность, которая не осознается (а значит, уподобляется чуду), но и ничего не добавляет к естественному (а значит, не является сверхъестественной), совпадает с понятием имманентности.
Подтверждением данной позиции является образ «духа впадины», который никогда не погибает (6): это «бездна», «самка», «дверь», которая постоянно открыта; мы уже видели выше, почему способность производить эффект еще не вычленяется, когда движение идет в неблагоприятном направлении, – хотя, пользуясь ею, оно никогда бы не иссякло. Другими словами, у этого основания нет основы, но оно постоянно дает начало эффекту. В течение веков китайская религиозность претерпела серьезные изменения, но толкование эффективности давалось в рамках одной и той же установки: чем эффективнее поведение, тем меньше оно осязаемо (тем сильнее оно сливается с самой процессуальностью). Другими словами, эффективность и видимость противоположны друг другу, хотя невидимость эффективности не представляет собой явления другого порядка, нежели видимый ее аспект: они лишены метафизической двойственности, в отличие, например, от статуса «сверхчувственного» («невещественного» или «неосязаемого», доступного только «душе»). Здесь невидимость – это, скорее, невидимость видимого, обусловленная «крутизной подъема». Сопротивление, сопровождающее процесс конкретизации вещей (вспомним «проторенную дорогу», «след») и привычное для мудрых (вспомним о «пустоте»), приводит к тому, что они могут существовать лишь как неосязаемые потоки, переходящие из одного состояния в другое, поскольку становятся «ничтожно малыми», «неуловимыми». Видимое становится невидимым, потому что реальность его еще не застыла и оно тонко реагирует на малейшие изменения ситуации. На данной стадии реальность не инертна, она «чутка» ко всем изменениям. И никогда не проявляет себя так, чтобы можно было ее уловить.
Невидимое – того же порядка, что и неощутимое; в этом смысле способность порождать эффект невидима, потому что, в отличие от эффективности, она никогда «не сгущается». Вот почему она упоминается в древнем трактате по стратегии – но без всяких религиозных коннотаций. А для того лишь, чтобы убедительно доказать, что «гибкость стратегии» способна «сорвать» планы врага как в нападении, так и в обороне. При этом важно «не увязнуть» в маневрах и не выдать врагу расположения своих войск, легко обнаруживаемых при хотя бы незначительной остановке. Враг тоже не оставляет «следов», также находится в постоянном изменении. «Неуловимо, неуловимо! Настолько, что ничто не проявляется. Эффективно, эффективно! Настолько, что не слышно ни звука» (Сунь-цзы, гл.6, «Сю ши»).
Когда стратегия достигает такого уровня совершенства, эффективность переносится на уровень человеческого поведения, целиком сохраняя силу действия, известную еще со времен древнего верования: «Настоящий стратег управляет судьбой врага. Он по-настоящему получает эффект, ибо заботился о том, чтобы походный порядок его войск постоянно совершенствовался в зависимости от изменений во вражеском окружении».
Даосизм – это не столько анти-метафизическое учение, сколько учение, выстраивающее некоторую «анти-метафизику», ту, которая отказывается от онтологического принципа «создания» и превращается в «производящую» в том смысле, что создает условия, делающие возможным порождение эффекта. В ней раскрываются факторы когерентности процесса и показывается, как эти факторы становятся векторами стратегии. Нам остается поближе познакомиться с этими стратегическими процедурами и сравнить их с теми, которые преобладают в нашей концепции. И прежде всего – понять, как умение управлять ситуацией «из верховьев» потока может стать искусством манипуляции.
ЛОГИКА МАНИПУЛЯЦИИ
1. Термин «манипуляция» употребляется в строгом, собственном значении в научно- технической области, когда речь идет об обработке сырья или операциях с орудиями производства. С некоторых пор этот термин начали употреблять и в отношении людей: манипулировать людьми. Тем не менее в переносном значении слово это имеет слишком пренебрежительный оттенок, а аналогия нередко заходит слишком далеко. С другой стороны, разрабатывая собственную теорию стратегии, китайская мысль смело использует данный термин для обозначения действий в процессе восхождения «от устья к истоку». Ведь китайская традиция не противопоставляет внешний мир и сознание, внешнюю природу и внутренний мир человека, физические законы и законы этики и т.д. В равной степени ей не чуждо и проводить параллели между вещами этих двух порядков, применять аналогии. Для китайской мысли все – процесс, в том числе и человеческое поведение. Следовательно, на стадии, где все до поры до времени гладко и ровно, манипуляция неощутима и плавна; а люди легко поддаются тому, чтобы ими управляли (и вели их), они не оказывают сопротивления, не рассуждают.
Для начала бегло воспроизведем то, о чем мы уже говорили. Суть китайской стратегий заключается в том, чтобы развивать отношения между противниками, – отношения, успевшие в достаточной мере вызреть. Эволюция должна протекать таким образом, чтобы конфликты были разрешены еще до того, как они должны были бы возникнуть. Ситуация разыгрывается вокруг этого слова «еще», которое можно было бы рассматривать как начало процесса, хотя на самом деле оно указывает на следствие, на результат: то, что кому-то может показаться исходной данностью (момент начала конфронтации), на самом деле представляет собой следствие процесса, который уже давно захватил людей и которого они до сих пор не замечали. Следовательно, успех не зависит от воли человека, приходит спонтанно, как бы сам по себе. Здесь невозможно возносить хвалы кому то, чья смелость и мудрость, казалось бы, так легко обеспечили успех. Дискретное искусство преобразования – это искусство манипуляции.
В нашем понимании манипуляция содержит два дополнительных аспекта: постепенно завладеть инициативой в конкретной ситуации таким образом чтобы ее реализация приводила к желаемому результату, а для этого, с другой стороны, вынудить врага к пассивности, лишить его возможности совершать ответные действия – кроме тех, что выгодны нам. И тогда в нужный срок его можно будет победить без боя. Ведь в тот момент, когда начнутся боевые действия, враг уже дойдет до стадии «разложения». На поле боя наша инициатива будет проявляться таким образом, что вражеская армия направится в нужное место и в нужное время по воле стратега. Можно будет без опасений поджидать ее, тогда как поспешные передвижения вражеских сил совершенно измотают их (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши», начало). Для этого– (в древнем трактате о военном искусстве об этом говорится без обиняков) – достаточно «искусить» и «заманить» врага, чтобы он непременно по доброй воле пришел туда, куда захочет наш стратег. А для того, чтобы он не направился туда, где он не нужен стратегу, надо расставить ему сети или ловушки. В этом суть принципа манипуляции, от чего она даже становится «ласковой»: манипулировать другим значит поступать так, чтобы этот другой «сам пожелал» сделать то, чего я oт него хочу, но обязательно сделал это себе в ущерб (хотя самому ему будет казаться, что он поступает с выгодой для себя).
Другой считает, что все решения принимаются им по его собственной инициативе, но на самом деле в его действиях ощущается мое опосредованное влияние. Поскольку он сам этого желает и к этому стремится, мне не приходится его принуждать, расходуя мои собственные силы. Вместе с тем, даже если он предпринимает какие-то действия по моей воле, но с пользой для себя, в конечном итоге они срабатывают в мою пользу, что отнюдь не значит, что они на некоторое время не могут оказаться действительно выгодными для него (например, по моей воле он располагает на поле боя свои силы, и это действительно в его интересах). Дело в том, что кратковременные полезные действия, которые противник предпринимает по моей воле, втягивают его в тот процесс, которому предстоит завершиться в мою пользу (так, мне удастся успешно отбросить его с занятой им по моей воле позиции). Как справедливо отмечено в Трактате (Сунь- цзы, гл. 5, «Ши»), способность «приводить в движение» врага с целью манипулировать им заключается в том, чтобы придать ситуации такую «конфигурацию», когда враг «вынужден следовать» ей. Для этого надо, чтобы он в ней увидел «пользу», но эта польза должна исходить от меня и лишь внешне казаться такой, что идет мне в ущерб; самое главное – это чтобы он начал реально «двигаться», попадая в зависимость от меня. В нужный срок, когда я пожелаю начать боевые действия, враг напрасно будет стремиться укрыться «за высокими стенами и в глубоких рвах», он не сможет не дать боя; и наоборот, если я пожелаю не давать бой, достаточно будет, чтобы я просто провел «линию по земле» – и так я стану непобедимым. Объясняется все это тем, что в первом случае я сумел напасть на то, что «надо спасать», что и заставляет врага покинуть окопы; во втором случае желание нападать на меня уведет его в сторону с того пути, по которому он пошел по моей воле и которым он «дорожит» (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши»). В обоих случаях, какими бы несходными ни были материальные средства у воюющих сторон, будь это даже крепости и рвы, они ровно ничего не стоят по сравнению с таким решающим фактором, как состояние боевого духа вражеской армии и умение управлять им. И как только выполнены два последних условия, противник не может не вести себя так, как этого от него требуют, и ход событий получает закономерный характер. Закономерность определяется довольно банальной очевидностью: при наступлении, чтобы быть уверенным в победе, надо развязывать наступательные действия там, где враг меньше всего их ожидает; при обороне, чтобы быть уверенным в надежной защите, оборонять надо там, где враг не развязывает наступательных действий (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши»). В более доступной форме это рассуждение звучит следующим образом: чтобы враг не был в состоянии защищаться или нападать до того, как мы сами начнем защищаться или нападать».
Но как дать отпор врагу, превосходящему нас своей численностью и организованностью, готовому вот- вот начать наступление? Ответ: начинайте с того, что у него является приоритетом. Лишь в таком случае он вам подчинится, то есть будет обречен на пассивные действия. Вместо того, чтобы непосредственно ввязываться в боевые действия, что чревато огромным риском, лучше начинать с деструктуризации вражеской позиции. Это значит – приводить врага в замешательство, выводить его из равновесия, вводить в заблуждение (все действия следует проводить регулярно, об их порядке детально говорится в трактате: действовать так, чтобы передовые позиции были лишены поддержки тыла; чтобы никаких изменений он не мог внести ни в те позиции, где слишком много солдат, ни в те, где их меньше всего; чтобы невозможно было оказать никакого воздействия ни на самых мужественных, ни на самых трусливых; чтобы была прекращена любая связь между низами и верхами и т.д. (ср. Сунь-цзы, гл. 11, «Цзю ди»; Сунь Бинь, гл. «Тань»). Как мы уже неоднократно видели, процесс имплицируется таким образом, чтобы ожидаемый результат как бы сам, опосредованно и неизбежно, проистекал из конкретной обстановки. А кроме того, следует отдавать предпочтение действиям, а не помпезному героизму, показному мужеству. Незаметная деятельность с целью внести разлад в позиции противника постепенно уменьшит, «размоет» его боеспособность.
В свете китайской концепции эффективности не ставится вопрос, «за» вы или «против», предпринимаете ли вы действия или оказываете сопротивление. Используя процессуальную терминологию, следует говорить о развертывании действия или о его свертывании (начинать – это значит ненавязчиво развивать действия в благоприятном направлении; сворачивать действие – поступать так, чтобы даже самые незначительные его проявления начали развиваться в неблагоприятном направлении). Достаточно бывает ввести в бой войска или вывести их, чтобы реальность начала приносить свои плоды.
В древней литературе по стратегии много говорится о том, что первоначально противника надо вынудить к перемене направления действия, с затем победный исход боевых действий будет обусловливаться саморазвертыванием обстановки (Сунь-цзы, гл. 1, 6, 11, Сунь Бин, гл. «Шань»): если боевой дух неприятеля не подъеме, надо привести его в замешательство, посеять смуту в его рядах; а если он ведет себя осмотрительно и держится настороже, надо немного «подогреть» его, побудить к необдуманным действиям (довести его до умопомрачения, гл.7); если враг сплочен, его надо разобщить; если он в хорошей форме, надо начинать его изматывать; если он «сыт», морить его голодом; если он отдыхает, нарушать его спокойствие и т.д.
2. Вывести противника из равновесия полезно – это ведет не только к потере веры в свои силы, но также и к тому, что он перестает быть сдержанным, мнимо-бесстрастным. У него проявляются особые черты, по которым его легко обнаружить. В стратегическом плане здесь требуется двоякий подход: с одной стороны, речь идет о том, чтобы навязать противнику свою «конфигурацию», дабы можно было подчинить его себе и дальше знать, как и откуда начинать наступление на его позиции. С другой стороны, ни в коем случае нельзя ни одну конфигурацию противника рассматривать как единственную; нельзя постоянно только избегать неприятеля (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши»).
В то время, как под моим давлением враг начинает актуализировать свою диспозицию, разворачивать ее открыто на поле боя, то есть хотя бы ненадолго стабилизировать, я должен избегать разворачивать свою собственную диспозицию и оставаться полностью открытым: пока другой развертывает свои силы у меня на глазах, я должен оставаться непроницаемым и не разворачивать свои силы, но и не терять бдительности. Ведь любая диспозиция ведет к потере динамизма, к рутине – из-за утраты потенциала и в таком виде целиком зависит от конкретного; пока противник разворачивает свою диспозицию не по своей, а по моей воле, он расслабляется, а я сохраняю бдительность.
Разница в военном потенциале обеих сторон выражается не в численности личного состава, ни в количестве материально-технических средств, а в том, что кто-то один идет на блокирование процесса реальности «вверх по течению», обеспечивающего наименьший уровень эффективности, и оказывается «в плену» вещей; тем самым он дает повод вести его, позволяет нам занять позицию «выше по течению», что даст возможность легко «подстрекать» и направлять его, не опасаясь быть раскрытым.
Именно так следует понимать принцип организации военного искусства, ибо иначе мы рискуем рассматривать его разве что как некоторую хитрую прикладную дисциплину и не увидеть целостной структуры: в основе его лежит, – и это говорится без обиняков – искусство вводить в заблуждение (Сунь-цзы, гл. 1 «И»; 7, «Цзюнь чэн»). Предполагается, что манипуляция имеет дело со скрытностью и засекреченностью, и если мы можем сделать что-либо, то должны показать противнику, что не можем; даже если мы начинаем делать что-то, должны убедить другого, что ничего не предпринимаем; если находимся близко, убедить его в том, что вас разделяет большое расстояние, и наоборот, и т.д. Первым преимуществом является, конечно, эффект внезапности, который в соединении с подвижностью, обусловленной отсутствием заданной диспозиции, позволяет атаковать врага там, где он менее всего защищен, начинать наступление тогда, когда он менее всего его ожидает (Сунь-цзы, гл. 1 «И», 7). Соответ-ствие между этими противоположностями будет полным, если скажем, что искусство наступления сводится к тому, чтобы противник «не знал, что оборонять»; а искусство оборонять сводится к тому, чтобы он «не знал, где совершать наступление» (Сунь-цзы, гл. 6 «Сю ши»).
Кроме возможности привести противника в замешательство посредством эффекта внезапности существует и другое преимущество – заставить противника занимать диспозицию не просто помимо его воли, но еще и так, чтобы ее легко было обнаружить: не ведая, откуда начнется наступление, противник начинает готовиться во многих местах одновременно, и, поступая так, оказывается в численном отношении слабее в каждой из этих точек. Слабость в количественном отношении, из-за которой враг терпит поражение, является не исходно данной, но обусловливается нашими манипуляции: если тот, кто пошел на поводу у другого, оказывается вынужден рассредоточиваться с целью обеспечить оборону со всех сторон, его противник предпринимает обратные действия –сосредотачивает свои силы на одном направлении. Вот почему меньший численный состав объясняется тем, что «требуется обезопасить себя от множества противников», а количественное превосходство находит свое объяснение в том, что «мы не обороняемся, а делаем так, чтобы от нас оборонялись». Другими словами, чем больше мер принимаешь с целью предохранить себя, тем больше лишаешь себя средств к обороне.
Как численность личного состава, так и его храбрость не являются исходными условиями, а зависят от эффективности. Напрасно перед началом боя противник будет заботиться о численном составе своих войск; лишь со временем его удастся убедить, что самое большое количество его сил было разбросано по разным точкам и не использовалось. Изложенная таким образом, возможность манипуляции оказывается настолько важной, что в трактате о ней упоминается неоднократно (Сунь-цзы, гл. 4 «Син» начало). Перед началом боя, утверждается в трактате, вполне разумно, что все верят в победу, но она не может быть одержана и теми, и другими. Несмотря на то, что главное на войне – стать непобедимым, и зависит это только от меня самого, данный принцип «работает» и у противника, и следовательно, может «обернуться» против меня. Чтобы стать непобедимым, я бесконечно долго «выжидаю». Не исключено, что, вопреки моей воле, неприятель поступит аналогичным образом; что, находясь в безупречной форме, он не подставится, не окажет мне ту добрую услугу, которой я от него жду. Здесь нам придется согласиться, что «нельзя добиться, чтобы противник был побежден». Но тогда мы утверждаем обратное: «победу можно одержать всегда». Позиция сильная и вызывающе скандальная; ее можно объяснить только тем, что сама идея случайного, исходящая от другого, как-то невзначай растворилась в идеи манипуляции, проводимой нами: между этими двумя идеями вклинивается идея процесса, при помощи которого я начинаю вносить незначительные изменения в обстановку, да так, что мне оказывается достаточно, чтобы другой, независимо от того, совершает он просчеты или нет, лишает он себя средств к защите или нет, в результате лишь занял диспозицию, чтобы я, не занимая ее, мог тем не менее констатировать свое превосходство над противником. И мне не надо больше выжидать, чтобы противник стал ошибаться и упорствовать в своем заблуждении; как только он начал приобретать форму по моей воле, он мне подчиняется и я преобразую его (так я могу его заставить защищаться, а значит, становиться слабее и в конечном итоге сдаться). Строгая противоположность позиций, характеризующая мои отношения с противником (то, что зависит от него, обратно тому, что зависит от меня, и каждый мысленно сосредоточен на своей непобедимости) теряет свое значение, ведь обе позиции не расположены в одной плоскости, вернее, у них один и тот же плацдарм для проведения военных действий, но они различаются степенью актуализации.
Возможность противостояния сохраняется всегда (она вписывается в бесконечную «почву» имманентного основания) – и один непременно одерживает победу над другим. Предопределение условий – за более талантливым полководцем, равно как и дальнейшее управление ходом процесса; все более неуловимый, он уподобляется невидимой эффективности.
3. Тот кто разделяет положение древнекитайского трактата о военном искусстве, согласно которому «победа всегда достижима», непременно должен действовать. Тезис очевидный, он не зависит ни от обстановки, ни от разных способов толкования, хотя и здесь филологи попытались «увести» его в сторону. Слишком прямолинейная в своей сути и сильнодействующая в применении, концепция стратегической манипуляции сулит нам непременный успех. Опережая события, постараемся ответить на вопрос: как мы, европейцы, приняли бы данную концепцию? Стали бы мы ее развивать и совершенствовать – или напротив, не признали бы ее, отбросили, утаили? И если бы мы не стали развивать ее, то что нас удержало бы от этого? И почему?
Бесспорно мы, европейцы, постоянно уповали на случайности в войне, обращались за помощью к Богу, расчитывали на удачу или везение, ссылались на гениальность и талант. Обращали большое внимание на эффект внезапности, воспевали хитрость, проповедовали военную тайну. По сравнению с тем, как данный вопрос освещается в китайской теории, создается впечатление, что у нас, у европейцев, упор сделан скорее на практическую сторону дела, а теория представлена в виде разрозненных заметок и размышлений. На основе всего этого не была создана единая теоретическая концепция. Разница между Китаем и Европой заключается не в том, что мы, европейцы, недопоняли то, что китайцы досконально изучили (или наоборот), а скорее в том, что теоретический инструментарий, задействованный в наших подходах, и проявившийся в определенном построении рассуждений, оказался не одинаково подходящим для эксплицитного изложения идей; Китай и Европа находятся на большом расстоянии друг от друга. И следовательно, в Китае мысль была выражена яснее и четче, чем в Европе. Целью путешествия в Китай отнюдь не были поиски «другого» менталитета, еще меньше – его копирование или подделка (ради смутного чувство экзотики); мы просто можем извлечь пользу из возможных интеллектуальных источников. Источники эти более всеобъемлющи и более основательны, чем все отдельные достижения философии, которая лишь эксплицирует их. Короче говоря, если выяснится, что идее стратегической манипуляции лучше соответствуют понятийные основания китайской мысли и что она лучше освещается с этих позиций, то дальнейшее развитие этой идеи будет стоить путешествия в Китай.
Чтобы в этом убедиться, рассмотрим пример древних греков, приверженцев традиции «хитрости» (metis). Прежде всего их трактаты по военному искусству изобилуют упоминаниями о ловушках как альтернативе хорошо организованному бою (ложные подкрепления, ложные засады, дезинформация лже-вестников и т.д.) В них восхваляются притворство (ложные передвижения) и лицемерие (выдавать немногочисленные войска за многочисленные, отсутствие за присутствие и т.д., вспомним троянского коня). Военная хитрость близка, конечно, и стратегическому искусству, хотя со временем Клаузевиц начнет остерегаться такого родства. Однако заверения о том, что стратегия обучает искусству встретиться лицом к лицу с превосходящими силами противника и выстоять перед ними, ничего не значат, поскольку даже Гиппарх ничего не говорит о том, как добиться перемен на местности, чтобы численный состав войск противника резко сократился. Вообще говоря, хотя у греков сила рассматривается как средство, позволяющее обращать в бегство противника, она не является предметом общетеоретических рассуждений: какой бы коварной ни была военная хитрость, она, беря ее в целом, есть не более, чем уловка, не могущая служить основным направлением общетеоретических изысканий, так как в ней не представлены методы углубленной оперативной разведки местности. Если прочитать трактаты древних греков о войне и выделить вкачестве показательного трактат Ксенофонта, можно осознать, что, по сути, в них преследуется двоякий интерес: или технический (тактика, полиоркетика и т.д.). или организационно-политический (поддерживать порядок, «делать счастливыми своих подчиненных» и даже «быть красноречивым»). Командовать армией – это все равно что управлять домом или руководить хором, читаем в «Меморабилиях» (III, I); заходя то с одной стороны, то с другой, но непременно соблюдая форму предписания, автор в нем упускает из виду то, что могло бы стать предметом оперативного (стратегического) искусства.
Аналогичную ситуацию наблюдаем у Макиавелли, трактат которого «Искусство войны» принадлежит к числу тех творений, которые наиболее соответствуют духу самого автора. Все же в этом трактате спорадически встречаются места, делающие его очень похожим на идеи китайцев: имеется в виду не только искусство предпринимать ложный маневр, захватывать врасплох и скрывать свою диспозицию, но и, как мы уже видели, умение заставить противника не принять бой (или удержать от этого свои собственные войска), остерегаться приманок, «крючков, упрятанных под наживкой», что позволило бы противнику сделать с нами все, что ему заблагорассудится. Помимо прочего, не будем упускать из виду и умения внести раскол во вражеские силы: «Некоторые полководцы умышленно позволяют противнику углубляться на свою территорию и даже захватить некоторые из своих крепостей, открывают ворота городов его войскам, ослабляя тем самым его силы, дабы облегчить затем задачу нападения на этого противника и способствовать одержанию победы над ним» (VI). В трактате нет практически на одной идеи, которая не раскрывала бы природу возможных событий в той или другой обстановке: «На войне побеждают храбростью, а не численностью; но что ценится превыше всего, так это выгодные позиции» (VII). Но все это лишь отрывочные замечания, сделанные на основе многих наблюдений и полностью не раскрытые в трактате. Макиавелли составляет лишь перечень возможных ловушек и военных хитростей, и не более. Это только «принятие мер безопасности» или «занятие исходных позиций» в пику существующим привычным действиям. Все это слишком ничтожно и слабо, чтобы выражать суть оперативного (стратегического) искусства. Макиавелли в основном проявляет интерес к основаниям военного искусства и к способам его структурирования (выбор органов местной милиции, главенствующая роль дисциплины и т.д.). Как правило, даются перечни разных «форм» (боя, передвижения в походе, устройства стоянок и особенно – форм вербовки). Другими словами, он решает проблему порядка и модели (порядок через модель, вспомним боевой порядок у римлян), которые, по его мнению, только и могут сделать армию сильной. Бесспорно, все вышеназвнные идеи восходят к стратегии, выработанной в Древней Греции.
Что касается Клаузевица, его, пожалуй, можно отнести к числу тех авторов, кто наиболее полно мог бы осветить проблему и показать, насколько сдержанно в Европе относились к идее стратегической манипуляции. Под «утратой боеспособности» противником он понимает постепенное изматывание сил и упадок морального состояния на протяжении определенного промежутка времени (у Фридриха Великого это срок Семилетней войны), пусть даже противник использует личный состав исключительно в обороне, которую он разрабатывает с целью оказывать сопротивление. Более того, разбирая замыслы военных действий, Клаузевиц исходит из «вступления в бой», преследующего три боевых задачи: уничтожение живой силы противника, захват рубежа и овладение объектом. Автор ограничивается только наступательными действиями, он не включает в свою теорию «четвертого раздела», в основе которого лежали бы притворство, разведка, которая должна проводиться таким образом, чтобы противник «сам себя разоблачил», а также разного вида «тревоги», предназначенные для изматывания противника, всевозможные отвлекающие «наступления», цель которых воспрепятствовать противнику оставить позицию или занять новый рубеж. Следовательно, «вступление в бой» – это всегда наступление. Будучи глубоко убежденным в том, что боевое столкновение всегда разрушительно, происходит ли оно реально или виртуально, Клаузевиц в своих рассуждениях идет дальше: поскольку вступление в бой – это действие, определенное своей целью, то в нем исключена всякая другая логика кроме логики эффекта, зависящего от прямого столкновения с противником. А всякий предварительный вид боевой деятельности лишь способствует эффективному началу и никоим образом не может сам выступать в качестве такого начала. Другими словами, Клаузевицу чужда идея опосредованной эффективности, обусловленной последовательными и незаметными изменениями обстановки в ходе полного ее преобразования. Эту мысль подтверждает то, как он характеризует эффект внезапности, который с позиций общепринятой логики рассматривается как продукт тщательно сохраненной секретности и быстроты действия. Несмотря на то, что автор без тени сомнения рассматривает эффект внезапности как основу любых боевых действий, решающим образом обеспечивающий успех операции, он, однако, недооценивает его: к нему надлежит относиться более внимательно только в том случае, если он обещает «исключительный» успех, учитывая «трение» военной машины, то есть тогда, когда выясняется, что можно положиться на удачу. Такое же перевернутое толкование приводится для термина «хитрость», к которой древние греки считали необходимым прибегать в боевых условиях только «смотря по обстоятельствам». Признавая факт связи хитрости и стратегии, Клаузевиц, однако, упоминает о ней лишь с тем, чтобы показать, сколь малоэффективной она себя показала в истории древнегреческих войн: пусть нам кажется, что военные начальники или полководцы превосходили друг друга в находчивости, ловкости и притворстве, следует признать, что все эти качества очень слабо проявились при проведении боевых операций в разных ситуациях. В конечном итоге все это лишь игра, напоминающая «остроту» в речи, и как таковая, она проигрывает в бою, перед лицом серьезной опасности, в то время как «горькая необходимость» требует, чтобы они проводились безотлагательно в случае столкновения лицом к лицу с противником. Приходится признать, заключает Клаузевиц, что на фронте шахматные фигуры «не обладают той проворностью, которая составляет самое суть хитрости и находчивости». Следовательно, если вернуться к стратегии китайцев, то манипуляция представляется чем-то большим, чем «хитрость» или «находчивость». Она по существу есть нечто совсем другое, даже если ее побочные проявления и могут быть обнаружены только в виде двух вышеизложенных качеств. Ведь в отличие от Европы, где их характеризовали с психологических, моральных и даже «демонологических» позиций, доводя ситуацию до смехотворной, китайцы понимают под манипуляцией искусство последовательно управлять реальной обстановкой, не доводя ее до конфликта как такового, то есть до столкновения лицом к лицу с противником.
Лучше было бы сказать, что речь идет не об управлении, а об умении делать заключения, поскольку в первом случае выражение имеет несколько «командный» оттенок и манипуляция кажется чем-то слишком «заметным», предполагает больше «внешних действий» по отношению к обстановке, а значит, больше «валюнтаризма» и «расходов» со стороны «субъекта». В этой связи вычленяются две господствующие точки зрения, исключающие одна другую: или сила появляется в результате стечения обстоятельств (как у Клаузевица), в ходе которой действие максимально фокусируется на «точке» и «мгновении», которым принадлежит решающая роль в завязке события («главный бой»; ему предшествует поиск центров тяжести у противника с целью сократить их число ровным счетом до «одной точки попадания»12) [12 «Не только смелые, безрассудные и отчаянные полководцы, но и все «счастливчики» стремятся показать себя наилучшим образом, рискуя своей жизнью в решающем бою».]; или же наличествует предопределенность процесса, которая обусловливается внесением пусть незначительных, но последовательных изменении в развертывание действия, так что вычленяется всего лишь «последовательность» мгновений без выделения какого-то одного из них, а значит, событие «растворяется» в этой последовательности. И если в ходе манипуляции эффективность имеет опосредованный и скрытый характер, то при вступлении в бой она становится прямой (столкновение лицом к лицу с противником) и очевидной. [Разное понимание стратегии носит не только теоретический характер; это подтверждается фактом ведения войны во Вьетнаме: американцы всегда стремились к подготовленному бою с использованием мощных сил, к крупным столкновениям; вьетнамцы, напротив, прибегая с непрерывной манипуляции, разрушали стратегические планы противника до такой степени, что добились полной победы посредством обходных маневров, и следовательно без нанесения решающего удара.] Вот почему будущий главный бой должен более или менее, но обязательно хотя бы до некоторой степени, рассматриваться как центр тяжести и центральная временная точка всей задействованной системы. Чем напряженнее боевой дух полководца, начинающего военную кампанию, тем сильнее у него чувство, идея и убежденность, что он должен победить противника и он его победит, тем больше своих сил он введет в действие в первом бою в надежде выйти победителем («О войне», IV, 11).
4. Прежде всего, противника, а также – не будем скрывать этого – и собственные войска надо довести до желания вести бой, заставить их сражаться. Не только противник не должен был осведомлен о характере своей собственной деятельности: в равной степени данное положение касается и рядовых в нашем лагере. Логика манипуляции требует этого: и хотя с современной точки зрения этот принцип выглядит безнравственным, в древнем китайском трактате подчеркивается, что настоящий полководец должен быть способным вовремя и незаметно для них самих «закрыть» глаза и уши своих солдат и офицеров» (Сунь-цзы, гл.11 «Цзю ди»); дабы наилучшим образом использовать возможность ситуации, он «бросает свои войска в бой как «стадо баранов», перебрасывая их то в одну сторону, то в другую таким образом, что никто из его подчиненных не осознает и не понимает, в каком направлении он движется вперед». Подобным образом поступают в Китае в области политики, и об этом говорят без всякого стеснения: окутывая свои действия пеленой секретности, «авторитетный» правитель обращается со своими подчиненными как с автоматами, – как с вещами, сказали бы мы, а не как с людьми.
Военачальники на внешнем фронте и органы власти внутри страны не только находятся в тесном контакте между собой, но обладают аналогичной логикой, имеют одинаковую структуру и похожие школы «стратегического искусства» (в Китае данная «схожесть» проявляется даже сильнее, чем у Макиавелли). Вот почему теория манипуляции в Китае наиболее полно разработана в той своей части, что касается «идеи деспотизма», которую еще в древности почему-то называют «законнической», «легистской» (о чем мы уже говорили, в главах 2 и 6). Ее точка зрения ближе всего к нашему понятию манипуляции, этимологически указывающему на что-то, что находится в наших руках: авторитарный правитель «берет в свои руки» меры вознаграждения и наказания, которыми он пользуется, как двумя «рукоятками» или «рычагами» (Хань Фэй-цзы, гл. 7, «Эр бин»). Он играет на противоположных чувствах своих подчиненных: инстинктивных чувствах страха и корысти; таким образом их покорность последует sponte sua.
Исходя из вышеописанной стратегической манипуляции, можно построить теорию политической манипуляции, учитывающей все виды деспотизма и связей между ними: прежде всего, сохранение тайны, которую, как было показано, правитель ни с кем не разделяет, даже со своими родителями и приближенными (Хань Фэй-цзы, гл. 48, «Ба цзин»,1); затем – асимметрия ролей и антагонизм разных позиций. Чтобы полностью сохранить в своих руках потенциал ситуации, удержать его на своей позиции, монарх должен рассматривать все остальные позиции как позиции противника, которые ему предстоит подчинить своейвласти, ибо подчинить себе другого – значит владычествовать над ним. Подобно стратегу, преграждающему путь противнику путем создания диспозиции, которую занимает этот противник, монарх преграждает все пути своих подданных, организуя масштабный контроль над ними, хотя сам остерегается, будь он вне себя от радости, или вне себя от гнева, как бы не раскрылась хотя бы одна его диспозиция внутри страны, – дабы избежать чужой власти над собой. Подавляя активные действия других и оказавшись единственным «у кормила», распределяя награды и наказания, монарх сосредотачивает в своих руках всю полноту власти и никто не в силах оказать ему сопротивления. Наконец, важно создать у народа превратное представление о его собственных интересах: руководимый желаниями получить вознаграждение и избежать наказания, каждый подданный полагает, что получает личную пользу, не понимая, что своим трудом он укрепляет власть своего угнетателя. [Надо ли доказывать, да какой степени маоизм оставался верным этой позиции? Мы помним, что «банда четырех» рассматривала подобное «законоведчество» как прогрессивное.]
В области политики используются две основные характеристики эффективности, как она трактуется в китайской концепции. Прежде всего, эффективность опосредствована обусловлена. Законом строо определяется абсолютная власть – поэтому государю вообще не приходится действовать, править. Государю незачем «добиваться» авторитета, этот авторитет предопределен установленным режимом и носит неотвратимый характер. Далее, в рамках настоящей эффективности деспоту не приходится «усердствовать». Теоретики деспотизма утверждают, что если защитникам нравственности приходится тратить слишком много усилий, чтобы подчинить других своему влиянию (приобрести сторонников), то настоящий монарх всем управляет без малейшего труда и, более того, сам себя облекает властью: власть устроена так, что другие должны лишь применять свои способности на пользу деспота, (там же, II). Как и в случае стратега, в действиях государя преобладает невидимая предопределенность, неизвестная его подданным, государь – своего рода «призрак» (там же, I), привлекающий к себе их любовь и ненависть, но сам остающийся непостижимым; как и сама природа, влияние деспота осуществляется незримо, настолько оно неизменно, повсеместно и бесконечно возобновляемо. Такая логика ничего не упускает: она прежде всего прагматична, а также назидательна – в силу своей основательности. Странно читать в завершенном виде этот «канон» тоталитаризма, как будто человеческой мысли здесь никогда не приходилось развиваться «ощупью»: неукоснительность правил не знает исключения, власти чужда всякая нерешительность, любая инициатива подданных тщательнейшим образом подавляется. Понятие признательности полностью отсутствует, места для ценностей просто нет, а сама идея «права» растоптана всемогущей силой «закона».
Несмотря на то, что вся сила власти сосредоточена в руках монарха и дает ему свободу действовать, он держится «в тени», ему чужда «жажда» славы, даже если это стоит ему потери индивидуальности. Искусный манипулятор, он сам утопает в манипуляциях. Обращаясь с подданными как с «винтиками», он сам вынужден действовать механически, как автомат.
МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВ УБЕЖДЕНИЯ
1. Перед нами трактат, предназначенный для дипломатов и министров. Предполагают, что автор этого трактата – Гуйгу-цзы, «Учитель из долины бесов». Скорее всего, это название какой-либо местности, куда Учитель удалился в конце жизни, но вместе с тем, название, по-видимому, должно было придавать книге большую таинственность. Возможно также, что оно было выбрано для того, чтобы напомнить: когда человек использует различные приемы манипулирования другими людьми, то тем самым он приближается к миру фантомов и духов; ему лучше удается преследовать кого-либо, чем действовать. При этом он уже не подвержен обычным сомнениям и колебаниям и не встречает сопротивления.
Однако в мире, в котором он живет, нет ничего призрачного или сверхъестественного; напротив – это самый реалистичный и непрозрачный мир, мир политики, мир столкновения интересов и борьбы за власть. Книга, о которой мы рассказываем, – довольно странная: она была написана на исходе китайской древности (в IV в. до н. э.) и позднее ее приписывали перу разных авторов, причем она всегда была почти подпольным текстом, к которому китайские книжники относились с некоторым пренебрежением. Этот трактат принадлежал к такого рода произведениям, которые читают только для себя – и даже императоры обращались к нему – но на которое предпочитают не ссылаться и обычно не цитируют. Таким образом, в течение тысячелетий его как будто и не существовало (и китаистика также до сих пор не уделила ему должного внимания); между тем, эта книга – одно из тех редких сочинений, что неожиданно проникают сквозь идеологические покровы и раскрывают истинное положение вещей. И все это – исключительно с целью достижения эффективности, о чем заявляется прямо, без какого-либо притворства, без излишних эмоций. Удивительная книга, может быть единственная в своем роде по своим целям и задачам – она берется рассмотреть человеческие отношения только с точки зрения силы, власти – такого рода произведение невозможно представить в европейской традиции. Повествование зарождается и развертывается очень сдержанно, постепенно все сильнее раскачивается, все агрессивнее выступает вперед, так что даже входит в некоторое противоречие с ожиданиями читателя, привыкшего к гармоничной сдержанности китайских текстов (достаточно вспомнить мелодическое изящество китайских афоризмов). Автор избегает выспренности речи, субъективной окраски высказываний, экспрессия нарастает так незаметно, что иногда кажется, будто фраза имеет не только поверхностный смысл, но и содержит зашифрованное сообщение. Возможно, такая тайнопись была необходима автору из-за того, что его разоблачения становились все более опасными? Или, вероятнее, потому, что он пишет о вещах, о которых в Китае не осмеливались говорить вслух, хотя речь и шла о самых насущных для правящих кругов проблемах: как добиться расположения и любви правителя или каким образом можно повлиять на его решения.
Предполагают, что «Учитель долины бесов» обучал в своей школе самых авторитетных сановников Древнего Китая (Су Циня, Чжана И), имевших большое влияние при дворе своих правителей и отличившихся умением заключать удачные союзы с другими государствами. Следует напомнить, что Китай в конце эпохи древности был страной «Борющихся Царств», чьи правители, самонадеянно присвоив древние права сюзерена, довольно успешно отстаивали свою независимость и постоянно враждовали между собой: опираясь на постоянно изменяющиеся союзы и объединения, каждый старался установить свое господство. Предательства, заговоры, обман были разменной монетой действовавших в то время политиков; никакие слова или обещания не принимались на веру, никакие заверения не могли никого обмануть. Никто не верит, что какая-то трансцендент-ная сущность может наградить или наказать человека, никто уже не питает никаких иллюзий в отношении потустороннего мира: честолюбие и только оно ведет людей вперед, сила является единственным мерилом всего.
Ранее мы уже рассматривали положения, высказанные в трактате. Говорили о том, что отношения между людьми, например, подданного с правителем, рекомендуется строить исходя из ситуации (ср. выше, гл.2). Автор своеобразно трактует понятие «благоприятные обстоятельства», когда речь идет об использовании любых трещин, обнаруженных в позиции противника (эти трещины следует еще более углублять и расширять, ср. выше, гл.5). Трактат предписывает принимать участие в событии только в том случае, когда все в нем для нас успешно развивается и удачно складывается, ибо при таких условиях управлять процессом гораздо легче (ср. выше, гл. 8). Но автор стремится не только донести до читателя искусство манипулирования людьми, при этом не обязательно в стратегических или политических целях; он также пытается выявить сложность и противоречивость ситуации, что непривычно нам по опыту европейской литературной традиции и, возможно, объясняется разным статусом слова в Европе и Китае. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что даже когда советник обращается к правителю, он не прибегает к риторике.
Можно, вероятно, сказать, что перед нами – риторический трактат: ибо вместо того, чтобы учить тому, как убеждать других, доказывая правильность и обоснованность нашего мнения, он показывает, как осуществлять наше влияние таким образом, чтобы люди, еще до того, как мы начали говорить, уже готовы были поступать согласно нашим желаниям.
Итак, акцент делается не на построении нашей речи, а на создании таких отношений между нами и другим человеком, чтобы любое наше предложение было принято без всяких сомнений, раздумий и споров. Как известно, для убеждения другого необходимо потратить много энергии и сил – красноречие не дается даром – тогда как результат не всегда гарантирован; попытка убедить другого часто равнозначна ведению настоящего сражения. Однако если другой человек полностью доверяет нам (и ничего больше не опасается), то нам уже не надо прилагать каких-либо усилий: мы и так добились победы. Хотя речь иногда и идет о проблемах речи, риторики, но оба ранее обсуждавшихся положения – предварительное преобразование и косвенная эффективность и обусловленность – остаются справедливыми и в данном случае. Действительно, если древние греки уделяли большое внимание красоте речи и постоянно учились искусству риторики, то в Древнем Китае, напротив, изучению приемов аргументации, риторическим построениям и анализу частей речи не придавали особого значения.
Использование приемов красноречия, очевидно, должно было бы соотноситься как с внешним эффектом, так и с действием: несомненно, существует «ораторское действие», то есть влияние оратора на публику; придавая своей речи больше яркости и убедительности благодаря используемым риторическим приемам, оратор стремится как можно быстрее и вернее достичь успеха. Тем не менее, трактат Гуйгу-цзы учит говорить как можно меньше; и лучше даже, если подданные не видят своего правителя, когда он говорит; однако он должен подготовить почву для того, чтобы его правильно поняли, еще заранее, в начале процесса, «в верхнем течении реки», разработав эффективную стратегию; говорить же, предлагать, а также сражаться следует как можно позже, то есть «в нижнем течении реки».
Естественно предположить, что и риторика так же может использоваться для манипулирования. Ибо она предписывает не только просвещать аудиторию, но и стараться понравиться и растрогать слушателей; довольно часто риторика направлена на то, чтобы заставить людей действовать неосознанно, то есть не под влиянием разума, а под влиянием чувств, на уровне «страстей» («разум» и «чувства» – одно из противопоставлений, введенных в европейскую культуру благодаря риторике). Как бы то ни было, происходит столкновение идей, аргументов, выбор еще не предопределен, свободен, человек может еще принять ту или другую позицию. На этом этапе ясно прослеживается логика, связанная с поисками истины или видимости истины; следовательно, истину еще можно принять или отвергнуть. Но в Древнем Китае все направлено на то, чтобы подготовить слушателя к надлежащему восприятию того, что вы собираетесь ему сказать. В данном случае сражение должно быть выиграно до того, как оно начнется, то есть до того, как мы начнем говорить.
Все это предполагает, что процесс, связанный с формированием благожелательного отношения к говорящему, происходит не по мере развертывания речи, как того требуют законы красноречия, а гораздо раньше; не одномоментно (в ходе речи), а беспрестанно. Благодаря тому, что вы убедили другого в том, что между вами сложились доверительные отношения, вы приобретаете над ним власть, возникает симпатия, «склонность», которая побуждает его вас выслушивать.
Можно предположить, что речь строится как такой же поступательный ход событий, что и в рассмотренном выше стратегическом искусстве. Самое главное – «управлять» другим и не допускать, чтобы другой «управлял» вами; необходимо осуществлять свою власть над ним и не позволять, чтобы ваша «судьба» была бы в руках других людей (Гуйгу-цзы, гл.10, «Моу»; ср.Сунь-цзы, гл.6, «Сю ши»). Поскольку, согласно идее этого трактата, интересы собеседников неизбежно входят в противоречие, ибо каждый придерживается своей позиции, то, следовательно, другой человек всегда будет играть роль противника; все должно быть сделано так, чтобы другой почувствовал доверие к вам, но это доверие всегда будет ловушкой. «Соблазнить», «привлечь», «приманить» – все это предварительные этапы, так же, как и в стратегии, описанной в трактате Сунь-цзы; все эти действия направлены на то, чтобы подчинить другого своему влиянию (Гуйгу-цзы, гл.2, «Фань ин»; гл.8, «Мо»). Обычное сравнение в данном случае – это сравнение с удочкой или западней: достаточно недвусмысленно предложить другому «приманку», что-то такое, что, по его мнению, выгодно для него, чтобы сделать этого человека «восприимчивым» и послушным (Гуйгу-цзы, гл.11, «Цзю»). Таким образом, нам будет обеспечена полная инициатива, мы сможем полностью и безраздельно управлять нашим собеседником, каким бы всемогущим правителем он ни был, «как на Востоке, так и на Западе, как на Севере, так и на Юге»; из него мы сделаем игрушку в наших руках (Гуйгу-цзы, гл.З, «Нэй цянь», гл.5, «Фэй цянь») и тогда без всякого труда придем к такому положению, когда в отношениях между нами и им не останется ни малейшей «трещины», хотя со стороны невозможно будет заметить никакого «признака» этой зависимости.
Не так удивительно то, что здесь предлагается (логика мышления прослеживается легко), поразительно другое: положения трактата беспредельно абсолютизируются, распространяются на всех и на все: в данном случае речь идет не о каких-то более или менее бесчестных приемах, а как бы об обычных, нормальных методах, считающихся, вероятно, даже достойными подражания. Предлагается исключить любую возможность выбора, и тогда другой человек (если речь еще может идти о «другом») будет доведен до состояния совершенного безволия и пассивности. Даже Макиавелли до такого не доходил.
2. То, что манипулирование другим человеком является в данном случае единственной целью, видно по следующим двум словам, определяющим содержание и предназначение всего трактата: надо научиться «открывать» и «закрывать» («Гуйгу-цзы», гл.1, «Бай хэ» ). Два обычных действия, просто два жеста: «открыть» означает побудить другого откровенно изложить то, что он думает, чтобы понять, соответствуют ли его чувства нашим; «закрыть» означает пойти в противоположном направлении, вызвать реакцию другого человека и проверить, говорит ли он правду. Эти два акта должны происходить по отдельности, по-тому что они дополняют друг друга: либо под нашим влиянием другой, отбросив всякую осторожность, «открывает» нам свою душу, либо, напротив, решительно встав на его пути, мы провоцируем его на то, чтобы он, остановившись перед нашим барьером, внезапно проявил свои чувства и мы смогли бы «сделать вывод» о том, насколько правдиво все то, что он говорил.
Первый маневр можно было бы назвать зондирующим, а второй – контрольным; первый направлен на то, чтобы вызвать нашего собеседника на откровенность и узнать, чего он в действительности желает; второй должен спровоцировать его реакцию на противодействие и выявить то, что он хотел бы скрыть. Сочетание этих двух маневров помогает «прозондировать» и «проверить» другого человека: либо следует идти в том направлении, в каком его можно повести за собой, либо – пойти в обратном направлении, чтобы, наблюдая за его реакцией, изучить степень его сопротивления. Поскольку молчание иногда красноречивее слов, недоговоренность также может разоблачить нашего собеседника.
Как в первом, так и во втором случае, «открывает» ли он или «закрывает» рот, говорит ли он свободно или ведет себя сдержанно, другой человек полностью раскрывает себя, и им можно управлять как простым механизмом (действуя подобно двум противоположным и дополняющим друг друга факторам: инь и ян, лежащим в основании всего сущего). Эта дихотомия справедлива также по отношению к природе слова и речи: с одной стороны, существуют положительные начала (ян), предназначенные для того, чтобы «открывать», а с другой – отрицательные начала (инь), которые служат для того, чтобы «закрывать»; к первым прибегают, чтобы поддержать другого в его начинаниях, ко вторым – чтобы заставить его отказаться от своих намерений. Таким образом, достаточно будет открыть и закрыть, чтобы «больше ничего не выходило» (например, какое-то скрытое чувство – из глубины души другого), или соответственно, чтобы «ничего больше не входило» (например, точка зрения, которую кто- нибудь захочет ему навязать), короче говоря, «чтобы больше ничего не оставалось» на любом уровне – как в отношении индивида, так и семьи, страны и всего мира.
Такое значение речи сродни тому, как понимали ее греки и римляне, различны лишь цели ее использования. Речь в данном случае нужна не для того, чтобы говорить самому, а для того, чтобы вызвать другого на разговор. Она направлена не на то, чтобы обнаружить свои чувства, а на то, чтобы другой обнаружил свои: для того, чтобы можно было приспособиться к нему и, следовательно, расположить его к себе, заставив его поверить нам. По мнению теоретика власти, как только другой станет понятным и ясным для нас, он уже не сможет сопротивляться нам. Термины этого трактата, понятия «открытия» и «закрытия» использовалось сначала для того, чтобы, подвергнув этим действиям другого, изучить «то, что есть» и «то, чего нет в нем», а затем, основываясь на том, что оказывается «полным» или «пустым», правдивым или ложным, иметь возможность «потворствовать его желаниям» и таким образом проникнуть в глубину его души (что представляет собой, как и в стратегии, его «диспозицию», в данном случае – его настроение, намерения и чувства).
Диспозиция и управление, западни и секреты: здесь исключается всякая субъективность, ибо она негативна (так как любой может ею воспользоваться); безусловно, существуют близкие отношения с другим человеком, но эти отношения нужны только на некоторое время, а затем от них приходится отказываться. Невозможно, например, представить себе, чтобы здесь можно было добиться близости с другим человеком, проявив лишь немного искренности; даже не предполагается, что другой просто так скажет то, что он думает. Именно по этой причине полагают, что речь – это прежде всего, ловушка, западня, устроенная для другого; эту ловушку то «открывают», то «закрывают», чтобы заставить его раскрыть свои планы. В такой ситуации возможны два способа действий (Гуйгу-цзы, гл.2, «Фань ин») Например, когда один человек говорит, другой молчит, и как только что-то не сходится в его высказываниях, он «возвращается к этим словам», чтобы выяснить правду. Поскольку речь служит для того, чтобы «отражать» реальность, а сообщаемые факты должны быть «связаны между собой», следует обратить внимание на то. что сравнивая сказанное, можно многое выяснить; это позволяет понять то, что «скрывается за словами». Таким образом, не выдавая себя (храня молчание), можно поймать другого в расставленные «сети». В самом деле, как бы мало ни было сказано, и даже если по интересующей нас проблеме вообще ничего не говорится, всегда можно, сопоставив какие-то факты и признаки, сделать соответствующие выводы. Но рассмотрим другую ситуацию, предполагающую использование иного подхода: когда другой человек ничего не говорит, а значит, невозможно ничего выяснить. Тогда необходимо изменить тактику и самому проявить инициативу, направленную на то, чтобы вызвать другого на какие-либо действия. В том случае, когда ему не дают полной информации, «почти ничего» конкретного не сообщают, рано или поздно он раскроет себя. Для этого будет достаточно сыграть на контрасте: следуя в одном направлении, важно принудить другого идти в противоположном направлении; молчать, чтобы вызвать его на разговор, принудив заполнять пустоту; отступить, чтобы он развернулся, и т.д. Выбрав такую тактику (двигаться в направлении, противоположном ранее намеченному), можно спровоцировать соответствующую реакцию и управлять другим по своему желанию. Я навязываю ему ту роль, которая наилучшим образом соответствует данному моменту: совершенно очевидно, что достаточно дать толчок какому-либо процессу, чтобы он впоследствии развернулся полностью. Другой отвечает, реагирует высказываниями и действиями, в зависимости от сложившейся ситуации и в соответствии с нашими ожиданиями.
Для того, чтобы прозондировать чувства другого и заставить его их раскрыть (гл.7, «Чуай»), существует и другая тактика: либо мы выбираем то время, когда другой человек больше всего доволен жизнью, ибо когда он находится на вершине удовольствия, то выдает свои самые тайные мысли и чувства; либо, напротив, выбираем самый тяжелый период в его жизни и действуем таким же образом: во время тяжелых испытаний он также раскрывает свою душу. Дойдя до высшей точки своего счастья или несчастья, под влиянием эмоций он частично или полностью теряет контроль над собой. Вообще говоря, все, что происходит «внутри» человека, всегда проявляется «внешне»; именно поэтому возможно провести наблюдения и «исходя из того, что мы видим и наблюдаем», сделать вывод о том, чего «мы не видим» (гл.7); а когда мы таким образом исследовали чувства и мысли собеседника, мы можем быть уверенными в том, что в его линии поведения для нас не будет ничего неожиданного (гл.8). Впрочем, если другому удается ускользнуть от нас, даже несмотря на такую провокацию, связанную с ярко выраженными эмоциями, то, возможно, следует его «оставить в покое» и больше с ним не говорить; а затем вновь начать действовать, но уже используя другие, вероятно, не столь прямые методы, осведомившись перед этим о его «окружении», происхождении и характере.
Войдя в доверие к другому, обработав его, как драгоценный камень, «нефрит» (мо, ср. гл.8, «Мо»), мы в конце концов заставим его раскрыть то, что находится в глубине его души: в результате ничего не останется от той маски, за которой он мог бы скрыться. Одновременно следует скрывать свои собственные мысли и намерения, не раскрывать своей стратегии, не показывать, как говорится, своей «двери», играть в его глазах роль призрака и духа (гл.2, «Фань ин»). Хотя речь произносится вслух, выставляется напоказ (ян), зреет же она в тени (инь): «открывая» или «закрывая», манипулируя другими, следует действовать тайно, не афишируя своих планов (гл.1, «Бай хэ»); а когда добиваешься доверительных отношений с другим, чтобы все узнать о нем, естественно, не следует раскрывать перед ним свои карты, стараясь одновременно «делать все необходимое» и «прятать концы» (гл.8, «Мо»).В результате речь должна усилить этот разрыв: другой виден насквозь, а я остаюсь непроницаемым для взора. Как полагают учителя риторики, речь – очень эффективна, но только у того, кто умеет правильно ею пользоваться. Наивно полагать, что это умение заключается в том, чтобы полностью отказаться от общения или использовать обычную ложь, ведь, как уже было показано, симптоматическая природа речи делает это невозможным. Скорее, речь должна быть как можно более искусной, хитрой, изворотливой, полностью реализовать свои функции: я говорю не для того, чтобы что-то сообщить другому, а для того, чтобы заставить его говорить; и слушаю не для того, чтобы следить за мыслью другого, а для того, чтобы внушить ему свое понимание ситуации.
3. Этот пункт становится решающим в стратегии речи: чтобы управлять другим, я должен сообразовывать свои действия с речью другого; можно сказать, что только приспосабливаясь к его логике мышления, и следовательно, подчиняясь ей, мы можем быть уверенными, что сможем им управлять. Важно быть уверенными в себе и суметь осуществить эту стратегию. Или, точнее говоря, если довести парадокс до его логического завершения: мы действуем таким образом, чтобы управлять им (то есть для того, чтобы иметь такую возможность). Является ли это парадоксом или совершенно очевидным фактом? Скорее, это игра в слова, до предела обнажающая мысль и выражающая ее в виде парадокса; и тем не менее, перед нами реальность такого сорта, которую можно увидеть и осознать только после того, как она сформулирована в виде парадокса. В Древнем Китае мысль беспрерывно скользит по поверхности истины, ничего не разворачивая и не уточняя; истина всегда подразумевается, или точнее, о ней можно только догадываться, никогда не возводя ее в принцип и долго не останавливаясь на ней. Она так глубоко скрыта, что существует риск пройти мимо, не осознав всей важности идей, содержащихся в трактате. Об искусстве манипулирования говорится следующее: «Когда я разными высказываниями провоцирую другого на бурную реакцию, я могу настроиться на его мысли и движения его души станут мне понятны; таким образом, следуя [за движениями его души], я имею возможность вести его за собой» (Гуйгу-цзы, комм, к гл.2, «фань ин»). «Вести» его за собой – в полном значении этого слова (му): так пастух ведет свое стадо.
Таким образом, мы отдаляемся от европейского мифа об изначально божественной и героической природе власти. Быть первым, действовать, побуждать – это всегда означает одиночество и ответственность, риск и затрату больших усилий. Однако это – также и ликование, счастье, очарование; но здесь никто не думает об эффективности, а потому все следуют совсем другой логике: логике амбиций и саморазрушения. Ибо получается так, что если здесь и можно стремиться к эффективности, то – как об этом постоянно говорят китайские мудрецы и стратеги, – гораздо полезнее учитывать реальное положение вещей и в соответствии с ним вести себя и действовать. То есть, следуя за реальностью и приспосабливаясь к ней, можно добиться власти и могущества и всего того, что они могут дать.
Очевидно, следует разъяснить те положения, неправильная трактовка которых могла бы привести к непониманию всей концепции: желание постепенно захватить всю инициативу, как в речи, так и на войне, вовсе не означает необходимости изменять данную ситуацию. Напротив, тот, кто пытается это сделать, идет на определенный риск; пролагая «путь», он истощает свои силы, тогда как тот, кто идет по размеченным вехам, не подвергаясь опасности, продвигается вперед свободно и непринужденно, заранее зная, чем руководствоваться. Этот второй человек обладает настоящей властью, тогда как первый не имеет ее. Его поведение становится решительным и последовательным, он добивается беспрекословного подчинения; стараясь приспособиться к другому, он получает возможность незаметно управлять им. Иначе говоря, продолжая плыть по течению, можно добиться гораздо лучших результатов, чем пытаясь самостоятельно проложить путь вперед. Обычно инициатива в меньшей степени проявляется в начале пути, чем в конце; способность к активным действиям можно постепенно развить, она является результатом накопленного опыта. Между тем, инициатива может переходить от одного к другому, а потенциал в таком случае меняет свой знак. Инверсия не будет диалектической, как в случае с Господином и Рабом, даже если здесь и есть некоторое сходство, поскольку здесь происходит постоянное, хотя, возможно, и малозаметное преобразование; никто не осознает этого, даже тот, кого эти изменения касаются в первую очередь, поскольку, действуя сообразно характеру и устремлениям другого, мы незаметно подталкиваем его в нужном нам направлении.
Трактат иллюстрирует вышесказанное на примере действий подданного по отношению к своему правителю ( гл.З, «Нэй цянь»). Как уже говорилось, для того, чтобы понять логику поступков правителя и войти к нему в доверие, важно определить его характер и склонности (неважно каким способом: упирая на «нравственность», «политические виды», стремление к «богатству», «похоть» и т.д.) При использовании речей, соответствующих этим склонностям, нам удается «войти к нему в доверие», как если бы мы правильно подобрали ключ к замку, а тогда уже можно осуществить и наши собственные амбиции. Достаточно до конца понять духовные помыслы правителя, чтобы затем иметь возможность предсказать, «какие шаги он может предпринять»
Как говорится в трактате, «раскрыв замыслы другого», можно им управлять по нашему желанию, не встречая никакого сопротивления: «если вы хотите, чтобы он пришел к вам, он придет к вам», «если вы хотите, чтобы он думал о вас, он будет думать о вас», и т.д. Подданный с такой точностью сумел понять все желания правителя, что тот больше не может обходиться без него; как видно, в этом случае не только отношения между подданным и правителем претерпели изменения, но, что еще удивительнее, это «осталось совершенно незаметным». Кроме того, эффективность такой политики тем выше, чем последовательнее и искуснее маневры подданного, выбравшего не прямолинейную тактику, связанную с использованием силы, а действующего с опорой на доверительные отношения с правителем.
Как явствует из названия другой главы (гл.5, «Фэй цянь»), мы своей лестью и похвалой доводим партнера до того, что он «возносится», но затем хватаем его «в клещи». Судя по комментарию, чтобы приобрести власть над другим, следует «начать его хвалить до такой степени, чтобы он'Эабыл обо всем и воспарил вверх: он, несомненно, выдаст свои чувства полностью и ничего не скроет, и тогда, в зависимости от того, что ему дорого, можно привязать этого человека так, что он не сможет больше ни повернуться, ни сдвинуться с места». Наши слова так высоко возносят другого, что затем мы сможем легко взять над ним власть: как для того, чтобы «наладить» с ним отношения, так и для того, чтобы «управлять» им по нашему желанию. Трактат предписывает «пойти пустым, а вернуться полным». Лестью и похвалами заставить другого вознестись – это означает пойти «пустым»; а когда другой раскроет нам свое сердце и расскажет о своих чувствах, вследствие чего станет зависимым от нас – это то, что называют «вернуться полным». Однако то, как мы будем «восхвалять» и «ловить» другого, полностью зависит от его характера. На деле существует много различных способов «притереться» и приспособиться к другому, изучить его характер и склонности, подчинить его себе; при этом подход должен соответственно меняться в каждом отдельном случае. Либо можно действовать спокойно и «миролюбиво», либо «неукоснительно» руководствуясь принципами, либо выбирая только то, что доставляет «удовольствие» другому, либо то, что вызывает его «гнев», либо играя на его стремлении к «славе» и т.д. (гл.8, «Мо»; ср. гл.10, «Моу»). В сущности, всем тем, чем оперирует мудрец (в данном случае имеется в виду стратегия слова), «в равной степени владеют и другие»; однако лишь он способен использовать все это в своем стремлении подчинить другого и именно этим объясняется успех его речей, которые «внимательно выслушивают».В трактате также подробно анализируются преимущества адаптации. Эффективность таких действий связана с реализацией принципа, о котором мы говорим постоянно: речь идет о формировании естественной склонности. В данном случае имеется в виду симпатия одного человека к другому вследствие родства душ (подобно сухим дровам, вспыхивающим первыми, как только они брошены в огонь, или влажной почве, быстрее сухой земли впитывающей воду). Подобное притягивает подобное sponte sua, следовательно, адаптироваться к другому означает создать в себе нечто подобное ему и тем самым привлечь его к себе.
4. «Трудность владения речью», говорит «легист», теоретик авторитаризма, заключается в необходимости «исследовать сознание того, к кому мы обращаемся, с тем, чтобы наша речь была адекватна» (Хань Фэй-цзы, гл.12, «Шуи нань»). Очевидно, самое сложное заключается не в том, чтобы убедить другого при помощи достаточно веских доводов, а в том, чтобы речь была уместна, адекватна ситуации: если кто-то любит славу, а собеседник говорит с ним о материальных благах, то он будет смотреть на собеседника с презрением, сочтет его подлым и низким человеком и прогонит его; если же, напротив, он думает о материальной выгоде, а мы говорим с ним о славе, он будет считать наши слова неинтересными для него, «потому что они слишком далеки от реальности», и в обоих случаях мы ничего не добьемся.
Однако все обстоит намного сложнее, чем может показаться сначала. Возможно, что в глубине души он думает только о своих интересах, но хочет казаться жаждущим славы; если мы будем говорить с ним о славе, он сделает вид, что слушает нас, а на самом деле будет отдаляться от нас; но если мы заговорим с ним о чем-то материальном, то он будет, без сомнения, нас слушать с большим интересом, однако постарается не показывать этого и в конце концов, отошлет нас, чтобы не потерять уважения окружающих.
Представляется вполне возможным объяснить, что помешало риторике развиться в Китае – в отличие от Греции. В древних городах-государствах Греции оратор обращается к представительной группе людей: например, это может быть суд, Совет, народное собрание; если ему и приходится учитывать состояние духа публики, все же он не может проникнуть в логику мышления каждого члена коллектива, перед которым выступает. Кроме того, его речь обычно разворачивается на фоне дискуссии. Одна речь против другой речи, логос против логоса; она опровергает что-либо или предназначена для того, чтобы ее оспорили. Следовательно, автор вынужден подкреплять свою речь такими доводами, которые будут считаться самыми вескими, даже если они на самом деле таковыми не являются, обращаться к строгой логической аргументации, которую можно считать общим знаменателем человеческой мысли.
Следует отметить, что в Китае, как и при любом монархическом режиме (впрочем, в Китае никогда и не было другого – и сегодня то же: Партия), речь, обращенная к правителю, не теряет своего приватного, частного характера; она разворачивается в нужном для собеседника направлении и говорящий старается не доказать что-либо, а войти в доверие – не вступая в какие-либо дискуссии, придерживаясь уклончивых фраз.
В таком случае к логическому рассуждению прибегают для того, чтобы сбить собеседника с толку: если правитель действительно чего-то страстно жаждет, то следует, как советует теоретик деспотизма, убедить его в том, что его желания полностью соответствуют «общественному долгу»; и если его неудержимо влечет к чему-то низкому, недостойному, необходимо «превозносить положительные стороны» и «преуменьшать неблаговидные аспекты» таких желаний. В этом случае достижение благорасположения правителя является только предварительной ступенью: «Если вы добьетесь любви правителя, то ваши просвещенные речи будут вполне уместны, и кроме того, вы будете пользоваться его благосклонностью; но если вас ненавидят, ваше мнение будет неуместным,вас будут считать преступником и отдалят от правителя». При этом от «уст» (это интересно отметить, ведь уста богини Пейто – священный символ риторики) центр внимания переносится к «уху»; возможность завладеть ухом правителя становится гарантией успеха.
Но поскольку целью теоретика авторитаризма является неограниченная власть правителя, то он старается содействовать успешному осуществлению политики деспота, а не подданных. Даже более того: он решительно настроен против любых интересов и действий своих подданных, так как их позиция и позиция сюзерена, по его мнению, прямо противоположны; в результате можно ожидать, что поиски благосклонности правителя могут быть восприняты негативно.
После всех рекомендаций, приведенных в трактате, дается следующее предостережение (Хань Фэй-цзы, гл.14, «Цзянь цзи ши чэнь»): главной задачей правителя, дорожащего своим авторитетом, является необходимость остерегаться всех тех, кто при помощи любезных речей захочет приблизиться к нему. Поэтому любые тайные и коварные поползновения войти в доверие к правителю должны немедленно разоблачаться; только настороженное отношение ко всем и всему может оградить правителя от козней, которые строятся вокруг него. Впрочем, такое недоверие должно проявляться не столько по отношению к другим людям, сколько по отношению к самому себе, своему взгляду на других. Ибо очевидно, что «из-за ранее установившихся доверительных отношений с другим», он будет вынужден «доверять тому, что тот говорит»; высказывая свое мнение, исходя из своих интересов, другой пытается завоевать расположение правителя для того, чтобы впоследствии злоупотребить ими и присвоить себе его власть. Правитель должен подозрительно относиться ко всяким проявлениям лести и подобострастия – только таким образом он сможет сохранить всю полноту власти.
Связь между риторикой и демократией, сущностная для нашей европейской культуры, особенно хорошо видится извне – в частности, из Китая. Две противоположные процедуры – убеждение людей и манипуляция ими – выходят за пределы исторических эпох, обусловивших их появление (на уровне государственном или частном). Одни традиции избирают путь прямого столкновения и состязания мнений, другие отдают предпочтение обходному маневру.
Вне контекста эти процедуры составляют две противоположные линии поведения людей. В одном случае на «другого» оказывается «словесное» давление при помощи пылких доводов и доказательств: такое увещевание происходит публично, «на глазах у всех» и основывается на силе воздействия речи, на ораторском искусстве, неотделимом от деятельности разума. Красноречие здесь фактически соединяет в себе и театральность, и логику – эти две составляющие дошедшего до нас древнегреческого наследия.
В другом случае производится манипуляция, скрытое воздействие на ситуацию, позволяющее обходными путями добраться до противника, и, действуя незаметно, на основе лишь эффекта, получаемого от использования сложившихся обстоятельств, «взять его в кольцо» и обезоружить.
Давным-давно князю У из княжества Чжэн вздумалось напасть на княжество Ху. Для этого, как говорится в трактате об управлении государством, князь У объявил, что выдаст свою дочь замуж за князя Ху и стал готовиться к свадьбе. Тем самым ему удалось расположить к себе князя Ху и «направить его мысли к наслаждению».
Затем он обратился с вопросом к своим советникам: «Мне хотелось бы задать работу моим войскам; на кого я могу напасть?» Крупный военачальник Гуань Цыси ответил: «На княжество Ху». Князь У впал в ярость и приказал казнить военачальника, повторяя: «Княжество Ху – братская держава. Как можно было быть столь безрассудным, чтобы дать мне совет напасть на нее?» В итоге государь Ху решил, что княжество Чжэн благорасположено к нему и оставил помыслы об обороне. Войска Чжэн внезапно атаковали княжество Ху и захватили его.
ОБРАЗ ВОДЫ
1. Один образ постоянно повторяется в философских текстах Древнего Китая, освежая их и устанавливая их внутренние связи – это образ воды. Вода, говорит Лао-Цзы (8) – это то, что ближе всего к «Пути», дао. Она не есть сам Путь, так как вода – это особая, отличная от других реальность, в то время как Путь охватывает реальность во всей ее полноте, объемлет все противоречия: если вода представляет собой «актуализацию» реальной формы, то Путь возвращает нас к неразличимой сущности вещей. Тем не менее, поскольку вода совершенно податлива, текуча, неуловима, бесформенна и никогда не прекращает своего движения и не может иссякнуть, вода выводит нас на дорогу к Пути, возвышает нас до всеобщего. Его невозможно увидеть или назвать (отделить от других); от него все исходит и к нему все возвращается. Таким образом, из всех актуализированных форм вода, вероятно, представляет собой такую формой реальности, которая актуализировалась в наименьшей степени: она не принимает никакой определенной формы, не застывает в каком-либо определенном месте. Вода в наименьшей степени соответствует понятию вещи – самая живая, самая подвижная вещь.
Поэты и философы часто воспевали воду за ее чистоту; в бесплодной пустыне она служит для утоления жажды, она – как источник жизни для души. Высказывания Гераклита «все течет (или «нельзя войти два раза в один и тот же поток» – фрагм. 134 (94)), в философии ассоциируется с ощущением эфемерности, мимолетности и невесомости существования: «мы существуем и не существуем» - фрагм. 133 (49а)). Столь же лаконичному восклицанию Конфуция, произнесенноу, по преданию, на берегу реки – «Так же постоянно день переходит в ночь» («Лунь юй», IX, 16) – соответствует традиция восхищаться этим беспрерывным течением, подобным всеобщему процессу мироздания, источник которого неиссякаем (ср. Мэн-цзы, IV, В, 18). Внешне совершенно обыденный, образ воды, с одной стороны, имеет признаки небытия, а с другой, представляет собой основу имманентности. Ибо вода постоянно самовозрождается и, притекая из невидимых верховьев, никогда не прекращает своего движения, иллюстрируя само понятие эффективности. Или – что представляет собой «достижение эффекта».
Образ воды освящает различные аспекты этих понятий, так как в нем отражено все. До такой степени, что когда начинают говорить о воде, замечает Лао-цзы, «речь, кажется, имеет обратный смысл» и лишний раз заставляет поверить в парадокс: «В мире нет ничего более податливого и более слабого, чем вода, но чтобы бороться с тем, что является твердым и сильным, ничто не может ее превзойти», – а также «заменить» ее (Лао-цзы, 78). И еще, вода – это «самое гибкое и податливое, которое берет верх над самым твердым» (Лао-цзы, 43). Ведь коль скоро в ней нет жесткости и неподвижности, не существует и такого места, куда бы она не проникала – причем сама она не «ломается» (ср. Ван Би). Очевидно, что когда кто-либо «желает сохранить свою силу, то он не будет сильным; только сохраняя гибкость и податливость, можно оставаться сильным» (Лао-цзы, 52); и еще: только если не сопротивляешься, становишься самым сильным и стойким.
В этом вода противоположна камню: будучи твердым, камень истирается и разбивается, даже такой долговечный камень, как нефрит; своей неподвижностью и твердостью камень воплощает то, что дошло «до предела своей актуализации» (Лао-цзы, 38, ср. комм. Ван Би) и застыло в своих очертаниях. Податливость воды, напротив, напоминает гибкость тела грудного ребенка (Лао-цзы, 76). Когда человек рождается, когда прорастает растение, нежность и гибкость тела ребенка, так же как хрупкость раскачивающихся побегов, полны жизни и веселья, тогда как после смерти тело человека или дерева всегда бывает затвердевшим и высохшим. Все это, утверждает Лао-цзы, применимо к стратегии: когда войска тверды и непоколебимы, они вряд ли сумеют победить.«Слабость» – это тот путь, по которому следует дао, одерживая победу над силой (Лао-цзы, 40). Поскольку настоящей силой является скрытая, внутренняя сила, а не та, которая, чтобы проявить себя, должна напрягаться и, напрягаясь, приходит к тому, что ломается или, по крайней мере, истощается. Иначе говоря, настоящая сила – это не то могущество, которое выставлено напоказ, но потенциальная мощь; в стратегии, например, это потенциал ситуации, тот, что подобен скопившейся воде.
«Войска используются военачальником в бою, как скопившаяся вода, когда она идет напролом и устремляется в бездну» (Сунь-цзы, гл.4, »Син» конец); из-за большой разности высот и узости русла реки сила воды может возрасти настолько, что она сможет гнать вперед камни (там же, гл.5, «Ши»). Хотя вода по природе своей «податлива и мягка», а камни – «тверды и тяжелы» (Ду My) вода преодолевает вес камней только благодаря своему удачному положению. В результате можно сказать, что настоящую силу в наибольшей степени характеризует то, что она не принуждает себя. Китайские мыслители вновь и вновь возвращаются к этому положению: воде по природе свойственно течь вниз; если ей удается нести своим течением даже камни, то это является результатом того, что она стремится сверху вниз, под уклон, встретившийся на ее пути.
Вода – это образ того, что постоянно ищет выхода, стремится продолжать свой путь, но не нарушает при этом своей естественной склонности, а постоянно следует ей: «Построение войск должно походить на движение воды. Так же, как воде свойственно избегать того, что наверху, и стремиться к тому, что внизу, войска должны избегать укрепленных позиций противника и нападать на слабые позиции» (Сунь-цзы, гл.6, «Сю ши»). Сильные позиции – это такие позиции, где противник – «полный», где он преграждает путь нашим войскам, «слабые позиции» – это позиции, где он – «пустой», то есть не имеет достаточного количества воинов или ему-не хватает средств для сопротивления: стратег, как и вода, обходит все препятствия и проникает туда, где для него открыт путь; как и вода, он все время идет по пути наименьшего сопротивления и в любой момент находит, где легче всего пройти.
2. Это положение «внизу», направление, к которому вода беспрестанно стремится, стекая по своему руслу, позволяет ей побеждать. Если большие реки и море могут «господствовать над сотнями речушек», как мы уже видели (Лао-цзы, 66, ср. выше, гл.7), то это возможно только в силу того, что они находятся ниже. Первый смысл этого наблюдения совершенно понятен для нас: вся мощь концентрируется внизу, в устье. Море наполняется за счет всех вод мира, стекающих к нему, не тратя сил на их поиски; воды устремляются к морю и втекают в него, исходя лишь из естественной склонности, морю только остается их принять. Но кроме того, можно обнаружить еще один смысл – связанный с искусством стратегии, которое, кажется, не соответствует обычным взглядам, а даже является противоположным общепринятому: стремясь вниз, вода «никогда не падает» (Лао-цзы, 8).
Мы оказываемся внизу – мы не вступаем в бой. Самая лучшая стратегия – это начать с того, чтобы уйти от стратегии противостояния, отойти от любого соперничества; такая стратегия противоположна обычной. Ибо тот, кто не нападает, также и не подвергается нападению (Лао-цзы, 22). Не только потому, что об этом никто не подумает, но и потому, что это не удастся осуществить – ибо никто не найдет повода начать борьбу. Сознательно уйдя в самый низ, туда, где другому находиться противно, мы лишаем его возможности начать противостояние и соперничество и тем самым полностью обезвреживаем; препятствуя проявлению вражды, врага заранее выводят из игры. Еще раз можно сказать, что все зависит от условий, при которых, принимая удобную позицию, мы одновременно добиваемся и другой цели: заняв по своей воле нижнюю позицию по отношению к другим, я отнимаю у них возможность загнать меня на эту позицию, парализую их агрессивность. Тот, кто обладает в полной мере такойспособностью, подобен новорожденному ребенку; он становится неуязвим (Лао-цзы, 55). Напротив, тот, кто действует силой, заставляет других поступать так же по отношению к нему: он сам дает им оружие, сам себя ставит под удар (ср.Ван Би, 49).
Это соответствует общему принципу: самый естественный «путь к Небу» – суметь победить, не нападая (Лао-цзы, 73). Лао-цзы применяет этот принцип к стратегии: хороший военачальник не бывает «воинственным», то есть, поясняет толкователь (Ван Би, 69), он не стремится опередить и напасть; другими словами, «тот, кто способен победить противника, не завязывает с ним бой». При помощи этой «способности к не-нападению» можно должным образом «использовать силу». Но как понять такое отношение к другому, при котором удается победить его без всяких столкновений? Лао-цзы объясняет это рядом парадоксальных формулировок без расшифровки (по типу формулы «действовать без действия»): «Отправиться в поход без того, чтобы был поход», «Засучить рукава без того, чтобы были рукава», «Броситься в бой без того, чтобы был противник», или «Крепко держать в руках без того, чтобы было оружие» (69). Это означает, что «сопротивление не проявляется до того, как начат бой», лаконично добавляет автор. Можно развернуть это высказывание: мы оказываем давление на противника – ибо в самом деле существует определенное давление, напряжение, угроза, – но не в виде наступления (мы даже готовы к отступлению), без каких-либо открытых проявлений силы – то есть мы не стремимся встретиться с противником лицом к лицу в определенном месте и в определенный момент – предприняв военный поход, взяв в руки оружие и ринувшись в атаку.
«Поход» в самом деле осуществляется, но не совсем такой поход, который обычно обозначается этим словом. Есть такое действие, как «засучивание рукавов», но мы не можем наблюдать за чем-либо, воплощающим это действие, то есть виден акт, но не объект (индивидуальный и ограниченный), на который направлено это действие.
В результате нет ничего ощутимого, что предоставило бы противнику возможность наконец собраться с силами и оказать отпор. Он будет разгромлен, не имея возможности даже начать сражение, – он вовсе не встретит противника: давление проявляется, но не осуществляется полностью (следовательно, оно ограничено), все удается проделать, не прикладывая усилия к какой-то одной конкретной точке, где это усилие могло бы спровоцировать сопротивление. Противник, попав в такое беспрерывное течение, как бы в поток воды, не способен даже ухватиться за какую-либо неровность или шероховатость. Бою как событию противопоставляется непрерывность развертывания действия, в ходе которого противостояние враждующих сторон постепенно уменьшается – не столько в результате истощения сил, сколько благодаря умению предупредить действия противника, сломить его сопротивление, парализовать его волю. Речь идет о том, чтобы «побеждать изо дня в день» подхватывает эту мысль автор трактата о дипломатии (Гуйгу- цзы, гл. 8 «Мо»), то есть в результате постоянной борьбы, проходящей без выраженных столкновений. Борьба постоянная, но рассеянная, повсеместная, борьба, которую остерегаются завязать открыто и явно: страна «ничего на нее не тратит», а другие даже не осознают «насколько они подчинены и зависимы». До сих пор нигде, кроме трактата о военной стратегии, одна из глав которого все же посвящена «атаке» (Сунь-цзы, гл. 3 «Моу гун»), не дается советов насчет нападения: «Одержать сто побед в ста битвах – относительное благо, но добиться подчинения противника, не начиная борьбы, – предел совершенства». Таким образом «искусный военачальник подавляет противника, не нападая на него, разрушает страну противника без длительных походов и осад. В конце концов, такое поступательное движение, направленное на осуществление определенных целей, скорее приведет к успеху, чем ряд сражений, очень ярких и зрелищных, но неминуемо вызывающих отпор, причем результат их невозможно точно предсказать.
3. Еще один образ, используемый в военном трактате, позволяет точнее почувствовать, от чего зависит успех: «Рельеф местности обуславливает течение воды, а противник обуславливает победу» (Сунь-цзы, гл. 6, «Сю ши»). Этот образ следует понимать буквально. Он приводится не для того чтобы проиллюстрировать какой-либо ранее провозглашенный принцип, впоследствии он также не толкуется; именно в этом сравнении намечается и развертывается теория. Точнее, идея уже давно носилась в воздухе, но только здесь она окончательно выкристаллизовывается. Сама по себе вода не имеет определенной формы, она постоянно меняется, приспосабливается и, именно благодаря умению приспособиться она может беспрепятственно течь все дальше и дальше. Таким же образом, как мы видели, лишь приспосабливаясь к противнику, можно взять над ним верх. Позиция противника для меня – то же самое , что рельеф местности для воды: я изучаю эту позицию, приспосабливаюсь к ней, вместо того, чтобы противодействовать ей и менять в ней что-либо; короче говоря, я не оказываю сопротивления, а сообразуюсь с существующей ситуацией, и тогда победа неминуема и необратима, так же, как течение воды, беспечно уносящейся все ниже и ниже. Форма воды «не заключена в воде», но происходит от рельефа; так же и «военный потенциал – не во мне» (Ду My), а происходит от моего противника. Возможно, он и не во мне (иначе я мог бы его исчерпать), и не в другом; скорее всего, это я его вытягиваю из моего противника. Иначе говоря, потенциал не связан с противостоянием сил, когда одна сторона нападает на другую и каждая обладает определенной силой; потенциал является потенциалом ситуации; ход развития этой ситуации позволяет нам постоянно наращивать нашу силу без необходимости прикладывать какие-либо усилия. Потенциал заключается в возможностях ситуации: так рельеф местности создает условия, необходимые для течения воды, и она успешно использует его возможности. Таким образом: «Соответствовать противнику – вот что необходимо для создания потенциала» [76] (Мэй Яочэнь). А развивается этот потенциал в результате манипуляций, которым хорошо поддается: если войска противника наступают, я наношу им удар, если они полны энтузиазма и рвутся в бой, я их «ослабляю»; если полководец «полон спеси и высокомерия», мне выгоднее «унизить» его; если он «алчен», то надо «подкупить» его и т.д. (Ли Цюань). Поскольку вода свободна в своем движении, она может воспользоваться малейшими неровностями почвы, чтобы продвинуться вперед; точно так же, пока я остаюсь свободным – и не только сам не принимаю никакой определенной формы, но и не застываю в той форме, которую я временно принял в данных обстоятельствах, – до тех пор я могу пользоваться малейшей открывшейся брешью и продолжать свой путь вперд. Вообще говоря, я выбираю ту или иную стратегию только исходя из положения противника: если соотношение войск «десять к одному», то надо его «окружить», если «пять к одному» – напасть на него, «при равных силах» – «разделить» его, и наконец, при меньших силах – «бежать», «избегая» его (Сунь-цзы, гл.З, «Моу гун»).
То же самое можно наблюдать, когда вода обходит препятствия, возникающие на ее пути, а не оказывает им бесполезного сопротивления. Если противник, находящийся в менее выгодном положении, продолжает упорно держать оборону, он становится жертвой более могущественного противника. В такой логике потенциала, происходящего только от ситуации, не остается больше места для самоотверженого напряжения сил человека. Жертвенность, даже героизм – бесполезны и опасны. Можно обойтись без заранее составленного плана, соответственно, любой командир вправе не подчиняться полученным приказам, если они его не устраивают; остается только следовать требованиям ситуации, она становится как бы единственной инстанцией. Только она позволяет отделить то, «что подходит» в данном конкретном случае, от того, что не подходит (Сунь-цзы, гл. 3, «Моу гун»; Цзя Линь), и она же становится источником движения. Известно, нет ничего хуже, чем повторить то, что ранее привело к успеху: ибо ситуация – уже другая, ее потенциал не такой же, что прежде, а прошлое уже минуло. Напротив, если мы подготавливаем победу, «исходя из положения противника», то ее потенциал «неистощим» (Сунь-цзы, гл.6, «Сю ши»); используемая нами стратегия всегда поможет застать противника врасплох и дезориентировать его, поскольку такая стратегия находит источник энергии и «движущую силу» в постоянном приспособлении (Мэй Яочэнь, ср. смысл цзи). Любое положение остается почти неизменным, ели оно изолировано, независимо и его функциональность не востребована; тогда как в соединении с другими оно мобилизуется и становится реактивным, связующая сила, как и готовность к действиям, становится гораздо выше.
4. Продолжим сравнение: так же, как вода «не имеет постоянной формы», войска «не имеют такого потенциала, который был бы постоянен» (Сунь-цзы, гл.6, «Сю ши»). Вода символизирует потенциал не только своей способностью к приспособлению, но и своей изменчивостью. Совершенно очевидно, что положение противника всегда в той или иной мере меняется, поэтому если я продолжаю к нему приспосабливаться, я сам постоянно трансформируюсь. Следует различать эти два понятия, ибо они хотя и близки (бянъ – хуа), но соответствуют двум различным уровня применения. Если в начале процесса модификация может быть только точечной, то для приспособления к ней мне приходится мобилизовать все свой силы; но полностью изменяясь под ее влиянием, я обновляюсь изнутри и постоянно остаюсь динамичным. Поскольку последствия этого процесса проявляются беспрестанно, здесь уже не приходится говорить об эффективности – такое понятие кажется слишком ограниченным, неприменимым к изменениям, зависящим от изменений состояния противника. Когда наши действия не преследуют цели добиться победы – это и называется истинной, божественной способностью приносить эффект (ibid). Способность приносить эффект – понятие тонкое, непостижимое, близкое к понятию «основания имманентности»: к тому, что дает обоснование мира – «дней» и «времен года»; самое «божественное» по своему истоку одновременно и есть самое естественное. В связи с этим необходимо различать «постоянное» и «изменчивое»: на войне существует «неизменная» логика, но «потенциал» преобразуется так же, как вода, обладающая неизменной «природой», но способной изменять свою форму (Ван Си). В самом деле, когда неизменная природа воды влечет ее все ниже и ниже, она не имеет постоянной формы, потому что ее форма определяется рельефом местности; точно так же, если на войне существует одна неизменная логика – нападать на слабые пункты, то потенциал при этом беспрерывно меняется, потому что он зависит от противника, с которым имеют дело, так что слабые пункты при этом будут всякий раз иные – в зависимости от ситуации.
Именно поэтому невозможно смоделировать войну, построить ее модель или образец (eidos), применимый во всех случаях: «Нападение и защита – очень тонкие понятия, невозможно их точно определить» (Ли Цюань). Ибо закрепление формы, выражение ее в рамках какой-либо парадигмы приводит к потере всего потенциала. При невозможности смоделировать конфликт, поскольку он постоянно изменяется, нам остается только обозначить его как переменную величину: вместо того чтобы строить теорию форм, китайские мыслители разрабатывают систему различий. Иными словами, они не стремятся выделить общие, более или менее постоянные черты, а исследуют границы возможных изменений. Для них не стоит вопрос идентификации, столь важный в европейской метафизике, а скорее – вопрос инвентаризации (возможностей как ресурсов).
Таким образом, после того как разобрана та единственная логика, что свойственна войне, автору военного трактата остается только наметить общую картину всех отклонений. Причем не тех отклонений, которые были бы связаны с реализацией его логики мышления, но отклонений, возникающих в результате разнообразия возможных ситуаций, которые исследуются этой единой логикой во всех направлениях, что позволяет получить общую картину явления и затем уже проводить сравнения.
В последних главах трактата речь идей о «Девяти землях» («девять» в данном случае – не точное количество, а указание на нечто предельное, чрезмерное – «изменения, доведенные до крайностей»). «Земли» различаются в зависимости от того находится ли участок земли на «нижнем уровне», можно ли с ним «связаться», или же он «отрезан от всего», или «закрыт», или «губителен» и т.д.; или же «участку земли» приписывают более широкий смысл: в зависимости от того, является ли он «рассеянным», «легким», «соединяющим», «разъединяющим», «тяжелым», «трудным» и т.д. Эти различия перечислены для того, чтобы можно было ими воспользоваться в зависимости от ситуации; они помогают нам увидеть, каким образом происходит переход от одного к другому: «Если полководец не понимает значения девяти переменных (тун), наблюдая, как они сообщаются между собой, напрасным будет его знание рельефа местности, ибо он не сможет им воспользоваться» (Сунь-цзы, гл.8, «Цзю бянь»). Эта картина не имеет отношения к настоящей науке топологии, ее цель – не рассматривать и классифицировать отдельно каждый случай (доказательством этому может служить то, что рубрики и названия могут переноситься из одного списка в другой), а выявить возможности изменений. Ведь известно, что на войне не бывает большей опасности, чем оставаться неподвижным в каком-то одном положении. Нет ничего хуже, как следовать определенным правилам и требованиям, поскольку, они не позволяют проявить достаточно гибкости и мешают воспользоваться изменившейся ситуацией, то есть именно тем, что создает потенциал (то же самое относится и к этике).
Не существует ничего, говорится в трактате, чем бы «стоило дорожить любой ценой» (таков смысл би; Сунь-цзы, гл.8 , «Цзю бянь»): ни «рисковать своей жизнью», ни «спасать свою жизнь», ни «выходить из себя», ни оставаться «чистым» и «честным», ни даже «спасать свой народ» (своих солдат). Дело в том, что любую позицию можно обсуждать, даже сам факт, что вы приняли ту или иную позицию, уже вызывает сомнение, так как действуя исходя из определенной позиции, мы не сможем приспособить наше поведение к постоянно изменяющейся ситуации, и в конце концов наши принципы приведут к тому, что мы будем «убиты», «пленены», «подвергнуты насмешкам», «оскорблениям», «поставлены в безвыходное положение». Как и мудреца (ср. у Конфуция – «Лунь юй», IV, 10), «стратега невозможно закрепить в одной точке»; искусство стратегии в том и состоит, чтобы уметь резко все менять, так же, как это происходит в жизни.
5. В этом отношении сопоставление войны и дипломатии – очень показательно. На войне такое действие, как «нападение», выступает альтернативой «защиты»; при дворе имеют место «объединения» или «разъединения», заключение союзов или их разрыв (Гуйгу-цзы, гл.6, «У хэ»). Однако логика остается прежней – она будет такой же для любых попыток противопоставить одно другому, такой же, как в природе. Вообще, независимо от того, говорим ли мы о том, что идем навстречу кому-то или против кого-то, стратегия будет направлена на то, чтобы приспособиться. Изменения происходят беспрерывно, каждый раз мы имеем рельеф со своим потенциалом и во всех случаях необходимо действовать в зависимости от ситуации. Дипломат, так же, как и стратег, не только приспосабливается к изменениям: он «действует уместным образом», и это в данном случае означает, что «исходя из обстоятельств, из конъюнктуры», он прекрасно осознает, какие действия будут «адекватны данному моменту»; видя, что «увеличивается» или «уменьшается» в настоящее время, он может предвидеть, как сложится ситуация в будущем и «изменить свое поведение вместе с ней». Поскольку ничто не бывает постоянным, и особенно то, к чему мы испытываем особое уважение, «мудрец» (здесь надо понимать – «дипломат») не может быть привязан к чему-либо или отвергать что-либо раз и навсегда; но коль скоро «объединиться» с одним означает «разъединиться» с другим, он идет от одного к другому, чтобы найти то, что соответствует его интересам, и иметь возможность впоследствии, не испытывая никаких сомнений, объединиться с теми, кто ему больше подходит (крупные политические деятели, высшие сановники поступают так при смене династий).
Чтобы наметить ориентиры для выбора линии поведения, нужно учитывать все случаи перемен, перечисленные в трактате в соответствии с определенной системой: касается ли это высказываний о способностях партнера (гл.К), «Моу»), о способах приблизиться к нему (гл. «Мо») или о том, как в разных ситуациях меняется речь (она может быть льстивой, решительной, доверительной, успокоительной и др.; гл. 9, «Цюань»). Если в Греции специалисты по риторике разрабатывали списки тропов, образных выражений, свойственных речи в качестве ее форм, то в этом трактате разнообразие речи рассматривается в зависимости от перечисленных обстоятельств и случаев.
Познание освещает важность ситуации (цюань, Гуйгу-цзы, гл.9). В трактате слово «весы», «взвешивание» употреблено в прямом смысле; кроме того, то же самое слово обозначает понятие «власть», в частности политическую (цюань ли), и понимается как нечто, вызванное обстоятельствами и полезное для нас (цюань-бянь, цю-ань-моу): это позволяет не связывать себя жесткими правилами (цзин); не застывать в одном положении, а продолжать развиваться в зависимости от логики процесса.
Однако тот факт, что оба смысла сливаются в одном слове и могут быть поняты по-разному в зависимости от положения чашек весов, наводит на мысль, что здесь дано определение реального явления, того, как ситуация переходит из одного положения в другое. «Обстоятельства» – это такое явление, благодаря которому реальность постоянно изменяется и развертывается (понятие бянь- тун), а время власти – это не что иное, как результат такой перемены направления.
Если в нашем понимании жизни обстоятельства имеют лишь второстепенный статус, их место – где-то в конце списка падежей, а роль их ограничена только «окружением» именительного падежа, деятеля, стоящего на первом месте (и играющего определяющую роль по отношению к объекту), то такая постоянная изменчивость, которую иллюстрирует образ текущей воды, понимается в Китае как сам ход жизни. Когда в XX веке китайцы добавили новый смысл этому слову, переведя новое для них понятие «прав человека» (жэнь-цюань) буквально как «полномочия человека», то на этом примере хорошо видно, как слово, долженствующее выражать некий новый смысл, тем не менее остается просто наклеенным на старое понятие – и мы можем констатировать справедливость этого совмещения на материале современной политической жизни Китая.
Если власть происходит от ситуации, то право делает ситуацию трансцендентной: в этическом плане оно заставляет признать абсолютную ценность личности; в функциональном плане – независимость, автономность субъекта.
Греческая философия также всегда осознавала наличие переменных величин, даже считала, что они могут выходить за рамки любых регламентации. Но тогда ими нельзя управлять. Аристотель, например, признает, что переменные величины существуют в навигации, он же связывает их со стратегией; не бывает общего знания всех частных случаев, ветры, веющие над волнами, слишком разнообразны для того, чтобы их можно было кодифицировать. По мифологическому родству, Тюхэ, богиня судьбы и удачи, приходится дочерью Океану и Тефиде и сестрой Метиде.
Тем не менее, существует такой образ воды, который в наименьшей степени отражен в литературе и философии Древнего Китая: моряк, путешествующий по воле волн и ищущий спасения (poros), молящийся богам и обманывающий течения. Потеряв надежду найти последователей своему учению, Конфуций однажды говорит, что он «взойдет на плот и уплывет в открытое бурное море» («Лунь юй», V, 6), но тотчас спохватывается и отвечает ученику, поймавшему его на, слове, что это была только шутка... На самом деле у китайцев не возникало желания куда-либо плыть. В Греции море омывало землю повсюду, берега были изрезаны заливами и бухтами; вечно волнующееся море перед глазами звало к приключениям не только моряка, но и, по его примеру, стратега и философа. Одиссей становится не только первым философом, но и отцом философии.
В Китае море омывает берега, которые плавно спускаются к кромке воды. Оно не зовет к путешествиям, не искушает опасностями – оно не призывает вывести мысль за рамки своей страны, де- территоризироватъ ее. Имманентность здесь возникает не как «дальний план», не как море («прекращающее хаос» – по Делезу), но как основа (для развития вещей). Поэтому стратег не рискует – а мудрец не сомневается.
ПОХВАЛА ЛЕГКОСТИ
1. Наблюдая эту обычную картину, которая всегда перед нами, – поток вод, беспрестанно устремляющийся вперед и обтекающий все неровности почвы, приспосабливающийся к ним, чтобы не прекращать своего движения, – можно снова и снова выводить ее теоретические следствия. Можно даже сказать, что чем банальнее образ, тем труднее понять, что он означает. Что касается китайской философии, она всегда вдохновлялась этим образом, он позволял ей осознать то, что труднее всего выразить словами: нечто очевидное, «легкое» – то, что происходит непрерывно и незаметно.
Быть может, чтобы лучше понять смысл этого явления, следует соотнести его с образом летящего по небу дракона, очертания которого едва различимы, так он извивается, сворачивается и разворачивается по воле ветра и облаков. Представив эту картину, можно, в частности, прочесть следующее: вода не имеет определенной консистенции, а если и имеет, то эта консистенция принимает различную форму, которая постоянно изменяется, не ослабевая и не разрушаясь, так что вода никогда не теряет ее. Можно сказать, что дракон – это самое удивительное существо, и с ним могут сравниться только мудрец или император, и это – только потому, что он идеально вписывается в привычное течение жизни и тем самым постоянно обновляется. Как поток воды, так и дракон не имеет определенной, раз и навсегда данной формы, – поэтому они постоянно находятся в движении. Мыслители Древнего Китая, стремясь уловить энергию, заключенную в процессе, бросают вызов самобытности и самодостаточности индивида. Не потому, что не верят в его существование или ничего не знают о нем, и не потому, что он сам отрицает и осуждает себя (напротив, он верит в свои силы и уверен в успехе своих начинаний), – но потому, что он всегда остается незаметным и неуловимым.Известно, что европейскую философию вплоть до наших дней можно прочесть как историю постепенного созидания и развития самодостаточности индивида; в связи с этим многое уже было сказано о познании, но в меньшей мере тот же самый процесс осознан с точки зрения действия; расхождение с философской традицией Древнего Китая делает это тем более заметным. Вернемся к уже обозначенным нами вехам: начиная с Аристотеля и традиции, остающейся в рамках категорий, разработанных эпической литературой и театром, в области этики можно заметить становление различных элементов теории, имеющих отношение к субъекту действия, его ориентирам и критериям. Способность испытывать «желание», принимать «решение», делать выбор», а также различение того, что делают «по своей воле» или против воли – все это означает широкую гамму признаков самостоятельности индивидуума – как известно, такие нюансы никогда не были выражены в Древнем Китае. В другой важный период истории, в эпоху Возрождения, снова можно наблюдать – например, у Макиавелли, – возрастание интереса к индивиду. Поскольку субъект у Макиавелли отказывается от созерцания установленного порядка вещей и от поисков идеала в нем, ибо сомневается в самом существовании такого идеала, он намеревается ввести свой внутренний мир во внешний мир: он считает, что добродетель заключается в том, чтобы бросить вызов судьбе, как бы опасно это ни было, и добиться осуществления своих планов.
У Клаузевица в эпоху, когда посткантианская философия выносит этику за скобки, самоутверждение индивида перед лицом сложившейся ситуации рассматривается как свидетельство незаурядной силы воли. «Сопротивление», пишет он, является результатом влияния двух связанных между собой факторов – «наличия необходимых средств» (физических сил) и «силы воли»; соответственно, когда подчиняют другого, парализуют прежде всего его волю. Только на свою волю может рассчитывать стратег как на последнее средство для того, чтобы выйти из тяжелой ситуации (в результате можно сделать вывод, что на уровне стратегии воля важнее, чем владение искусством стратегии и тактики). Все эти рассуждения направлены на то, чтобы рассеять сомнения, возникающие из-за сложностей «осуществления» стратегического замысла, справиться с «трением». Поразительная сила воли... Европейская философия подняла ее на такой уровень, что позволила индивиду бросать вызов всему миру, помогла ему самоутвердиться и самореализоваться. Воля ближе всего подводит нас к Богу, открывает существующую в нас бесконечность (Декарт); в конечном итоге она превращает самого человека в божество. Позже европейская философия ее убивает (что можно заметить у Фрейда, Ницше, а еще раньше воля утверждается, а затем отрицается у Шопенгауэра), – но несмотря на это, в Европе воля утвердилась уже навсегда.
Что касается китайских философов, не стремившихся к утверждению идеи Бога, то они не отразили понятие «воли» ни в этике, ни в стратегии. В Китае философы противопоставляют то, что «делают», и то, что «могут» сделать, а не то, что «могут» и «хотят» (ср. Мэн-цзы, I, А, 7). Для них все является силой, включая внутреннюю силу (ср. общее понятие ли). Они не обращались к понятию «воли», как не исследовали и такие понятия, как право и свобода, то есть не мыслили человека отдельно от ситуации, вне сложившихся обстоятельств: вместо того, чтобы превозносить личность, они приняли за идеал того человека, который настолько слился с окружающим миром и растворился в нем, что кажется, что он ни в чем не принимает участия (вспомним концепцию «не-деяния»), и в результате ему удается достичь поставленной цели.
«Он известен, но не показывается», говорит Лао-Цзы о человеке «Пути», (дао (72)): он «себя любит» (ай: то есть он дорожит собой), но «не превозносит себя». Таким образом, китайская философия не признает ни ценности отдельно взятой личности, ни ее аскетической сущности (идущего рядом с нею «ненавистного я»). Как это часто бывает в китайской философии, главное воспринимается сквозь призму различных оттенков: о человеке, следующем дао, будет сказано, например, что он «освещает», но «не блестит» (58). Свет в большей степени направлен на то, чтобы слиться с окружающей средой, и хорошо известно, что только тот, кто не выделяется, не выставляет на показ свои достоинства, может избежать конфликтов (ср. Ван Би).
Известно, что когда люди выставляют на показ свои добродетели, смелость или силу, то тем самым они пытаются восполнить нехватку тех достоинств, которых не имеют (ср. 17, 18): все качества, которые можно заметить у какого-либо индивида или приписать ему, являются не чем иным, как мимолетным порывом, не соответствующим ситуации (иначе он слился бы с общим течением событий и не был бы столь заметным); напротив, эти качества только мешают плавному протеканию того процесса, в результате которого можно достичь желаемого результата (ср. 19): проявление добродетели или силы представляет собой только вспышку, внешний порыв, однократное усилие, нечто вроде извержения, которое тем более производит впечатление, чем менее вписывается в реальную жизнь. Поэтому мудрец (стратег) – это человек без каких-либо особых достоинств.
Если действовать своевременно, тогда, когда позиция противника еще не определилась – как настоятельно рекомендуется в трактате о военной стратегии – победа приходит совершенно незаметно, противник сдается, несмотря на то, что не было пролито ни одной капли крови (Сунь-цзы, гл. 5, «Син»). По крайней мере таков идеальный «путь» – мы знаем, что в Китае тоже бывают кровавые бойни ... Тем не менее, скорее, не-битва, не-столкновение, не-событие, иначе говоря, обычный ход вещей, – вот что китайская философия пытается осознать и исследовать. Ибо идеал (идеальное протекание процесса; ср., в частности, «Чжоу И», 11) – связан с обычным ходом вещей: когда ничего не надо хвалить и ничем не надо восхищаться, когда не совершаются никакие подвиги, и это происходит незаметно («это»: потому что трудно определить, кто или что совершает что-либо); когда настоящей «мудрости» не приходится блистать (Мэй Яочэнь), а достоинствам, как бы велики они ни были, не приходится «проявляться».
2. Таким образом, под старыми представлениями и противопоставлениями, известными в истории философии, теми, под влиянием которых она формировалась, но которые сегодня не всегда признает, хотя они еще далеко не исследованы до конца, – воспринимались ли они с точки зрения «знания» (в виде противопоставления материи и духа) или «действия» (свобода в противоположность необходимости) – зреет нечто другое, нечто такое, что снова возвращает и развивает их: это – субъект и ситуация. Эти понятия перекраиваются и смешиваются (по правде говоря, совершенно неплодотворными оказались недавние попытки представить философию этой страны в терминах материализма и идеализма; также невозможно отнести ее и к разряду «детерминистических учений», так как в китайской философии отсутствует понятие «свободы»). В данном случае, скорее всего, имеется в виду следующая альтернатива свободе: настоятельная потребность, вызванная запросами жизни.
Так, вместо того, чтобы утверждать существование Бога одновременно как архетипа и как высшего существа, китайские мыслители описывают реальность исходя из напряжения, проявляющегося в любой ситуации и способствующего ее развитию: «инь-ян» (одновременно и инь, и ян) – это то, что называется Путем, дао – читаем мы в древних китайских текстах («Чжоу И», «Цыси», А, 5). «Путь», дао – важнейшее понятие китайской философии, знаменующее неразрывную связь между двумя факторами, – инь и ян – или то же самое, пусть и под другими названиями, – и дающее возможность воспринять любую ситуацию в терминах полярности. В таком случае возникает необходимость вновь осмыслить, что собой представляет «ситуация». Ибо ее невозможно свести к совокупности обстоятельств, в которых находится субъект (хотя часто так ее и определяют): она не должна рассматриваться в качестве рамки для того или иного действия, или в качестве среды, способствующей реализации способностей; также она не предназначена для приукрашивания субъекта и выставления его в выгодном свете.
Ситуация – это не экран (на который можно было бы проецировать чьи-то возможности и способности), не красивый футляр. Если мы ведем себя в бою как трусы или как храбрецы, то, как уже говорилось, наше поведение не является результатом того, обладаем мы таким качеством, как смелость, или нет; оно определятся тем фактом, что ситуация заставляет нас реагировать тем или иным образом: «Трусость (одного) порождает отвагу (другого)», точно так же, как «беспорядок (у одного), порождает порядок (у другого)» или слабость одного порождает силу другого (Сунь-цзы, гл. «Ши»). Смелость является результатом, можно даже сказать, продуктом ситуации (противостояние на войне формирует полярность; поэтому китайская философия, воспринимающая реальность под углом зрения полярности, предрасположена к изучению стратегии). Однако такая параллель подводит нас к мысли, что рассматриваемая нами концепция по существу не отходит от таких «объективных» аспектов, как соотношение силы и порядка.
Тот, кто удачлив в бою, читаем мы в трактате, добивается успеха благодаря тому, что изучил потенциал ситуации «вместо того, чтобы надеяться на людей, находящихся у него в подчинении»: его искусство состоит в том, чтобы «опираться на потенциал» и уже в соответствии с этим он отбирает себе людей.
Кроме того, ситуация никогда не бывает неизменной, неподвижной – она не представляет собой какую-то местность или ландшафт. Приводимая в движение своей полярностью, она под влиянием естественной склонности постоянно меняет свою конфигурацию и направление. Из двух взаимосвязанных факторов один возрастает, тогда как другой убывает; таким образом, регулирование основано на непрерывной компенсации, когда один берет свой потенциал из отношений с другим и тем самым возобновляется в них: то, что исчезает, вновь появится в другом виде, – то есть ситуация всегда представляет собой замену одного другим. «Инь-ян (то инь, то ян), как уже говорилось, это и есть то, что называют Путем, «дао»: «Путь» в китайской философии понимается как продукт бесконечных взаимодействий; это тот «путь», по которому следует реальность в своем поступательном движении, и именно по нему стратег идет к своей победе; этот «путь» всегда будет логичным, даже проходя через то, что кажется «кризисом»; но при этом он никогда нам не известен.
Таким образом, здесь мы видим два различных подхода: либо строят какую-либо идеальную форму и проецируют ее на ситуацию, а затем на какое-то время фиксируются на ней; либо опираются на ситуацию как на явление или положение, причем известно, что положение это постоянно изменяется. Положение подобно боевому порядку – и здесь еще раз необходимо развести эти два термина (disposition – положение, dispositif – боевой порядок). Термин «боевой порядок», применяемый обычно в книгах по стратегии, не следует в данном случае понимать в военном смысле, как его часто используют во французском языке («совокупность военных средств, расположенных в соответствии с планом командования»); скорее, здесь он употреблен в другом смысле: некоторое построение, которым можно манипулировать и которое само по себе оказывает определенное воздействие на ситуацию.
В китайской философии существует эмблематический образ такого порядка: ворота (лень, двухстворчатые двери). Находясь в непосредственной близости друг от друга, подвешенные на соответствующих дверных петлях, обе створки двери отражают членение, свойственное любой ситуации; если рассматривать этот образ в целом, дверь – это то, что постоянно меняется, чередуя такие действия как «открываться» и «закрываться»; именно через нее осуществляется контроль; впускают и выпускают людей. Вообще ее положение позволяет регулировать некий поток (ворота – это одновременно и возможность потока, и возможность его регулирования). Как говорится в начале книги Лао-цзы (1), через них проходит бесконечная результативность сущего, «неизмеримая», находящаяся в постоянном обновлении. Этому образу в книге придается большое значение, так как с его помощью объясняется связь между разными понятиями; сама природа представлена в виде «ворот»: либо это женское начало, от которого происходит жизнь (6), либо образ Неба, от которого идет чередование «открытия» – «закрытия»; если мы примем все это, вместо того чтобы брать на себя инициативу, мы сможем добиться желаемого результата (10, Ван Би).
В предисловии к трактату о дипломатии (Гуйгу-цзы, гл.1 «Бай хэ», начало) также говорится, что «приняв открытие – закрытие инь и ян как способ назвать и определить судьбу всего сущего», мудрец (стратег) может «узнать врата жизни и смерти», «успеха или неудачи». Это знание не теоретическое – ибо стратегическая удача состоит в том, чтобы «сохранить» эти ворота: если мы сможем одновременно «вычислить конец (и начало) каждого действия» и «понять внутреннюю логику человеческого сознания», то есть его связи и регулятивы, то мы сможем «проникнуть в смысл знаков, предвещающих изменение», и контролировать «врата» успеха. В самом деле, створка ворот беспрестанно ходит то в одном, то в другом направлении, и каждое движение в одном направлении позволяет сделать другое движение в противоположном направлении. Поэтому «открытие» или «закрытие» является одновременно тем способом, которым осуществляется «преобразование» в природе, когда чередуются инь и ян (таковы смена дня и ночи, времена года), и которым должно осуществляться «изменение» в нашей (дипломатической) речи при разговоре с другим: разве нельзя воспринять «уста» тоже как своего рода «врата» (створки сознания)? Ведь его в равной мере можно рассматривать и как орган «допуска», и как орган «заграждения»? Другой, уменьшенный образ такого устройства, – это «петля» или «опора», на которой закреплена дверь и которая, тем самым, позволяет ей поворачиваться (Гуйгу-цзы, гл. «Чжи шу»). «Занимать положение дверной петли», как пишет автор, «означает занимать центральное место, вокруг которого все вертится, находиться на таком расстоянии, чтобы удобно было управлять». В самом деле, петля не движется – она неподвижна, как мудрец – ее не ценят, даже не замечают, но благодаря ей все остальное может вращаться вокруг оси без трения и сопротивления.
Здесь мы вновь встречаемся с хитроумием – metis. Марсель Детьен и Жан-Пьер Вернан так объясняют это сложное понятие, появившееся на заре греческой философии: то, что было характерно для «хитрости» (metis), а именно, возможность «действовать как рычаг, двигаться то в одну, то в другую сторону между двумя противоположными полюсами», так и не было теоретически оформлено в дальнейшем. Как известно, понятие metis оказалось довольно скоро вытеснено из философии; оно не нашло себе места в схеме мироустройства, принятой, в конечном счете, всеми греческими философами: с одной стороны, область «бытия», «сущего», «непоколебимого», «предельного», «истинного и неизменного знания», с другой – «область находящегося в процессе становления, многообразного, неустойчивого, отклоняющегося и колеблющегося в мнения». Может быть, такое противоречие намечено несколько схематично, но, тем не менее, оно стало основой нашей метафизики: путь к metis был прегражден тем выбором, который философия сделала в пользу рассуждений в рамках бытия и его противоположности – становления. В китайской философии можно выделить два аспекта, предрасполагающих к разработке стратегии: наряду с полярностью, под углом зрения которой эта традиция понимает все сущее, ее внимание обращено к движению маятника то в одну, то в другую сторону – когда одно влечет за собой другое и наоборот (смысл фань – фу; ср. в частнсти, Гуйгу-цзы, гл.2, «Фань ин»}. Эта по сути дела компенсирующая инверсия, тем не менее, принадлежит к числу достижении китайской мысли, и даже если в ней нет ничего от «диалектики» (хотя сегодня об этом много говорят в Китае с целью обеспечить своему философскому наследию мировое признание), представляется, что китайская мысль впервые открыла то, что можно назвать реактивностью действующих факторов, разработала ситуационный подход – одновременно контекстуальный и рассчитывающий предрасположенности – тот, который мы рассматриваем в качестве «эффективности» – субъекта.
Исходя из принципа построения моделей единственной связью настоящего с будущим оказывается проекция (то, что не поддается проектированию, должно быть отнесено к области случайного или неопределенного): независимо от того, отталкиваются ли от потенциала ситуации, или нет, отношение к будущему – это всегда предвидение: наблюдая за графиком развития реальности и замечая в данной ситуации начальные признаки будущих изменений, возможно логически определить ее дальнейшее развитие. Настоящий стратег не будет пытаться прочесть и интерпретировать смысл космических знаков и символов, вести себя как гадатель-герметист (в нашем понимании это связано с обращением к божествам); он будет предельно внимателен к изменениям действительности (ср. понятия чжэнь и чжао; Гуйгу-цзы, гл.1).
Все это показывает принципиальную разницу между Китаем и Грецией в трактовке понятия «невидимого»: невидимое относительно формы, модели (eidos) – невидимое как сверхчувственное, невещественное – связанное с усмотрением, с «оком» сознания, с теорией; тогда как невидимое, исследуемое китайской философией, – это то, что пока еще не стало видимым, не поднялось из глубины индифферентности, лежащей у истоков протекания всякого процесса: между невидимым и видимым проходят стадии «тонкого» и «мельчайшего» (вэй), позволяющие обеспечить этот переход; именно на них можно опереться при поисках ориентиров. Итак, стратег полностью осознает, что не существует ни правил, ни норм для того, чтобы кодифицировать будущее, ибо течение жизни находится в постоянном изменении и обновлении, так что ему только и остается, что сожалеть об этом (такой подход отличается от наших последних идеологических течений, связаннных с понятиями «сомнение», «турбулентность», «хаос» и др.)
3. С точки зрения китайских философов все направлено на восхваление «легкости», тогда как в глазах европейцев следует скорее отдать дань уважения трудному, тому, с чем нам предстоит справиться. Таково, например, испытание «началом» у Макиавелли: новый правитель добивается верховной власти с большим трудом, потому что «не существует ничего более трудного, сомнительного или опасного, чем введение новых законов» («Князь», VI). Сначала он встречается с большими препятствиями и «опасностями на каждом шагу», но тем легче ему будет удержать свою власть впоследствии. Трудности, с которыми встречаются в жизни, имеют самостоятельную ценность: именно благодаря им правитель становится еще величественнее, приобретает еще больше силы и мощи – иначе он никогда бы не использовал свои способности в полной мере и даже не подозревал бы о них. Чтобы преодолеть какое-либо препятствие, необходимо превзойти самого себя: здесь идет постоянное восхваление деятеля, воспевание героической личности. У Клаузевица можно найти следующее высказывание: «Почти не бывает подвигов, которые бы не осуществлялись ценой бесконечных усилий, трудов и лишений» («О войне», III, 7 ); можно даже вывести некоторую закономерность, состоящую в том, что эффективность пропорциональна трудности; так бывает, например, при внезапном нападении: очевидно, что внезапное нападение дает столько же преимуществ в легкости проведения сражения, сколько мы теряем в эффективности и результативности, и наоборот» (Там же, III, 9).
Однако китайские мыслители придерживаются по этому поводу совершенно противоположного мнения. Тот, кто осторожен (кто хорошо осведомлен), читаем мы в трактате о дипломатии (Гуйгу-цзы, гл. 10 «Моу»), легко управляет событиями и ситуацией, то есть он, как бы мы сегодня сказали, является хорошим «менеджером»; тогда как тот, кто не осведомлен в достаточной мере, «управляет с большим трудом». Дело не в том, что мудрец (стратег) не замечает трудностей или недооценивает их; напротив, он очень внимателен к ним (ср. Лао-цзы, 63); но вместе с тем, следуя учению Лао-цзы, он знает, что так же, как и в других парах противоположных понятий, легкое и трудное не противоречат друг другу, а определяют друг друга» (Лао-цзы, 2); вместо того, чтобы стать двумя неизменными исключающими друг друга состояниями, они являются двумя последовательными стадиями протекании жизни – из которых одно «ведет» к другому или одно «уже» является другим, точно так же, как порождают друг друга «индифферентная основа» и «конкретная актуализация» (вместо того, чтобы противостоять друг другу, как это происходит с понятиями бытия и небытия). То же самое относится к понятиям «до» и «после», которые «следуют друг за другом», а не являются полностью независимыми.
Поскольку следуя этой логике, любое движение представляет собой только переход от одного состояния к другому, стратегия будет заключаться в том, чтобы овладеть ситуацией на том этапе, когда это легко сделать, а затем, следовать естественному ходу вещей, осуществляющемуся по своей внутренней логике, и таким образом дойти до такого периода, когда возникнут те или иные трудности. Мудрец (стратег), как пишет автор трактата, предвидит и «планирует» наступление трудностей еще на стадии легкого периода и все крупные дела осуществляет на той стадии процесса, когда трудности еще не велики» (Лао-цзы, 63). Таким образом, «самое трудное в жизни должно осуществляться на стадии легкости, а большие деяния – на той стадии, когда они еще незначительны». Ибо мудрый человек понимает, что именно от незначительного можно ожидать больших результатов (ср. «Чжоу И», 14,15). Следовательно, вместо того, чтобы немедленно браться за преодоление трудностей, он подходит к ситуации таким образом, чтобы найти начало процесса развития и выбрать тот путь, который поведет его в нужном направлении; и вместо, того, чтобы осуществлять необдуманные действия, он начинает с незаметных действий, которые сами по себе позволят ему достичь наилучших результатов.
Иначе говоря, он ничего не «делает», ничего не начинает, пока не сложится подходящая для этого ситуация: то, что стабильно, спокойно, как он констатирует, «легко удержать», то, что непрочно, – «легко разрушить» (Лао-цзы, 64). Иначе говоря, прежде чем брать что-либо в руки и пытаться удержать, необходимо сначала достичь стабильного состояния, а прежде чем разбить, следует сначала дождаться слабости и непрочности.
Все искусство мудреца (и стратега) заключается в этой способности подготовить (другого или других) к тому, например, чтобы они «слушались», или к поражению и т.д. Таким образом, когда мудрец (стратег) активно вмешивается в ход событий, если это соответствует естественному ходу вещей, он не «делает» ничего «трудного»; и поскольку он довольствуется только тем, что незаметно приводит в действие те процессы, которые затем будут развиваться сами по себе, он также не совершает ничего «великого». Но именно благодаря таким действиям он сможет осуществить то, что в конце концов станет «великим» деянием.
Все это иллюстрируют и подтверждают уроки военного искусства: хороший генерал побеждает тогда и там, когда и где это легко (Сунь-цзы, гл. «Син»). Само собой разумеется, он нападает только на «то, что можно победить» (Цао Цао). А в ожидании этого момента он подготавливает – задолго до событий – условия для своего «успеха»; если он все доведет до стадии полной готовности, ему удастся одержать легкую победу. Когда существуют только «признаки» конфликта, «я действую тайно», скрытно, чтобы разрушить планы противника на той стадии, когда действующие силы слабы, «а факторы, определяющие победу, еще незначительны; только в таком случае можно утверждать, что победа будет легкой» (Ду My).
Проблема потенциала ситуации логически связана со всем сказанным выше – считается, что никакое, даже небольшое, отступление от естественного хода вещей невозможно: «Легко использовать людей, исходя из потенциала ситуации, и трудно требовать исполнения приказа, прибегая к силе» (Сунь-цзы, гл.5, «Ши», Мэй Яочэнь). Достаточно уловить этот потенциал, чтобы «победа пришла сама» и уже больше не надо было специально добиваться чего-то (Хэ ши): «Как бы ни были тяжелы бревна или камни, их легко сдвинуть по наклонной плоскости, тогда как без нее, даже приложив много сил, их очень трудно переместить». Теоретики деспотизма пользуются такой же аргументацией (Хань Фэй-цзы, гл. 34): легко заставить людей подчиняться, если опираться на потенциал своего положения, и гораздо труднее добиться этого, если рассчитывать на их уважение и добрые чувства.
Даже моралисты не высказывают по этому поводу никаких возражений, потому что считают, что тот путь, полный добродетелей, который они выбирают, является самым легким для достижения успеха. На исходе китайской древности все школы воспевают легкость достижения результата. Как пишет Мэн-цзы, «ошибкой людей является то, что они ищут свой путь вдали, когда он рядом, что они ищут трудное, когда на самом деле существует лишь легкое», – в таком случае они терпят неудачу (Мэн-цзы, IV, А, 11). Если бы они отталкивались от самого простого, лежащего в основе развития вещей, и затем распространяли бы и переносили успех на другое, они могли бы перевернуть мир «одной рукой» (Мэн-цзы, I, А, 7): достаточно было бы, чтобы люди сообразовались с тем порядком вещей, которой им доступен, «обращались с людьми как с близкими, как со старшими, с теми, кто старше их», что совсем не означает, что они должны следовать каким-то правилам, что им предписано какое-то поведение; ведь совершенно естественно, «чтобы во всем мире царил мир». И даже – чем тяжелее времена, чем больше насилия в мире, тем люди чувствительнее к малейшим проявлениям гуманного отношения к ним; тем более они полны готовности служить правителю, тем менее жестоким он будет; с готовностью выполняя его волю, они могли бы помочь ему добиться успеха (Мэн-цзы, II, АД).
[Еще показательнее следующее: название «Книги перемен» (И цзин), главного текста китайской философии, могло бы быть переведено и как «Книга легкости» так как и означает одновременно «менять» и «легкий»; это позволяет предположить, что изменение всегда происходит, следуя линии наименьшего сопротивления (подобно воде), как будто выбирая, где легче всего можно пройти.]
С образом Геракла, прославленного героя Греции, совершавшего самые трудные и опасные подвиги, «героя тяготы» (ponos), в Китае можно сравнить образ Великого Юя. Во время наводнения, когда вода залила всю землю и не знала, куда течь дальше, Великий Юй углубил русла рек, отвел воду к морю и сделал землю пригодной для жизни (ср. Мэн-цзы, III, В, 9). В самом деле, рассуждает Мэн-цзы, чтобы отвести воду, Юй заставлял ее течь там, «где для нее не было препятствий», используя уклон местности, и именно этим он дал нам хороший урок (там же, IV, В, 26): «Что мне не нравится в этих якобы рассудительных и дальновидных людях, так это то, что они постоянно преодолевают что-то, делают то, что свыше их сил, совершают противоестественные поступки и в конце концов попадают в тяжелую ситуацию. Однако, даже чтобы остановить наводнение, великий Юй не применял силу, а учитывал ситуацию (рельеф местности, опускающейся к морю), то есть опирался на естественные силы, а не на насилие». Но, безусловно, все имеет свою цену. Можно, к сожалению, констатировать, что китайский мыслитель, возможно, даже не подозревает об этом: так как выступая против всего мира, люди становятся свободными от него, а преодолевая сопротивление, пробивают себе дорогу к свободе, и вовсе не только для того, чтобы дать материал для эпоса, рассказывающего о героях и прославляющего их мужество и храбрость. И сколько жизней погубила это концепция, которая, следуя своей железной логике, уводит в бесконечную даль, и даже дойдя до пределов возможного, не может оторваться от своей цели! Возможно, в конце концов будет забыто едва ли не все, что по пути было безжалостно отброшено: субъективность, конечно, и страсть, и удовольствие, и трата сил и энергии, и безусловно, другой, который стал, наконец, действительно другим (и которого еще необходимо «открыть» и не обязательно как «другой» полюс в паре партнер/противник). Об этом мечтал, поднявшись на костер, Геракл, полный счастья от того, что потратил все свои силы ... Можно представить, как он говорит стратегу: «А что, если не только самое большое счастье, но и самая большая «выгода», как вы говорите, – это проиграть, а не выиграть? Проиграть по-настоящему – навсегда, чтобы «почувствовать цену этого «всегда» как Сизиф или Прометей, – и вовсе не для того, чтобы этот проигрыш благодаря изменчивости судьбы превратился затем в выигрыш? Что, если лучший способ почувствовать себя живым – даже вне этого мира – не эффективность, а что-то совершенно противоположное?» В таком случае, эту главу надо было бы переписать по-другому. И она бы называлась: «Похвала сопротивлению», или: «О нетерпимости к реальной жизни».
|
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.