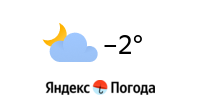Ролан Барт
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
Семиотика. Поэтика
Переводы с французского
Составление, общая редакция и вступительная статья Г. К. КОСИКОВА
МОСКВА «ПРОГРЕСС" 1989
ББК 83 Б 24
Рецензенты: член-корреспондент АН СССР Ю. С. СТЕПАНОВ и доктор филологических наук ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ
Редактор В. Д. Мазо
Барт Р.
Б 24 Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова.— М.: Прогресс, 1989—616 с.
В сборник избранных работ известного французского лите ратуроведа и семиолога Р. Барта (1915—1980) вошли статьи и эссе, отражающие разные периоды его научной деятельности. Исследования Р. Барта — главы французской «новой критики», разрабатывавшего наряду с Кл. Леви-Строссом, Ж. Лаканом, М. Фуко и др. структуралистскую методологию в гумани¬тарных науках, посвящены проблемам семиотики культуры и литературы. Среди культурологических работ Р. Барта читатель найдет впервые публикуемые в русском переводе «Мифологии», «Смерть автора», «Удовольствие от текста», «Война языков», «О Расине» и др.
Книга предназначена для семиологов, литературоведов, лингвистов, философов, историков, искусствоведов, а также всех интересующихся проблемами теории культуры.
ББК 83+81
4603000000-100
006(01)-89 °°
В оформлении переплета использованы материалы, предоставленные издательством «Сей», и рисунок Мориса Анри
Редакция литературы по гуманитарным наукам
@ Вступительная статья, составление, перевод на русский язык и ком¬ментарии — «Прогресс», 1989
[2]
Ролан Барт — семиолог, литературовед 7
Из книги "Мифологии" 50
Предисловие 50
I. Мифологии 52
Литература и Мину Друэ 52
Мозг Эйнштейна 60
Бедняк и пролетарий 63
Фото-шоки 65
Романы и дети 68
Марсиане 70
Затерянный континент 73
II. Миф сегодня 76
Миф как высказывание. 76
Миф как семиологическая система. 78
Форма и концепт. 85
Значение. 90
Чтение и расшифровка мифа. 98
Миф как похищенный язык. 102
Буржуазия как анонимное общество. 109
Миф как деполитизированное слово. 115
Миф слева. 119
Миф справа. 122
Прививка. 124
2. Лишение Истории. 125
4. Тавтология. 126
5. Нинизм. 127
6. Квантификация качества. 128
7. Констатация факта. 128
Необходимость и границы мифологии. 130
Литература и метаязык. 135
Писатели и пишущие. 135
Из книги «О Расине». 139
Предисловие 139
I. Расиновский человек * 140
1. Структура 140
Покои. 141
Три внешних пространства: смерть, бегство, событие. 141
Орда. 143
Два Эроса. 143
Смятение. 146
Эротическая «сцена». 147
Расиновские «сумерки». 148
Основополагающее отношение. 150
Методы агрессии. 152
Неопределенно-личная конструкция. 155
Раскол. 156
Отец. 157
Переворот. 158
Вина. 160
«Догматизм» расиновского героя. 161
Выход из тупика: возможные варианты. 163
Наперсник. 164
Знакобоязнь. 165
Логос и Праксис. 166
III. История или литература? 167
Литература сегодня. 176
Воображение знака. 181
Структурализм как деятельность. 183
Две критики. 187
Что такое критика? 189
Литература и значение. 192
Риторика образа. 199
Три сообщения 200
Языковое сообщение 202
Денотативное изображение 204
Риторика образа 205
Критика и истина. 208
I 208
Объективность 210
Вкус 212
Ясность 214
II 219
Кризис Комментария 219
Множественный язык 220
Наука о литературе 223
Критика 225
Чтение 229
От науки к литературе. 230
Смерть автора. 233
Эффект реальности. 236
С чего начать? 240
От произведения к тексту. 244
Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По 248
Текстовой анализ 248
Анализ лексий 1 —17 250
Акциональный анализ лексии 18—102 255
Текстовой анализ лексии 103—110 257
Методологическое заключение 260
Удовольствие от текста. 262
Разделение языков. 283
Война языков. 289
Гул языка. 291
Лекция. 293
Р. Барт. 1971 г. 303
Комментарии. 303
Мифологии (Mythologies). — Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Mythologies. P.: Seuil, 1957. Публикуется впервые. 303
I. Мифологии (Mythologies) 303
Литература и Мину Друэ (La Litterature selon Minou Drouet). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1956, январь. 303
Мозг Эйнштейна (Le cerveau d'Einstein). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1955, июнь. 304
Бедняк и пролетарий (Le Pauvre et le Proletaire). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1954, ноябрь. 304
Фото-шоки (Photos-Chocs). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1955, июль. 304
Романы и дети (Romans et Enfants). 304
Марсиане (Martiens). 304
Затерянный континент (Continent perdu). 304
II. Миф сегодня (Le Mythe, aujourd'hui) 304
Литература и метаязык (Litterature et meta-langage). 305
Писатели и пишущие (Ecrivains et ecrivants). 306
О Расине (Sur Racine). 306
Воображение знака (L'imagination du signe). 307
Структурализм как деятельность (L'activite structuraliste). 307
Две критики (Les deux critiques). 307
Что такое критика? (Qu'est-ce que la critique?). 308
Риторика образа (Rhetorique de l'image) 309
Критика и истина (Critique et Verite). 309
Смерть автора (La mort de l'auteur). 312
От произведения к тексту (De l'?uvre au texte). 313
Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По (Analyse textuelle d'un conte d'Edgar Poe). 313
Удовольствие от текста (Le Plaisir du texte). 314
Разделение языков (La division des langages). 315
Война языков (La guerre des langages). 315
Гул языка (Le bruissement de la langue). 315
Лекция (Lecon). 315
Библиография ............... 601 316
Работы Р. Барта 316
I. Монографии, эссе, сборники статей 316
II. Переводы на русский язык 316
Литература о Р. Барте 1. Монографии 317
II. Специальные номера журналов 317
III. Коллоквиум 317
Именной указатель. 317
Содержание 323
Ролан Барт — семиолог, литературовед
Р. Барт — наряду с Клодом Леви-Строссом, Жаком Лаканом, Мишелем Фуко — считается одним из крупней¬ших представителей современного французского структу¬рализма, и такая репутация справедлива, если только понимать структурализм достаточно широко. Именно поэтому следует иметь в виду, что помимо собственно «структуралистского», ориентированного на соответст¬вующее направление в лингвистике этапа (60-е гг.), в творчестве Барта был не только длительный и пло¬дотворный «доструктуралистский» (50-е гг.), но и блестя¬щий «постструктуралистский» (70-е гг.) период. Следует помнить и то, что сами перипетии тридцатилетнего «семиологического приключения» Барта в чем-то су¬щественном оказались внешними для него: сквозь все эти перипетии Барту удалось пронести несколько фундаментальных идей, которые он лишь углублял, варьировал и настойчиво разыгрывал в ключе тех или иных «измов». Что же это за идеи? Отвечая на этот вопрос, проследим прежде всего основные вехи научной биографии Барта.
Барт родился 12 ноября 1915 г. в Шербуре; через несколько лет после гибели на войне отца, морского офицера, переехал с матерью в Париж, где и получил классическое гуманитарное образование — сначала в ли¬цеях Монтеня и Людовика Великого, а затем в Сорбонне. В юности определились две характерные черты духовного облика Барта—левые политические взгляды (в ли¬цейские годы Барт был одним из создателей группы «Республиканская антифашистская защита») и интерес к театру (в Сорбонне он активно участвовал в студен-ческом «Античном театре»).
Предполагавшаяся преподавательская карьера была прервана болезнью — туберкулезным процессом в легких,
[3]
обнаруженным еще в начале 30-х гг. Признанный негод¬ным к военной службе, Барт шесть лет—с 1941 по 1947 г.— провел в различных санаториях. Именно на это время приходится процесс его активного интеллектуаль¬ного формирования — процесс, в ходе которого значи¬тельное влияние оказал на него марксизм, с одной сторо¬ны, и набиравший силу французский экзистенциализм (Сартр, Камю) — с другой.
В 1948—1950 гг. Барт преподавал за границей — в Бухаресте и в Александрии, где познакомился с 33-лет¬ним лингвистом А.-Ж. Греймасом, который, вероятно, одним из первых привлек внимание Барта к методоло¬гическим возможностям лингвистики как гуманитарной науки.
Однако, питая интерес к языковой теории, Барт выбирает все же карьеру литературного публициста: в 1947—1950 гг., при поддержке известного критика Мориса Надо, он публикует в газете «Комба» серию литературно-методологических статей, где пытается, по его собственным словам, «марксизировать экзистенциа¬лизм» с тем, чтобы выявить и описать третье (наряду с «языком» как общеобязательной нормой и индивидуаль¬ным «стилем» писателя) «измерение» художественной формы — «письмо» (заметим, что именно благодаря Бар¬ту это выражение приобрело в современном французском литературоведении статус термина). Эссе, составившееся из этих статей и вышедшее отдельным изданием в 1953 г., Барт так и назвал: «Нулевая степень письма»1. Затем последовала книга «Мишле» (1954)—своего рода субстанциальный психоанализ текстов знаменитого французского историка, сопоставимый по исследова¬тельским принципам с работами Гастона Башляра.
Колеблясь между лингвистикой (в 1952 г. Барт получает стипендию для написания диссертации по «социальной лексикологии») и литературой, Барт тем не менее до конца 50-х гг. выступает главным образом как журналист, симпатизирующий марксизму и с этих позиций анализирующий текущую литературную продук-
1 Термин «нулевая степень» Барт позаимствовал у датского глоссематика Виго Брёндаля, который обозначал им нейтрализованный член какой-либо оппозиции.
[4]
цию — «новый роман», «театр абсурда» и др., причем драматургия и сцена привлекают особое внимание Барта: он много публикуется в журнале «Народный театр», поддерживает творческую программу Жана Вилара, а с 1954 г., после парижских гастролей «Берлине? Ансамбль», становится активным пропагандистом сцени¬ческой теории и практики Бертольта Брехта, чьи идеи будут влиять на него в течение всей жизни: значение Брехта — писал Барт семнадцать лет спустя — состоит в соединении «марксистского разума с семантической мыслью»; поэтому Брехт «продолжает и поныне оста¬ваться для меня актуальным. Это был марксист, раз¬мышлявший об эффектах знака: редкий случай» 2.
Действительно, подлинным импульсом, обусловившим решительный поворот Барта к семиологии, следует счи¬тать не академическую проблематику самой семиологии, а брехтовскую технику «очуждения»: именно эта техника, обнажавшая, «разоблачавшая» семиотические коды, лежащие в основе социального поведения человека, и побудила Барта обратиться к проблеме знака и его функционирования в культуре и лишь затем с необходи¬мостью заинтересоваться аналитическим аппаратом сов¬ременной семиологии: знакомство Барта с соссюровским «Курсом общей лингвистики» относится к лету 1955 г.
Итак, брехтовский социальный анализ, пропущенный сквозь призму соссюровской семиологии,— такова зада¬ча, которую ставит перед собой Барт в середине 50-х гг., в момент, когда он окончательно осознал, что любые культурные феномены — от обыденного идеологического мышления до искусства и философии — неизбежно закреплены в знаках, представляют собой знаковые механизмы, чье неявное назначение и работу можно и нужно эксплицировать и рационально объяснить. Барт делает соответствующий шаг: в том же, 1955 г., по ходатайству историка Люсьена Февра и социолога Жор¬жа Фридмана он поступает в Национальный центр научных исследований, где берется за работу по «психо¬социологии одежды». Это большое исследование, замы¬сел которого постоянно обогащался в ходе знакомства Барта с трудами П. Г. Богатырева, Н. С. Трубецкого,
2 Barthes R. Reponses.—In: «Tel Quel», 1971, No 47, p. 95.
[5]
Р. О. Якобсона, Л. Ельмслева, Э. Бенвениста, А. Марти¬не, Кл. Леви-Стросса и др., превратилось в конце кон¬цов в книгу о «социосемиотике моды», завершенную в 1964 и опубликованную в 1967 г. под названием «Система моды»; это — одна из вершин «структурно-семиотическо¬го» периода в деятельности Барта.
Пока же, в 1954—1957 гг., Барт продолжает энергич¬но работать на литературно-критическом поприще и стре¬мится применить свои семиотические познания к литера¬турному материалу; кроме того, он непосредственно обращается к анализу знакового функционирования обы¬денной социальной жизни; так появляются на свет «Мифологии» (1957) —серия разоблачительных зарисо¬вок мистифицированного сознания «среднего француза», снабженных теоретико-семиологическим послесловием «Миф сегодня». Хирургически точные, беспощадно-язви¬тельные «мифологии» принесли Барту — в широкой среде гуманитарной интеллигенции — славу блестящего «эт¬нографа современной мелкобуржуазной Франции»; рабо¬та же «Миф сегодня», где автор, еще не вполне освоив¬шийся с терминологическим аппаратом современной семиологии, тем не менее глубоко вскрыл коннотативные механизмы идеологических мифов, привлекла к нему внимание в лингво-семиологических кругах.
Наряду с «Нулевой степенью письма», «Мифологии» могут в научной биографии Барта считаться образцо¬вой работой «доструктуралистского» периода — именно доструктуралистского, потому что идеологический знак рассматривается в «Мифологиях» лишь в его «верти¬кальном» измерении (отношение между коннотирующим и коннотируемым членами), то есть вне каких бы то ни было парадигматических или синтагматических связей:
это знак вне системы.
Переход Барта (на рубеже 50—60-х гг.) к структу¬рализму не в последнюю очередь связан с преодолением указанной методологической слабости. Во-первых, углуб¬ленное прочтение Соссюра, Трубецкого, Ельмслева, Леви-Стросса и др. позволило Барту понять значение парадигматического принципа для анализа знаковых си¬стем; во-вторых, знакомство с работами В. Я. Проппа и представителей русской формальной школы способство¬вало возникновению у него «синтагматического мышле-
[6]
ния». Поворот Барта к осознанному структурализму ярко отмечен двумя его программными статьями: «Воображе¬ние знака» (1962) и «Структурализм как деятельность» (1963).
В начале 60-х гг. меняется (и упрочивается) профес-сиональное положение Барта: в 1960 г. он становится одним из основателей Центра по изучению массовых коммуникаций3, с 1962 г. руководит семинаром «Социо¬логия знаков, символов и изображений» при Практи¬ческой школе высших знаний.
Помимо большого числа статей 4, опубликованных Бартом в 60-е гг., структуралистский период его «семитологической карьеры» ознаменовался появлением (наряду с книгой «Система моды») большого эссе — «Основы семиологии» (1965)5, где с очевидностью выявился замысел Барта, подспудно присутствовавший уже в «Мифологиях»,— придать новый статус семиологии как науке за счет включения в нее всего разнообразия коннотативных семиотик. Эта «семиология значения», требовавшая изучать не только знаки-сигналы, но и знаки-признаки (в терминологии Л. Прието) и тем самым открыто противопоставлявшая себя функционалистской «семиологии коммуникации» 6, произвела, по свидетельст¬ву А. Ж. Греймаса 7, впечатление настоящего шока и вызвала бурную полемику. Тем не менее, эффективность бартовского подхода, отомкнувшего для семиологии це¬лые области культуры, ранее ей малодоступные, оказа¬лась настолько очевидной, что семитологические исследо¬вания Барта сразу же получили права гражданства и
3 С 1973 г.— Междисциплинарный центр социологических, антро¬пологических и семитологических исследований.
4 Среди статей этого периода нужно назвать «Введение в струк¬турный анализ повествовательных текстов» (1966), где резюмируется состояние европейской (главным образом русской и французской) нарратологии и указываются пути ее возможного развития.
5 Термин «семиология» Барт употреблял для обозначения общей науки о знаковых системах, а «семиотике» придавал конкретизи¬рующий смысл («семиотика пищи», «семиотика одежды» и т. п.).
6 См.: М о u n i n G. Semiologie de la communication et semiologie de la signification.— In: М о u n i n G. Introduction a la semiologie. P.: Ed. de Minuit, 1970, p. 11—15.
7 Греймас А.-Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка.—В кн.: «Семиотика» М.: Радуга, 1983, с. 528.
[7]
породили ряд интересных разработок в том же направле¬нии Отстаивая принцип: семиология должна быть «наукой о значениях» — о любых значениях (а не только о денотативных, намеренно создаваемых в целях комму¬никации),—Барт подчеркивал, что такими значениями человек — в процессе социально-идеологической деятель¬ности — наделяет весь предметный мир и что, следова¬тельно, семиологии надлежит стать наукой об обществе в той мере, в какой оно занимается практикой означива¬ния, иными словами — наукой об идеологиях 8.
Такая позиция, резко расходясь с установками линг-вистического академизма , имела под собой мировоззрен¬ческую почву. Ставя — на протяжении всей жизни — своей целью тотальную критику буржуазной идеологии, буржуазной культуры (а. культура, как известно, не существует вне знакового, языкового воплощения), Барт видел два возможных пути борьбы с господствую¬щими идеологическими языками. Первый — это полу¬чившие распространение уже в 50-е гг. попытки создания «контрязыков» и «контркультур». Однако давно уже выяснилось, что подобные «антиязыки» относятся к отрицаемым ими языкам всего лишь как негатив к позитиву, то есть на деле вовсе не отвергают их, а утверждают от противного. Барт же, ясно осознав иллюзорность создания «антисемиологии», обратился к самой семиологии — но обратился не ради ее «внутрен¬них» проблем, а затем, чтобы использовать ее возмож¬ности для разрушения господствующих идеологических языков, носителей «ложного сознания». При таком под¬ходе «разрушение» заключается не в том, чтобы предать анафеме подобные языки, а в том, чтобы вывернуть их наизнанку, показать, как они «сделаны» Барт буквально выстрадал марксистскую мысль о том, что борьба против ложного сознания возможна лишь на путях его «объясне¬ния», поскольку «объяснить» явление как раз и значит
------
8 Ср «для соссюрианца идеология как совокупность коннотатив¬ных означаемых является составной частью семиологии» (В а г t h е s R Reponse a une enquete sur le structuralisme — In «Catalogo generale dell' Saggiatore (Mondadon)», 1965 p, LIV
9 Ср «идеологические реальности не имеют непосредственного отношения к лингвистике» (Molino J La connotation—In «La linguistique», 1971, No 1, p 30)
[8]
«снять» его, отнять силу идеологического воздействия «Развинтить, чтобы развенчать» — таким мог бы быть лозунг Барта, раскрыть (мобилизовав для этого все аналитические средства современной семиологии) «социо-логические» 10 механизмы современных видов иде¬ологического «письма», показать их историческую детер¬минированность и тем самым дискредитировать — такова его «сверхзадача» в 60-е гг.
Эта впечатляющая попытка превратить семиологию из описательной науки в науку «критическую» объясняет, между прочим, и тот авторитет, который Барт приобрел в среде либеральной и левой интеллигенции, в частности, его прямое влияние на теорию и литературную практику левого интеллектуально-художественного авангарда во главе с группой «Тель Кель» (Филипп Соллерс, Юлия Кристева и др.)
Положения коннотативной семиотики Барт в первую очередь использовал для анализа литературной «формы», которая (это было показано еще в «Нулевой степени») должна быть понята как один из типов социального «письма», пропитанного культурными ценностями и интенциями как бы в дополнение к тому авторскому содержанию, которое она «выражает», и потому обла¬дающего собственной силой смыслового воздействия. Раскрытие — средствами семиологии — социокультурной «ответственности формы» — серьезный вклад Барта в теоретическое литературоведение, особенно в условиях господства во Франции 50—60-х гг позитивистской литературно-критической методологии.
Преодоление позитивистских горизонтов в литерату-роведении—такова вторая важнейшая задача Барта в рассматриваемый период В книге «О Расине» (1963), написанной в 1959—1960 гг., Барт противопоставил редукционистской методологии позитивизма, сводящего «произведение-продукт» к породившей его «причине», идею «произведения-знака», причем такого знака, кото¬рый предполагает не якобы однозначно-объективное, «вневременное» декодирование со стороны дешифровщи-
10 BarthesR A propos de deux ouvrages de Cl Levi-Strauss Sociologie et socio logique — In «Information sur les sciences sociales» 1962, v I, No 4
[9]
ка, но бесконечное множество исторически изменчивых прочтений со стороны интерпретатора. Давая один из возможных вариантов прочтения Расина, Барт в то же время методологически узаконивал существование всех тех направлений в послевоенном французском литерату¬роведении (экзистенциализм, тематическая, социологи¬ческая критика, структурная поэтика и др.), которые, опираясь на данные современных гуманитарных наук, противостояли механической «каузальности» и эмпириз¬му позитивистских литературно-критических штудий (журналисты, с их склонностью к наклеиванию ярлыков, объединили все эти направления под названием «но¬вая критика», ставшим общеупотребительным). Подобно «Основам семиологии», всколыхнувшим лингвистическую среду, сборник «О Расине» породил настоящую бурю в среде литературоведческой, вызвав, в частности, ожесточенные нападки со стороны позитивистской «университетской критики» (Р. Пикар и др.). Барт ответил полемическим эссе «Критика и истина» (1966), которое стало своеобразным манифестом и знаменем всей «новой критики»; ее же вдохновителем и главой отныне был признан Ролан Барт.
Следует обратить внимание на известную двойствен¬ность методологических установок Барта в 60-е гг. С одной стороны, по его собственному признанию, этот период прошел под явным знаком «грезы (эйфорической) о научности»11, которая только и способна, полагал Барт, положить конец «изящной болтовне» по поводу литературы — болтовне, называемой в обиходе «литературной критикой». Вместе с тем «искус наукой», вера в ее эффективность никогда не перерастали у Барта в наивный сциентизм (это видно даже в наиболее «уче¬ной» из его работ — в «Системе моды», где Барт, увле¬ченно «играя» в моделирование, в различные таксоно¬мии и т. п., ни на минуту не забывает, что это все же игра—пусть и серьезная). Причина—в трезвом пони¬мании того, что гуманитарные науки, при всем их воз¬растающем могуществе, в принципе не способны исчер¬пать бездонность культуры: «... я пытаюсь,— говорил Барт в 1967 г.,— уточнить научные подходы, в той или
11 Barthes R. Reponses, p. 97.
[10]
иной мере опробовать каждый из них, но не стремлюсь завершить их сугубо научной клаузулой, поскольку лите-ратурная наука ни в коем случае и никоим образом не может владеть последним словом о литературе» 12. При¬веденное высказывание отнюдь не свидетельствует о переходе Барта на позиции антисциентистского иррацио¬нализма, который был чужд ему не менее, чем плоский сциентистский рационализм. Барт избирает совершенно иной путь, который к началу 70-х гг. откроет третий — пожалуй, самый оригинальный — «постструктуралистский» период в его творчестве.
Барт был внутренне давно готов к вступлению на этот путь: стимулом являлись проблемы самой конно¬тативной семиологии; толчком же послужили работы Ж. Лакана и М. Фуко, знакомство с диалогической концепцией М. М. Бахтина 13, влияние итальянского лите¬ратуроведа и лингвиста Умберто Эко, французско¬го философа Жака Деррида, а также ученицы самого Барта, Ю. Кристевой 14.
Два тезиса, направленных на преодоление сциентистского структурализма, определяют методологическое лицо Барта 70-х гг. Во-первых, если структурализм рассматривает свой объект как готовый продукт, как нечто налично-овеществленное, неподвижное и подлежа¬щее таксономическому описанию и моделированию, то бартовский постструктурализм, напротив, предполагает перенос внимания с «семиологии структуры» на «семиоло¬гию структурирования», с анализа статичного «знака» и его твердого «значения» на анализ динамического процесса «означивания» и проникновение в кипящую магму «смыслов» или даже «предсмыслов», короче, пере¬ход от «фено-текста» к «гено-тексту». Во-вторых, в про¬тивоположность сциентизму, устанавливающему жесткую
12 Barthes R. Interview.—In: В е Hour R. Le livre des autres. P.: L'Herne, 1971, p. 171.
13 В 1965 г. Ю. Кристева сделала на семинаре у Барта доклад о Бахтине. Позже, со второй половины б0-х гг. работы Бахтина стали широко переводиться во Франции.
14 Барт не скрывал подобных влияний, более того, прямо указывал на них (см.: Barthes R. Roland Barthes. P.: Seuil, 1975, р. 148); он умел так переосмыслить заимствованное, что те, у кого он начинал учиться, позже, случалось, сами охотно признавали его своим учителем.
[11]
дистанцию между метаязыком и языком-объектом, убеж-денному, что метаязык должен конструироваться как бы «над» культурой, в некоем внеисторическом простран¬стве объективно-абсолютной истины, Барт настаивал на том, что метаязык гуманитарных наук, сам будучи продук¬том культуры, истории, в принципе не может преодолеть их притяжения, более того, стремится не только отдалиться от языка-объекта, но и слиться с ним (см., в частности, статью «От науки к литературе», 1967). Подчеркнем еще раз: Барт не отрекается от науки, но лишь трезво оценивает ее возможности, равно как и таящуюся в ней угрозу: «Научный метаязык — это форма отчуждения языка; он, следовательно, нуждается в преодолении (что отнюдь не значит: в разрушении)» 15.
Постструктуралистские установки Барта наиболее полное воплощение нашли в образцовой для него книге «С/3» (1970), посвященной анализу бальзаковского рассказа «Сарразин», где Барт делает радикальный шаг от представления о «множестве смыслов», которые мож¬но прочесть в произведении в зависимости от установок воспринимающего («История или литература?», «Крити¬ка и истина»), к идее «множественного смысла», образу¬ющего тот уровень произведения, который Барт назвал уровнем Текста. Методологические принципы, продемон-стрированные в книге «С/3», нашли выражение и в других работах Барта, в частности, в публикуемых в настоящем сборнике статьях «С чего начать?» (1970) и «Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По» (1973).
В русле проблематики «производства смыслов», «текстового письма», «интертекстуальности» находится и яркое эссе Барта «Удовольствие от текста» (1973), где ставится вопрос о восприятии литературы читателем. Последовавшая вскоре после этого книга «Ролан Барт о Ролане Барте» (1975) представляет собой продуманную мозаику из основных идей и мотивов, рассеянных в многочисленных работах автора 50—70-х гг.
Престиж и популярность Барта в последнее десяти¬летие его жизни были чрезвычайно высоки — высоки настолько, что в 1977 г. в старейшем учебном заведении Франции, Коллеж де Франс, специально для Барта была
15 Barthes R. Interview, p. 172.
[12]
открыта кафедра литературной семиологии. «Лекция», прочитанная Бартом при вступлении в должность и выпущенная отдельным изданием в 1978 г., прозвучала не только как своеобразный итог его тридцатилетней научной деятельности, но и как программа, указывающая возможные пути развития современной семиологии; сам Барт, однако, эту программу не успел выполнить. Его жизнь оборвалась внезапно и нелепо: 25 февраля 1980 г., неподалеку от Коллеж де Франс, Барт стал жертвой дорожного происшествия и через месяц, 27 марта, скон-чался в реанимационном отделении больницы Питье-Сальпетриер. Его гибель была воспринята как уход одно¬го из выдающихся французских гуманитариев XX в.
*
Каковы же основные проблемы бартовской «коннота¬тивной семиологии»? Прежде всего, это проблема языка.
Классическая лингвистика (от Соссюра до современ¬ных французских функционалистов) склонна понимать язык как «константную структуру, доступную всем членам общества» 16. Такое представление базируется на следу¬ющих постулатах: 1) означающее и означаемое в языке находятся в отношении строгой взаимной предопреде¬ленности; 2) вследствие этого языковые знаки поддают¬ся одинаковой интерпретации со стороны всех членов данного языкового коллектива, что и обеспечивает их «лингвистическое тождество» за счет того, что 3) сами эти знаки предстают как номенклатура языковых «средств», пригодных для выражения любых мыслей, одинаково послушно и безразлично обслуживающих все группы и слои общества.
В известном смысле все это так и есть: мы действи¬тельно пользуемся одним и тем же национальным языком (например, русским) как нейтральным орудием, позво¬ляющим передать самые различные типы содержания.
Стоит, однако, внимательнее присмотреться к реаль¬ной речевой практике — и картина существенно услож¬нится, ибо каждый из нас отнюдь не первым и далеко не последним пользуется словами, оборотами, синтакси-
16 Мамудян М. Лингвистика. М.: Прогресс, 1985, с. 50.
[13]
ческими конструкциями, даже целыми фразами и «жан¬рами дискурса», хранящимися в «системе языка», кото¬рая напоминает не столько «сокровищницу», предназна¬ченную для нашего индивидуального употребления, сколько пункт проката: задолго до нас все эти единицы и дискурсивные комплексы прошли через множество употреблений, через множество рук, оставивших на них неизгладимые следы, вмятины, трещины, пятна, запахи. Эти следы суть не что иное как отпечатки тех смысло¬вых контекстов, в которых побывало «общенародное слово» прежде, чем попало в наше распоряжение.
Это значит, что наряду с более или менее твердым предметным значением, которым оно обладает, всякое слово пропитано множеством текучих, изменчивых иде¬ологических смыслов, которые оно приобретает в кон¬тексте своих употреблений. Подлинная задача говоря¬щего-пишущего состоит вовсе не в том, чтобы узнать, а затем правильно употребить ту или иную языковую единицу (будучи раз усвоены, эти единицы в дальнейшем употребляются нами совершенно автоматически), а в том, чтобы разглядеть наполняющие смыслы и опреде¬литься по отношению к ним: мы более или менее пассив¬но реализуем общеобязательные нормы, заложенные в языке, но зато активно и напряженно ориентируемся среди социальных смыслов, которыми населены его знаки.
Наличие таких — бесконечно разнообразных — смыс¬лов как раз и обусловливает расслоение единого нацио¬нального языка на множество так называемых «социо¬лектов». Пионерская роль в самой постановке вопроса о социолектах и в деле их изучения принадлежит, как известно, М. М. Бахтину 17, пользовавшемуся выражением
17 См.: Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1930 (основной текст книги принадлежит Бахтину); Бах-тин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. литература, 1975. Бахтин, в частности, показал, что каждое конкретное языковое высказывание причастно не только централизующим тенденциям линг¬вистического универсализма, но и децентрализующим тенденциям об¬щественно-исторического «разноречия», что «социальные языки» суть воплощенные «идеологические кругозоры» определенных социальных коллективов, что, будучи «идеологически наполнен», такой язык образу¬ет упругую смысловую среду, через которую индивид должен с усилием «пробиться к своему смыслу и к своей экспрессии».
О вкладе М. М. Бахтина в философию языка см.: Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики.— В кн.: «Труды по знаковым системам, VI», Изд-во Тартуского государственного университета, 1973, с. 5—44.
[14]
«социально-идеологический язык». Подход раннего Барта (периода «Нулевой степени письма» и «Мифологий») к языковым феноменам в целом сопоставим с идеями Бахтина, хотя о прямом влиянии, разумеется, не может идти речи.
Обозначив социолект термином «тип письма», Барт проанализировал его как способ знакового закрепления социокультурных представлений. По Барту, «письмо» — это опредметившаяся в языке идеологическая сетка, которую та или иная группа, класс, социальный инсти¬тут и т. п. помещает между индивидом и действитель¬ностью, понуждая его думать в определенных категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых. Все продукты социально-языковой практики, все социолекты, выработанные поколениями, классами, партиями, литера¬турными направлениями, органами прессы и т. п. за время существования общества, можно представить себе как огромный склад различных видов «письма», откуда индивид вынужден заимствовать свой «язык», а вместе с ним и всю систему ценностно-смыслового отношения к действительности.
Барта от Бахтина отличают две особенности. Во-пер¬вых, если Бахтина прежде всего интересовали «диалоги¬ческие» взаимоотношения между «социальными языка¬ми» как таковыми, тогда как отдельного индивида он рассматривал лишь в качестве «воплощенного пред¬ставителя» этих языков 18, то у Барта акцент сделан на взаимоотношениях «письма» и индивида, причем под¬черкнута отчуждающая власть социализированного слова: в невинном, на первый взгляд, феномене «письма» Барт сумел разглядеть общественный механизм, инсти¬тут, обладающий такой же принудительной силой, как и любое другое общественное установление. Чтобы пре¬одолеть эту силу, необходимо понять внутреннее устройст¬во подавляющего механизма. Во-вторых, для этого-то
18 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики, с. 104.
[15]
Барт и обратился к аналитическим средствам современ¬ной семиотики, прежде всего к коннотативной семиоло¬гии Л. Ельмслева, содержавшей теоретические основания для практического «развинчивания» механизма «письма».
Ельмслев определил коннотативную семиотику как такую семиотику, план выражения которой сам является семиотикой 19. Например, слова, образующие текст, напи¬санный на русском языке, включают в себя план выра¬жения (означающие) и план содержания (означаемые), соединение которых приводит к появлению знака. Сово¬купность знаков данной системы и образует тот или иной тип семиотики; предметные значения таких знаков называются денотативными или первичными.
Все дело, однако, в том, что знаки денотативной системы в свою очередь способны служить простой мате¬риальной опорой для вторичных означаемых, которые тем самым ведут своего рода паразитарное существование. Так, в сознании иностранца, изучающего русский язык, наряду с процессом запоминания предметных значений русских слов, все время коннотируется дополнительное представление: «это слова русского языка», «это рус¬ское». У читателя трагедий Расина одно лишь слово «пламя» (обозначающее любовную страсть) способно вызвать целый комплекс коннотативных образов: «передо мной язык трагедии», «это язык классицизма» и т. п.
Коннотативные смыслы имеют несколько существен¬ных характеристик: во-первых, они способны прикреп¬ляться не только к знакам естественного языка, но и к различным материальным предметам, выполняющим практическую функцию и становящимся тем самым, по терминологии Барта, знаками-функциями (см.: Барт Р. Основы семиологии.— В кн.: «Структурализм: ,,за" и ,,против"». М.: Прогресс, 1975, с. 131 и др.) 20; во-вторых, эти смыслы патентны, никогда прямо не называются, а
19 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка.—В кн.: «Новое в лингвистике», вып. I. М.: ИЛ, 1960, с. 369.
20 Так, одежда служит для защиты от холода, пищевые продукты нужны для питания и т. п., однако эти предметы способны принимать на себя и социально-смысловую нагрузку: обычный свитер и меховая накидка выполняют одинаковую практическую функцию, но одновре¬менно могут свидетельствовать о совершенно различном социальном и имущественном положении их владельцев.
[16]
лишь подразумеваются и потому могут либо актуализи-роваться, либо не актуализироваться в сознании воспри-нимающих 21; в-третьих, легко «поселяясь» в любом знаке, коннотативные смыслы могут столь же легко «освобож¬дать помещение» 22; в-четвертых, эти смыслы диффузны: один материальный предмет или знак естественного язы¬ка может иметь несколько коннотативных означаемых и наоборот, одному такому означаемому может соответст¬вовать несколько денотативных знаков-носителей, так что слой коннотативных означаемых оказывается рассеян по всему дискурсу; в-пятых, они агрессивны — не довольст¬вуются мирным соседством со знаками денотативной системы, а стремятся подавить их или даже полностью вытеснить 23.
21 Будучи зависимы от социокультурного контекста, коннотатив¬ные смыслы, как правило, не фиксируются ни в каких толковых слова¬рях, а потому их распознавание во многом зависит от кругозора и чутья интерпретатора; например, демонстративный смысл ношения русского платья московскими славянофилами был вполне внятен самим славянофилам и их противникам-западникам; за пределами этого круга та же знаменитая мурмолка Константина Аксакова воспринималась не более как чудачество: «К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина...» (Герцен А. И. Соч. в девяти томах, т. 5, М.: ГИХЛ, 1956, с. 148). В силу указанного свойства идеологического знака историк культуры сталкивается с серь¬езными трудностями: от прошлого ему достается лишь костяк денота¬тивных значений, едва ли не полностью очищенный от плоти социаль¬ных смыслов. Между тем реконструкция этих смыслов, оживление таких обертонов знака, которые зачастую не были прояснены в созна¬нии самих их пользователей, как раз и входит в задачу историка.
22 Коннотативные смыслы активно живут до тех пор, пока активно живет идеологический контекст, их породивший, и пока мы сами сво¬бодно ориентируемся в этом контексте. Умирание контекста чревато умиранием смысла: люди. выросшие в 60—70-е гг. нашего века, зная словарное значение слова «космополитизм», уже не помнят о той угрозе, которая исходила от него в конце 40-х.
23 Так, по Далю, «туземец»—это «здешний, тамошний уроженец, природный житель страны, о коей речь». Однако в «проколониалистской» фразе «На Земле живут один миллиард людей и четыре миллиарда туземцев» денотативное значение утрачивается почти полностью за счет идеологического наполнения слова. П. Валери говорил, что нетрудно вообразить такую литературную фразу, которая будет при¬влекать внимание не к своему предметному содержанию, а к своей «литературности», словно подмигивая: «Взгляните на меня; я — пре¬красная литературная фраза». Именно подобную фразу (об «элегантной амазонке») мучительно сочиняет Гран в «Чуме» А. Камю (см.: Камю А. Избранное. М.: Прогресс, 1969, с. 216, 240).
[17]
Описывая современные «мифы», Барт с «технической» точки зрения определяет их как совокупность коннотатив¬ных означаемых, образующих латентный идеологический уровень дискурса24; в функциональном же отношении назначение мифа оказывается двояким: с одной стороны, он направлен на деформацию реальности, имеет целью создать такой образ действительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носителей мифологическо¬го сознания; с другой — миф чрезвычайно озабочен со¬крытием собственной идеологичности, поскольку всякая идеология хочет, чтобы ее воспринимали не как одну из возможных точек зрения на мир, а как единственно допустимое (ибо единственно верное) его изображе¬ние, то есть как нечто «естественное», «само собой разумеющееся»; миф стремится выглядеть не «продуктом культуры», а «явлением природы»; он не скрывает свои коннотативные значения, он их «натурализует» и потому вовсе не случайно паразитирует на идеологически нейт¬ральных знаках естественного языка: вместе с наживкой, которой служат эти знаки, он заставляет потребителя проглатывать и крючок идеологических смыслов. Миф невозможно «убить» (он возродится, как Феникс), но от его власти можно освободиться, «объяснив» его 25, то есть аналитически разрушив его знаки 26; опыт такого объяснения-разрушения предпринят в работе «Миф се¬годня».
Остановимся здесь на двух методологических проб¬лемах.
24 «... область, общая для всех коннотативных означаемых, есть область идеологии» (Barthes R. Rhetorique de I'image.—In: «Com¬munications», 1964, No 4, p. 49).
25 «Подвергнуть миф объяснению — вот единственный для интел¬лектуала эффективный способ борьбы с ним» (Barthes R. Maitres et Esclaves.— «Lettres Nouvelles», 1953, mars, p. 108) —утверждение, отчетливо перекликающееся с мыслью Энгельса о том, что с религией как формой идеологии «нельзя покончить только с помощью насмешек и нападок. Она должна быть также преодолена научно, то есть объяснена исторически, а с этой задачей не в состоянии справиться даже естествознание» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 578).
26 «Разоблачение невозможно без тончайшего аналитического ин¬струмента, невозможна семиология, которая в конце концов не превра¬тилась бы в семиокластию» (Barthes R. Mythologies. P.: Seuil, 1970, р. 8).
[18]
Первая, поставленная французскими функциона¬листами (Л. Прието, Ж. Мунен), сводится к вопросу: можно ли вообще считать бартовскую «коннотативную семиологию» семиологией?
Для функционалистов, как известно, главная функция языка — коммуникативная. Коммуникация определяется сознательным намерением адресанта сообщить нечто адре¬сату и столь же сознательной готовностью последнего воспринять это сообщение, осуществляющееся с по¬мощью знаков-«сигналов», которые принято отличать от знаков-«индексов» 27: индекс (например, дым, по которо¬му можно заключить о начавшемся пожаре) лишен коммуникативной интенции, обязательной для сигнала. И сигнал, и индекс в равной мере обладают значением, однако если сигнал требует «декодирования», одно¬значного для всех, владеющих данным языковым кодом, то индекс, напротив, поддается лишь той или иной «интерпретации», связанной с интуицией, культурным кругозором и т. п. воспринимающего, иными словами — не удовлетворяет классическому семиотическому посту¬лату о взаимной предопределенности означающего и означаемого.
Ясно, что бартовские коннотативные знаки в боль¬шинстве своем относятся к знакам-индексам (индейка с каштанами на рождественском столе окутана целым облаком коннотативных означаемых (буржуазный «stand¬ing», «самодовольный конформизм»), которые, тем не менее, вовсе не предназначены для открытых целей коммуникации и потому не выполняют важнейшей (с точки зрения функционализма) языковой функции. Отсюда — общий вывод, который сделал Ж. Мунен: зна¬ковые системы, осуществляющие задачи, отличные от коммуникативных, должны быть исключены из области подлинной семиологии; семиология Барта «некорректна» по самой своей сути 28.
Между тем на деле обращение Барта к латентным оз-начаемым коннотативных систем было не попыткой не-
27 См.: Prieto L. J. Messages et signaux, P.: Presses Universitai-res de France, 1966.
28 См.: Mounin G. Introduction a la semiologie.' P.: lid. de Minuit, 1970, p. 11—15, 189—197.
[19]
правомерно или преждевременно расширить пределы семиологии, но попыткой качественно переориентировать ее — перейти от изучения знаковых систем, непосредст¬венно осознаваемых и сознательно используемых людьми, к знаковым системам, которые людьми не осознаются, хотя ими и используются, более того, во многих случаях ими управляют. Такой переход к семиотическому изу¬чению социального бессознательного является характер¬нейшим признаком современного структурализма.
О существовании бессознательного философы и ученые Нового времени знали давно, по крайней мере начиная со времен Гегеля. Но именно в XX в. структурализм приложил особые усилия к тому, чтобы показать, что бессознательное, будучи областью стихийно протекаю¬щего, «иррационального» опыта, тем не менее пред¬ставляет собой систему регулярных зависимостей, под¬чиняется определенным правилам, иными словами, впол¬не поддается рациональному анализу. При этом было открыто, что бессознательное в целом структурно упо-рядочено в соответствии с теми же законами, которые управляют естественными языками — причина, объясня¬ющая, почему именно естественный язык стал в XX в. привилегированным полем Методологических исследова¬ний и моделью для других гуманитарных наук — таких, как антропология (Леви-Стросс), культурология (Фуко), психология (Лакан). В 60-е гг. структурная лингвистика на какое-то время стала моделью и для бартовской семиологии, однако моделью не в том смысле, что этой семиологии надлежало превратиться в придаток линг-вистики, то есть описать, по рецептам функционалистов и в дополнение к естественному языку, некоторое число неязыковых (семиотически бедных, но зато отвеча¬ющих коммуникативному критерию) кодов, наподобие кода дорожных знаков, а в том, чтобы создать струк¬турные модели любых типов «социальной практики» постольку, поскольку они являются знаковыми системами.
Привилегированную роль языку Барт отводит потому, что, во многом следуя за Э. Бенвенистом 29, видит в нем «интерпретанта» всех прочих знаковых систем, откуда
29 См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1984, с. 69—96.
[20]
следует, что семиология должна стать частью лингвисти¬ки («семиологическое включение», по Бенвенисту): «хотя на первых порах семиология имеет дело с нелингвисти¬ческим материалом, она рано или поздно наталкивается на «подлинный язык» 30.
И в то же время: «это вовсе не тот язык, который служит объектом изучения лингвистов: это вторичный язык, единицами которого являются уже не монемы и фонемы, но более крупные языковые образования, отсы¬лающие к предметам и эпизодам, начинающим означать как бы под языком, но никогда помимо него» 31, а это значит, что семиологии предстоит раствориться в дисцип¬лине, контуры которой в начале 60-х гг. только еще намечались — в «транслингвистике».
В «структуралистский» период общество рисуется Барту как организм, непрестанно секретирующий знаки и с их помощью структурирующий действительность, социальная же практика, соответственно,— как вто¬ричная по отношению к естественному языку система, смоделированная по его образцу и в свою очередь его моделирующая. Барт, в сущности, стремится создать семиотическую ипостась антропологии, культурологии, социологии, литературоведения и т. п.
Здесь-то и коренится вторая проблема — проблема «измены» Барта ортодоксальному структурализму, по¬нять которую можно, если вновь вернуться к Ельмслеву и сопоставить его учение о метаязыке со взглядами Бар¬та на ту же проблему.
Коннотативной семиотике, план выражения которой представлен планом выражения и планом содержания денотативной семиотики, Ельмслев противопоставил метасемиотику, в которой семиотикой является план со¬держания. Иными словами, метасемиотика — это семиоти¬ка, «трактующая» другую семиотику; таков, например, научный метаязык, описывающий какую-нибудь знако¬вую систему, выступающую в этом случае в роли языка-объекта.
В данном отношении позиция Ельмслева, бескомпро¬миссно противопоставляющая язык-объект (как предмет
30 Барт Р. Основы семиологии, с. 115.
31 Там же.
[21]
анализа) метаязыку (как средству анализа) является характерным примером сциентистского мышления, глав¬ная задача которого заключается в том, чтобы весь социум, всю человеческую историю, весь мир превратить в материал для отстраненного научного препарирования, а самому при этом смотреть на человека и человечество «с точки зрения вечности»; воплощением этой внепространственной и вневременной точки зрения как раз и должен стать некий абсолютный метаязык, вместилище «истины в последней инстанции», возносящий ученого над изучаемым объектом: ставящий мифолога вне всякой мифологии, социолога — вне социальных отношений, историка--вне истории. Такой метаязык (на его роль, как известно, претендовал в XIX в. позитивизм, а затем и неопозитивизм) стремится как можно лучше объяснить действительность, полагая при этом, что сам не нуждает¬ся ни в каких объяснениях.
Поддавшись на какое-то время этой — и вправду при-влекательной для аналитика — сциентистской иллюзии, Барт тем не менее сумел преодолеть ее как бы изнутри самого сциентизма.
Прежде всего, уже с начала 60-х гг., он подчеркивал, что любой язык способен оставаться метаязыком описа¬ния лишь до тех пор, пока сам не станет языком-объек¬том для другого метаязыка; именно эта судьба постигла позитивизм, ставший в нашем столетии не только объ¬ектом полемики, но и, главное, предметом историко-культурного объяснения и исследования. Сменяя друг друга в истории, метаязыки способны надстраиваться друг над другом до бесконечности, ибо они суть точно такие же порождения культуры, как и любые другие социальные феномены; ни один ученый не должен воображать, будто говорит от имени субстанциальной истины, ибо «любая наука, включая, разумеется, и семиологию, в зародыше несет собственную гибель в форме языка, который сде¬лает ее своим объектом» 32.
Вместе с тем, начиная с «Мифологий» можно просле¬дить и другую логику борьбы со сциентистской иллю¬зией — логику смещения, смешения метаязыка и языка-
32 Б а р т Р. Основы семиологии, с. 160; см. также «Структурализм как деятельность», с. 261 наст. изд.
[22]
объекта, когда, например, определив миф как вторичный (по отношению к естественному языку) язык, Барт тут же называет его «метаязыком» и утверждает, что это такой «вторичный язык, на котором говорят о первом» (см. с. 79 наст. изд.). Он тем самым нарочито отождест¬вляет коннотативную семиотику, являющуюся дискурсом в дискурсе, с метасемиотикой, являющейся дискурсом о дискурсе. В этом парадоксальном, с точки зрения глос-сематики, «коннотативном метаязыке» на самом деле нет ничего противоестественного, если только допустить, что любой язык-объект сам может играть роль метаязыка и наоборот, если, следовательно, отказаться от структу¬ралистского мышления в категориях жестких «оппози-ций» 33 и принять тезис о возможности ролевой взаимо-обратимости противоположных «сущностей». Даже «бессубъектный» язык математики, претендующий на сугубую денотативность и историческую «а-топичность», на самом деле предполагает совершенно определенную — коннотативно зашифрованную — субъективную позицию:
ту самую веру в бесстрастную объективность и безгра-ничные возможности науки, которая и является «пресуп-позицией» сциентистской идеологии. Равным образом и язык «мифолога», «развинчивающего» мифы, порожден неким смысловым топосом — неприязнью и неприятием мифологического сознания как такового, что отнюдь не ставит исследователя «над» историческим процессом, а напротив, активно включает в него 34.
Не бывает «чисто» денотативных языков, как не бы¬вает языков «только» коннотативных; любой язык пред¬ставляет собой комбинацию высказанного и подразуме¬ваемого, денотативного и коннотативного уровней, при¬чем подразумеваемое может при определенных условиях эксплицироваться, а эксплицитное уйти в коннотативный «подтекст». Такова динамическая реальность семиотиче-
33 «Миф» и вправду существует лишь с помощью денотативного языка, но в то же время этот вторичный феномен лишь использует первичный язык ради собственных целей, то есть «трактует» его, по¬добно любому другому метаязыку.
34 «... акт „демистификации" не есть олимпийский акт... я притязаю на то, чтобы в полной мере пережить противоречия своего времени, способного превратить сарказм в условие бытия истины» (наст. изда¬ние, «Мифологии», с. 47).
[23]
ских систем, хотя классический (статический, таксоно-мический) структурализм (всегда имеющий дело с уже ставшей, а не становящейся действительностью) не рас¬полагает ключами к этой реальности.
Барт понял, что если семиология и вправду хочет стать «критической» наукой, она в первую очередь обя¬зана превратиться в «критическую», саморефлектирую¬щую дисциплину, должна осознать свои собственные, не сформулированные, но молча подразумеваемые пред¬посылки, чтобы преодолеть их, найти для себя не только новый объект исследования (коннотативные семиотики), но и выделить в этом объекте особый предмет, требую¬щий особых аналитических методов (таким предметом станет для Барта «текст»), она должна выйти за пределы таких категорий классической семиотики, как «комму¬никация», «сообщение» и т. п., и перенести внимание с готового «знака» на процесс его «порождения», иными словами, превратиться из привычной «семиологии» в «семанализ» (если воспользоваться термином Ю. Кристевой), в «текстовой анализ» (по терминологии Барта).
Теперь, в свете всего сказанного, можно перейти к рассмотрению литературоведческой концепции Барта, проследить движение его литературно-теоретических взглядов от «доструктурализма» к «постструктурализму».
Барта, в сущности, всегда интересовал единственный, но кардинальный вопрос: «Что такое литература?», и хотя, давая ответ, Барт по-разному расставлял акценты в разные периоды своей деятельности, преемственность проблематики проследить нетрудно.
В 50-е — первой половине 60-х гг. Барта по преиму¬ществу занимает проблема противостояния автора и данного ему языка. Действительно, если отказаться от иллюзии, будто язык сводится лишь к своей орудийной функции, то возникнут серьезные вопросы, с которыми на практике сталкивается всякий пишущий, ответственно относящийся к собственному слову, изведавший, что та¬кое «страх письма», который рождается из осознания безнадежности попытки «выразить невыразимое» — во¬плотить в слове всю полноту и неповторимость своих переживаний, мыслей и т. п.: всякий пишущий по себе знает, насколько верен тютчевский афоризм («Мысль
[24]
изреченная есть ложь»), столь многих искушавший «все бросить и никогда больше не писать».
В самом деле, неизмеримо легче выразить неподдель¬ное сочувствие другу, потерявшему близкого человека, при помощи живого жеста, взгляда, интонации, нежели сделать то же самое, написав ему «соболезнующее пись¬мо»: попытавшись словесно воплотить самую искреннюю, самую спонтанную эмоцию, мы с ужасом убедимся, что из-под пера у нас выходят совершенно условные, «лите¬ратурные» фразы; попробовав же отказаться от литера¬турной велеречивости, перебрав для этого все возмож¬ные варианты словесного выражения, мы, вероятно, в конце концов придем к выводу, что адекватнее всего наше чувство можно передать при помощи одного-единственного слова, которое ему и соответствует: «Соболез¬ную»; беда лишь в том, что подобная лапидарность все равно не спасет нас от «литературы», ибо несомненно будет воспринята как одна из условных «масок» — маска «холодной вежливости», достойная разве что стиля официальной телеграммы, а «телеграфный стиль», как известно,— это ведь тоже своего рода «литература».
В любом случае получается, что, пользуясь языком, мы обречены как бы «разыгрывать» собственные эмоции на языковой сцене: в известном смысле можно сказать, что не мы пользуемся языком, а язык пользуется нами, подчиняя какому-то таинственному, но властному сце¬нарию. «Тайна», впрочем, давно раскрыта и заключается она в том, что никакая непосредственность посредством языка невозможна в принципе потому, что по самой своей природе язык всегда играет опосредующую роль: он вообще не способен «выражать» чего бы то ни было («выразить» боль или радость можно только инстинк¬тивным криком или, на худой конец, междометием), он способен только называть, именовать. Специфика же языковой номинации в том, что любой индивидуальный предмет (вещь, мысль, эмоция) подводится под общие категории, а последние вообще не умеют улавливать и удерживать «интимное», «неповторимое» и т. п. Будучи названа, любая реальность превращается в знак этой реальности, в условную этикетку, под которую подходят все явления данного рода: номинация не «выражает», а как бы «изображает» свой предмет.
[25]
Язык, таким образом, выполняет двойственную функ¬цию: с одной стороны, среди всех семиотических систем он является наиболее развитым средством общения, контакта с «другим»; только язык дает индивиду полно¬ценную возможность объективировать свою субъектив¬ность и сообщить о ней партнерам по коммуникации; с другой стороны, язык предшествует индивиду, преднаходится им; до и независимо от индивида он уже опре¬деленным образом организует, классифицирует действи¬тельность и предлагает нам готовые формы, в которые с неизбежностью отливается всякая субъективность. Парадоксальным образом, не вынеся одиночества и ре¬шившись доверить «другим» свои, быть может, самые сокровенные «мысли и чувства», мы тем самым отдаем себя во власть системы языковых «общих мест», «топосов» — начиная микротопосами фонетического или лек¬сического порядка и кончая так называемыми «типами дискурса». Мы становимся добровольными пленниками этих топосов, которые в прямом смысле слова делают у-топичной (а-топичной) всякую надежду личности прорваться к «своей» эмоции, к «своему» предмету, к «своей» экспрессии 35 («...экспрессивность — это миф; экспрессивность на деле — это всего лишь условный об¬раз экспрессивности») 36.
Дело еще более усложнится, если мы рассмотрим язык не только в его денотативном, но и в его коннотативном измерении, которому и принадлежит литература. Всякий человек имеет дело с уже «оговоренным» словом 37, но
35 «Любой желающий писать точно... с неизбежностью пишет для других (ведь если бы он обращался только к самому себе, ему хватило бы и той своеобразной номенклатуры, которую составляют его собственные переживания, поскольку всякое переживание является непосредственным именем самого себя)».—Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, р. 13. Лучший тому пример — всякого рода «интимные дневники», которые, вопреки иллюзии их авторов, пишутся вовсе не «для себя», а в неосознанной надежде, что «некто» их прочтет, поразившись глубине и оригинальности личности пишущего.
36 Барт Р. Нулевая степень письма, с. 341.
37 «Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом о предмете. Конкретному историческому человеческому слову этого не дано...» (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики, с. 92).
[26]
писатель вынужден прибегать к такому слову, «оговоренность» которого как бы узаконена и кодифицирована тем социальным институтом, который представляет собой «литература»: над системой языковых топосов литерату¬ра надстраивает систему своей собственной топики — стилевой, сюжетной, композиционной, жанровой и т. п.; она сама есть не что иное как исторически подвижная совокупность «общих мест», из которых, словно из кир¬пичиков, писатель вынужден складывать здание своего произведения. Разумеется, эти «общие места» способны к филиациям и трансформациям, способны вступать в са¬мые различные контакты друг с другом, образовывать зачастую непредсказуемые конфигурации, и все же лю¬бая из подобных конфигураций, даже самая оригиналь¬ная, впервые найденная данным автором, не только пред¬ставляет собой индивидуализированный набор готовых элементов, но и, что самое главное, немедленно превра¬щается в своеобразный литературный узус, стремящийся подчинить себе даже своего создателя (не говоря уже о его «последователях» и «подражателях») 38.
Именно потому, что «топосы» и «узусы» заданы пи¬сателю и к тому же отягощены множеством «чужих» социально-исторических смыслов, Барт — на первый взгляд, парадоксальным образом — называет литературу «языком других» — языком, от которого писатель не в силах ни скрыться, ни уклониться, ибо он добровольно избрал его средством «самовыражения». Являясь «язы¬ком других», литература одновременно оказывается и точкой пересечения различных видов социального «пись¬ма», и одним из его типов. Подобно тому как в обыден¬ной коммуникации индивид лишь «изображает» на язы¬ковой сцене свою субъективность, так и писатель обречен на то, чтобы «разыгрывать» на литературной сцене свое мировидение в декорациях, костюмах, сюжетах и амплуа, предложенных ему социальным установлением, называ-емым «литературным письмом».
38 «Да, сегодня я вполне могу избрать для себя то или иное пись¬мо...— притязнуть на новизну или, наоборот, заявить о своей привер¬женности к традиции; но все дело в том, что я неспособен оставаться свободным и дальше, ибо мало-помалу превращаюсь в пленника чужих или даже своих собственных слов» (Барт Р. Нулевая степень письма, с. 313).
[27]
Это «письмо», обращенное к писателю своей отчужда¬ющей стороной, Барт назвал «языком-противником»: «Язык-противник — это язык, перегруженный, загромо¬жденный знаками, износившийся во множестве расхожих историй, ,,насквозь предсказуемый"; это мертвый язык, омертвевшее письмо, раз и навсегда разложенное по полочкам, это тот избыток языка, который изгоняет повествователя из собственного «я»...; короче, этот враж¬дебный язык есть сама Литература, не только как соци¬альный институт, но и как некое внутреннее принужде¬ние, как тот заранее заданный ритм, которому в конечном счете подчиняются все случающиеся с нами ,,истории", ибо пережить нечто...— значит тут же подыскать для соб¬ственного чувства готовое название» 39.
Проблема для Барта состоит в отыскании такой по¬зиции, которая, отнюдь не понуждая писателя порвать с языковой деятельностью, с литературой, то есть не обрекая его на «молчание», тем не менее позволила бы ускользнуть из-под ига «массифицирующего» слова.
В начале 50-х гг., грезя о «совершенном адамовом мире, где язык будет свободен от отчуждения», Барт видел лишь утопический выход из положения, вопло¬щенный в мечте об «однородном» обществе, в котором полное разрушение социальных перегородок приведет к уничтожению самого понятия «письмо», к радикальной «универсализации языка», когда слова вновь обретут первозданную «свежесть» и «станут наконец счастли¬вы» 40
Через десять лет Барт смотрит на положение дел по-другому; отныне задачу он видит не в конструировании несбыточной «языковой утопии», а в реальном «овладе¬нии» языком «здесь и теперь»: язык не может быть ни изменен в своей сущности, ни разрушен, как не может быть ни изменена, ни разрушена литература (опыт сюр¬реалистов показал, что, изгнанная в дверь, литература всегда является в окно); единственный способ освобож¬дения — это «обмануть», «обойти с тыла» язык-против-
39 Барт Р. Драма, поэма, роман.— В кн.: «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской ли¬тературы XX века». М.: Прогресс, 1986, с. 142.
40 Б а р т Р. Нулевая степень письма, с. 349.
[28]
ник, а именно — добровольно подчиниться его нормам и правилам, чтобы тем вернее поставить их себе на службу.
Как это сделать? Необходимо проявить сознательную, намеренную «литературность» (термин, заимствованный Бартом у русской формальной школы), то есть до конца вжиться во все без исключения роли, предлагаемые ли¬тературой, в полной мере освоить всю ее технику, все ее возможности (стилевые, жанровые, композиционные и т. п.), чтобы совершенно свободно «играть литерату¬рой», иными словами, как угодно варьировать, комбини¬ровать любые литературные «топосы» и «узусы».
Мера оригинальности (одно из ключевых понятий Барта начала 60-х гг.) писателя есть мера свободы тако¬го варьирования, «...оригинальность лежит в самом ос¬новании литературы; лишь подчинившись ее законам, я обретаю возможность сообщить именно то, что намерева¬юсь сообщить; если в литературе, как и в обыденной коммуникации, я стремлюсь к наименьшей «фальши¬вости», то мне надлежит стать наиболее оригинальным или, если угодно, наименее «непосредственным» 41.
Таким образом, «литературность», с одной стороны, противопоставляется Бартом «литературе» как способ преодоления литературы изнутри, ее же собственными средствами, а с другой — романтическому мифу о «спон-танности»42 творческого акта, в результате которого произведение якобы создается помимо всякой «техники», силой одного только творческого «гения»; между тем, по Барту, на практике можно быть либо «непосредствен¬ным», но при этом навсегда забыть о «литературе», либо быть «литератором», и в этом случае распроститься со всякой мечтой о «непосредственности»: выражение «техника непосредственности» есть противоречие в тер¬минах, ибо может существовать лишь техника варьи¬рования литературных средств, кодов, топосов, задава¬емых писателю литературой. «Варьирование» — единст¬венное средство, позволяющее автору бороться с его
41 Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 12.
42 «,,Спонтанность", о которой нам обычно толкуют, является на самом деле верхом условности: это тот самый окаменевший, совершенно готовый язык, который обнаруживается у нас прямо под рукой в тот самый момент, когда мы вознамериваемся говорить ,,спонтанно"» (Барт Р. Драма, поэма, роман, с. 143).
[29]
подлинным врагом — банальностью, ибо «банальность» есть не что иное как стремление литературной инсти¬туции подчинить писателя своим штампам. Это средство, напоминает Барт, было известно еще в античности; имя ему — риторика, которая в греко-римском мире была важнейшей дисциплиной, как раз и научавшей, каким образом «не позволить литературе превратиться ни в знак банальности (если она окажется чересчур прямо¬линейной), ни в знак оригинальности (если она окажется чересчур опосредованной)»43.
Интерес к технике литературных высказываний — один из тех пунктов, где Барт ближе всего сомкнулся со структурализмом. Методологическим шагом в этом направлении явилась его работа «Критика и истина», в которой проводится принципиальная граница между подходом к произведению как к функционирующему механизму и как к смысловому образованию, имеющему символическую природу. Первый подход Барт назвал «наукой о литературе», второй — «критикой».
Под «наукой о литературе» (дисциплиной, которую у нас обычно именуют «общей поэтикой») Барт разумеет своего рода «универсальную грамматику» литературной формы, то есть общие правила построения литературного дискурса как на микро-, так и на макро-уровнях, начиная с правил образования тропов и фигур и кончая компо¬зицией и сюжетосложением. В данном отношении задачи общей поэтики аналогичны задачам «Риторики» и «Поэ¬тики» Аристотеля с той разницей, что античная поэтика по самой своей сути была нормативна и прагматична, то есть являлась сводом предписаний, позволявших отде¬лить «правильные» произведения от «неправильных» и подлежавших сознательному усвоению со стороны автора
43 Barthes R. Essais critiques, p. 13—14. Призывая к возрожде-нию греко-римской риторики, традиции которой активно жили в Европе вплоть до конца XVIII в. и были забыты лишь в эпоху романтизма и постромантизма, Барт выражает общую тенденцию, характерную для литературоведения XX столетия и проявившуюся, в частности, в возник¬новении мощной школы французской «неориторики» 60—70-х гг. (см., например: Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. М.: Прогресс, 1986). Сам Барт, использовавший в ряде работ риторические принципы анализа, является также и автором специальной «памятки» (см.: Barthes R. L'ancienne Rhetorique (Aide-memoire).—In: «Communica¬tions», 1970, No 16).
[30]
во избежание «ошибок» в сочинительской работе; напро¬тив, общая поэтика не ставит перед собой нормативных целей; она стремится описать все существующие (или даже могущие возникнуть) произведения с точки зрения текстопорождающих механизмов, управляющих «языком литературы» как таковым; эти механизмы, как правило, не осознаются самими писателями, подобно тому как механизмы, регулирующие языковую деятельность, не осознаются носителями естественного языка. Тем не ме¬нее вне этих механизмов невозможна передача никакого содержания: если любая конкретная фраза естественного языка, каков бы ни был ее смысл, с необходимостью подчиняется законам этого языка, то и любое произве¬дение, независимо от своего индивидуального содержа-ния, подчиняется всеобщей «грамматике» литературных форм: такие формы служат «опорой» для бесконечного множества исторически изменчивых смыслов, которыми способна наполняться та или иная трансисторическая конструкция 44; подобные конструкции, по Барту, и долж¬ны стать объектом «науки о литературе», ибо они суть необходимые «условия существования» любых смыслов.
Литературоведческие интересы самого Барта с начала 60-х гг. все больше и больше перемещаются в область самих смыслов, что видно не только из «Критики и истины», но и из более ранних работ, таких, как «Две критики», «Что такое критика?», «История или литерату¬ра?».
Прежде всего следует подчеркнуть антипозитивист¬скую направленность всех этих работ. Суть позитивист¬ской методологии (во всех ее разновидностях — от «биографической» до социологической и психоаналитиче¬ской) состоит в подмене проблемы понимания смысла произведения проблемой его каузально-генетического
44 Примером может служить сюжетная конструкция «инициационного» типа (сюжет строится на том, что герой проходит через испыта¬ние или ряд испытаний). Эта конструкция лежит в основе ряда ми¬фических повествований, но она же организует повествовательную структуру волшебной сказки, от мифа отпочковавшейся; более того, она перешла в средневековый рыцарский роман, затем в роман плуто¬вской и т. д. вплоть до романа нового и новейшего времени: это и значит, что на протяжении тысячелетий одна и та же «полая» структу¬ра все время наполнялась новыми историческими содержаниями.
[31]
объяснения. «Объяснить» же произведение, с точки зрения позитивизма, значит найти такие «обстоятель¬ства» (психический склад личности, социально-бытовая среда, общественные условия и т. п.), которые, будучи внеположны произведению, тем не менее его «детерми¬нируют» и в нем «отражаются». Сам по себе поиск подобных обстоятельств (или «причин», как их называли представители культурно-исторической школы) вполне правомерен, но он не может быть ни единственной, ни конечной целью литературоведческого исследования. Несомненно, например, что в образе Амели в «Рене» Шатобриана отразились черты его родной сестры, что за фигурой главного героя повести стоит социально-психологический «характер» самого Шатобриана, а за повестью в целом — Великая французская буржуазная революция; без знания подобных «обстоятельств» по¬нимание «Рене» будет по меньшей мере затруднено, а в случае с произведениями, принадлежащими отдаленным или малознакомым нам культурам, пожалуй, и попросту невозможно. Однако одно дело вывести те или иные смысловые аспекты текста из подобных «причин» и сов¬сем другое — свести его смысловую полноту к этим причинам; между тем именно в подобной редукции со¬стоит позитивистский принцип «объяснения»: Э. Ренан еще в прошлом веке утверждал, что задача литератур¬ной критики не в том, чтобы вдыхать аромат цветка (с которым Ренан сравнивал произведение), а в том, чтобы изучить состав почвы, на которой он вырос. Для методологии позитивизма смысл оказывается тождест¬венным собственной причине: он, собственно, и есть эта причина, только транспонированная в литературную плоскость и там переодетая в одежды художественной образности и вымышленных ситуаций, принаряженная «изобразительно-выразительными» украшениями и т. п. Получалось (и об этом прямо писал упоминаемый Бар¬том Г. Лансон), что стоит только выяснить и суммиро¬вать все разнообразные «обстоятельства», «источники» и «влияния», приведшие к возникновению данного произведения, как будет достигнута однозначная, окон-чательная и неоспоримая «истина» о нем.
Именно с таким представлением об «истине» в лите-ратуроведении и полемизирует Барт. «Истина» произве-
[32]
дения, по Барту, не во внешних обстоятельствах, а в нем самом, в его смысле, прежде всего — в его «истори¬ческом» смысле.
«Исторический» смысл произведения есть результат его интенциональности: интенция как бы напрягает текст изнутри, создает его устойчивую смысловую структуру, закрепляемую в системе персонажей, парадигматике и синтагматике сюжета и т. п. «Понять» исторический смысл произведения значит вжиться в эту структуру, увидеть мир глазами произведения, заговорить на его языке, подчинить себя заложенному в нем чувству жизни. Задачей исторической науки, полагает Барт, является реконструкция исторических смыслов литературы, своего рода воскрешение забытых языков, на которых написаны произведения ушедших эпох.
Между тем наряду с устойчивым историческим смыс¬лом произведение несет в себе множество подвижных, изменчивых «трансисторических» смыслов, которые подлежат уже не реконструкции, а, говоря словами Барта, «производству» со стороны читателей.
Причина в том, что любой читатель находится в ситуации своеобразного «диалога» по отношению к про¬изведению: он обладает определенным культурным кру¬гозором, системой культурных координат, в которые произведение включается как в свой контекст и в зависи¬мости от контекста позволяет выявлять такие аспекты смысла, которые интенционально никак не фокализованы. Позиция читателя по отношению к произве¬дению всегда двойственна: он должен уметь видеть дей¬ствительность глазами произведения (только в этом случае цель художественной коммуникации может счи¬таться достигнутой) и в то же время — он видит само произведение как объект, находящийся в окружении других аналогичных объектов, он видит его культурное окружение, исторический фон, видит то, чего зачастую не способно заметить само произведение, знает о нем то, чего оно само о себе не знает, что стоит за спиной его интенции. Ясно, что, поскольку культурные круго¬зоры читателей индивидуально варьируются, постольку окказиональные смыслы одного и того же произведения «производятся» по-разному даже ближайшими его сов-ременниками.
[33]
Принципиальный характер такого варьирования ста¬нет очевидным, если мы перенесем проблему из инди¬видуального и синхронического плана в план диахрони¬ческий. Уже в силу самого факта движения истории каждому новому поколению, новой эпохе, культурному образованию произведение является в совершенно спе¬цифическом ракурсе, которого никогда не было раньше и не будет позже, причем сам этот ракурс есть продукт заинтересованного отношения к произведению, стремле¬ния включить его в духовную работу современности. Вот почему, будучи порождено своим временем, произ¬ведение отнюдь не замыкается в нем, но активно вовле¬кается в свою орбиту, присваивается всеми последую¬щими временами. Произведение исторично, но в то же время «анахронично», ибо, порвав историческую пупо¬вину, немедленно начинает бесконечное «путешествие сквозь историю»; оно «символично», ибо никакая история не способна исчерпать его бесконечной смысловой пол-ноты.
Подчеркнем, что в работах начала 60-х гг. Барт тол¬кует эту полноту еще ограничительно. Произведение представляется ему чем-то вроде знака с одним дено¬тативным и целым созвездием коннотативных означае¬мых. Барт как бы дифференцирует литературоведче¬ские подходы: происхождение знака-произведения отно¬сится к компетенции генетических методов, понимание его денотативного значения подлежит ведению истории, анализ строения является прерогативой «науки о лите-ратуре», полисемия же произведения требует особой герменевтической дисциплины, которую Барт и назвал критикой, или интерпретирующим литературоведением.
В работе «История или литература?» Барт поясняет, что задачей «критики» является эксплицирование скры¬тых означаемых произведения, которыми как раз и явля¬ются смыслы, не входящие в интенциональную структуру этого произведения. Так, ни одна из трагедий Расина не является сообщением, имеющим целью поведать нам нечто об идеологической дифференциации или о «соци¬альном бессознательном» в XVII в., и тем не менее указанные значения можно без труда «прочитать» в расиновских трагедиях именно благодаря тому, что наша современность располагает языком социологии и языком
[34]
психоанализа, подобно тому как будущие эпохи, вклю¬чив эти трагедии в новые исторические контексты и вы¬работав новые, неведомые нам аналитические языки, су¬меют прочитать в творчестве Расина неведомые нам смыслы.
Идея «символичности» произведения чрезвычайно важна в методологическом отношении, однако Барт очень скоро заметил, что «интерпретирующая критика» едва ли способна адекватно уловить эту символичность. Уже в «Критике и истине» Барт писал, что интерпре¬тирующие направления вовсе и не стремятся сохранить «многосмысленность» произведения, но, напротив, пре¬тендуют на его «окончательное» истолкование, на мо¬нопольное владение его «истинным» смыслом; на деле каждое из этих направлений выбирает лишь одно из множества возможных «означаемых» произведения и объявляет его «главным» в ущерб всем остальным, тем самым бесповоротно останавливая «бесконечную под¬вижность той метафоры, которой является произведение», ибо «стремление свести символ к тому или иному од¬нозначному смыслу — это такая же крайность, как и упорное нежелание видеть в нем что-либо, кроме его буквального значения» (с. 369 наст. изд.).
Найти и обосновать такие исследовательские методы, которые позволили бы уловить и удержать смысловую полноту произведения и в то же время не порвать с аналитическим подходом к литературе,— такова цель, за¬нимающая Барта в последнее, «постструктуралистское» двенадцатилетие его деятельности.
В этот период Барт выделяет новый объект литера-туроведческого изучения — текст, а также новый «язык», на котором следует говорить об этом объекте,— «чте¬ние-письмо». Итак, речь идет о переходе Барта от «про¬изведения» к «тексту» и от герменевтической «интерпре¬тации» к интертекстовому «чтению-письму».
Понятием «текст» Барт в первую очередь обязан Жаку Деррида и Юлии Кристевой, на концепциях которых здесь уместно кратко остановиться.
Что касается Деррида, то свою задачу он видел прежде всего в том, чтобы оспорить непререкаемость одного из основополагающих принципов европейского культурного сознания — принципа «центрации». Действи-
[35]
тельно, нетрудно заметить, что, имея дело с любыми оппозициями (белое/черное, мужчина/женщина, душа/ тело, содержание/форма, означаемое/означающее, денотация/коннотация и т. п.), мы невольно стремимся поста-вить в привилегированное положение один из членов этих оппозиций, сделать на нем ценностный акцент. Принцип центрации пронизывает буквально все сферы умствен¬ной деятельности европейского человека: в философии и психологии он приводит к рациоцентризму, утверж¬дающему примат дискурсивно-логического сознания над всеми прочими его формами, в культурологии — к европоцентризму, превращающему европейскую социальную практику и тип мышления в критерий для «суда» над всеми прочими формами культуры, в истории — к презенто- или футуроцентризму, исходящему из того, что историческое настоящее (или будущее) всегда «лучше», «прогрессивнее» прошлого, роль которого сводится к «подготовке» более просвещенных эпох и т. п. Вариан¬том философии «центрации» является субстанциалистский редукционизм, постулирующий наличие некоей не¬подвижной исходной сущности, нуждающейся лишь в во¬площении в том или ином материале: в философии это представление о субъекте как своеобразном центре смы¬словой иррадиации, «опредмечивающемся» в объекте; в лингвистике — идея первичности означаемого, закреп¬ляемого при помощи означающего, или первичности денотации по отношению к коннотации; в литературо¬ведении — это концепция «содержания», предшествую¬щего своей «выразительной форме», или концепция непо¬вторимой авторской «личности», «души», материальным инобытием которой является произведение; это, наконец, упоминавшаяся уже позитивистская каузально-генети-ческая «мифологема».
Уязвимость подобной позиции хорошо видна на при¬мере соссюровского знака. По Деррида, субстанциалистские предпосылки научного мышления Соссюра ясно просматриваются в его представлении о дуализме знака, побуждающем трактовать означаемое как первичную суб-станцию, независимую от своего языкового воплощения и предшествующую ему. Между тем учение Соссюра о знаке допускает и иное прочтение в той мере, в какой автор «Курса» сам подчеркивал, что означающее и озна-
[36]
чаемое производятся одновременно, немыслимы друг без друга и соотносятся как лицевая и оборотная стороны бумажного листа. А это значит, что стоит только сме¬нить перспективу, отказавшись от самого принципа цен¬трации, как мы поймем, что означающее и означаемое могут легко поменяться Местами, что означаемое отсылает к своему означающему в той же мере, в какой озна¬чающее указывает на означаемое, что, следовательно, они находятся не в статическом отношении противостоя¬ния и предшествования, а в динамическом отношении взаимообратимости45. Примером такой взаимообрати¬мости могут служить средневековые символические цепочки (типа: «солнце—золото—огонь—верх— мужское начало» и т. п.), где каждый символ одновре¬менно является и означающим и означаемым (поскольку сам отсылает ко всем прочим элементам, а они в свою очередь отсылают к нему).
Для Деррида, таким образом, задача состоит не в том, чтобы перевернуть отношения, оставаясь в рамках «центрирующего» мышления (сделав привилегирован¬ным, скажем, означающее вместо означаемого или «форму» вместо «содержания»), а в том, чтобы уничто¬жить саму идею первичности, стереть черту, разделяю¬щую оппозитивные члены непроходимой стеной: идея оппозитивного различия (difference) должна уступить место идее различения (differance), инаковости, сосуще¬ствованию множества не тождественных друг другу, но вполне равноправных смысловых инстанций. Оставляя друг на друге «следы», друг друга порождая и друг в друге отражаясь, эти инстанции уничтожают само поня¬тие о «центре», об абсолютном смысле. «Различение» 46
45 Ср. «обобщение треугольника Фреге путем вращения» в кн.: Степанов Ю. С. Семиотика. М.: Наука, 1971, с. 85—91.
46 «Различение — это то, благодаря чему движение означивания оказывается возможным лишь тогда, когда каждый элемент, именуемый «наличным» и являющийся на сцене настоящего, соотносится с чем-то иным, нежели он сам, хранит в себе отголосок, порожденный звуча¬нием прошлого элемента и в то же время разрушается вибрацией собственного отношения к элементу будущего; этот след в равной мере относится и к так называемому будущему и к так называемому прошло¬му; он образует так называемое настоящее в силу самого отношения к тому, чем он сам не является...» (D e r r i d a J. Marges de la philosophie. P.: Ed. de Minuit, 1972, p. 13).
[37]
кладет конец власти одних смыслов над другими, застав¬ляя вспомнить не только о философии Востока, но и о досократиках, о Гераклитовом круговращении, «игре».
Но если вся цивилизация, все мышление европейского Нового времени самим своим существованием обязаны принципу «центрации», то где — в рамках этой цивили¬зации—может (и может ли?) найти прибежище децентрирующая семиотическая практика? На этот вопрос по¬пыталась ответить Ю. Кристева, проведя разграничение между понятиями «гено-текста» и «фено-текста».
Фено-текст, по Кристевой 47, есть готовый, твердый, иерархически организованный, структурированный се-миотический продукт, обладающий вполне устойчивым смыслом. «Фено-тексты» — это реально существующие фразы естественного языка, это различные типы дискур¬са, это любые словесные произведения, воплощающие определенную субъективную интенцию и выполняющие инструментальную функцию: они предназначены для прямого воздействия на партнеров по коммуникации. Структурная семиотика как раз и занимается формали¬зацией, классификацией и т. п. систем, образованных фено-текстами.
Фено-текст, однако,— это всего лишь авансцена се-миотического объекта; за ним скрывается «вторая сце¬на», где происходит интенсивная семиотическая работа по производству фено-текстового смысла. Эту «вторую сцену» Ю. Кристева и назвала гено-текстом. Генотекст — это суверенное царство «различения», где нет центра и периферии, нет субъектности, нет коммуни¬кативного задания; это неструктурированная смысловая множественность, обретающая структурную упорядочен¬ность лишь на уровне фено-текста, это своеобразный «культурный раствор», кристаллизирующийся в фенотексте.
Бартовское понятие произведение в целом соответст¬вует «фено-тексту» у Кристевой, а текст — кристевскому «гено-тексту». Поэтому сам переход от структурализма к постструктурализму мыслится Бартом как переход от ана¬лиза «произведения» к «текстовому анализу». «Текст»,
47 О фено-тексте и гено-тексте см., в частности: Kristeva J. (... греч.). Recherches pour une semanalyse. P.: Seuil, 1969, p. 280—283.
[38]
таким образом, не «отменяет» ни произведения, ни не-обходимости его анализа прежними, в том числе и струк¬турными методами; он просто находится «по ту сторону» произведения.
Как таковой «текстовой анализ» отнюдь не нов, он давно уже является достоянием литературной критики и литературоведения. В самом деле, любой исследователь, не удовлетворяющийся явным значением произведения, пытающийся заглянуть за его авансцену, открывающий в романе или в поэме различные «реминисценции», литературные и внелитературные «заимствования», «влия¬ния», всевозможные, подчас неожиданные «источни¬ки», «скрытые цитаты» и т. п., выходит на уровень «текста», ибо его взору открываются те многочисленные переходы, которые связывают «авансцену» со «второй сценой», в его руках оказываются нити, ведущие не к авторской интенции, а к контексту культуры, в которую вплетен данный текст.
Однако изучение «источников» и «влияний» покры¬вает лишь ту—весьма незначительную—часть текста, где сам автор еще не вполне утратил сознательную связь с культурным контекстом, между тем как на деле вся¬кий текст сплетен из необозримого числа культурных кодов, в существовании которых автор, как правило, не отдает себе ни малейшего отчета, которые впитаны его текстом совершенно бессознательно. Культурный «код», по Барту, «это перспектива множества цитаций, мираж, сотканный из множества структур...; единицы, образуемые этим кодом, суть не что иное как отголоски чего-то, что уже было читано, видено, сделано, пережито: код является следом этого „уже". Отсылая к уже напи¬санному, иными словами, к Книге (к книге культуры, жизни, жизни как культуры), он превращает текст в ка¬талог этой Книги»48 .
Сотканный из множества равноправных кодов, словно из нитей, текст в свою очередь сам оказывается вплетен в бесконечную ткань культуры; он является ее «па¬мятью», причем «помнит» не только культуру прошлого и настоящего, но и культуру будущего: «В явление, которое принято называть интертекстуальностью, сле-
48 Barthes R. S/Z. P.: Seuil, 1970. р. 27—28.
[39]
дует включить тексты, возникающие позже произведе¬ния: источники текста существуют не только до текста, но и после него. Такова точка зрения Леви-Стросса, ко¬торый весьма убедительно показал, что фрейдовская вер¬сия мифа об Эдипе сама является составной частью этого мифа: читая Софокла, мы должны читать его как цитацию из Фрейда, а Фрейда — как цитацию из Со¬фокла» 49. Приведенная мысль не покажется парадок¬сальной не только психоаналитику, но и, скажем, социо-логу, без труда прочитывающему того же Софокла в терминах социально-экономической науки, о которой, разумеется, ни Софокл, ни его современники не имели ни малейшего представления.
Итак, текст, по Барту, это не устойчивый «знак», а условия его порождения, это питательная среда, в которую погружено произведение, это пространство, не поддающееся ни классификации, ни стратификации, не знающее нарративной структуры, пространство без центра и без дна, без конца и без начала — простран¬ство со множеством входов и выходов (ни один из ко¬торых не является «главным»), где встречаются для сво¬бодной «игры» гетерогенные культурные коды. Текст — это интертекст, «галактика означающих», а произведе¬ние — «эффект текста», зримый результат «текстовой работы», происходящей на «второй сцене», шлейф, тя¬нущийся за текстом.
Переплетение и взаимообратимое движение «кодов» в тексте Барт обозначил термином письмо (придав, таким образом, новый, «постструктуралистский» смысл слову, которое, как мы помним, в период 50-х — начала 60-х гг. он употреблял со значением «социолект»), а акт погружения в текст-письмо — термином чтение. Важнейшая для Барта мысль состоит в том, что про¬цедура «чтения», которой требует «текст», должна суще-ственным образом отличаться от критической «интерпре¬тации», которую предполагает «произведение» 50.
49 Barthes R. L'aventure semiologique. P.: Seuil, 1985, p. 300.
50 «Литературно-критический аспект старой системы—это интер¬претация, иными словами, операция, с помощью которой игре расплыв¬чатых или даже противоречивых видимых форм придается определен¬ная структура, приписывается глубинный смысл, дается „истинное" объяснение. Вот почему интерпретация мало-помалу должна уступить место дискурсу нового типа; его целью будет не раскрытие какой-то одной, ,,истинной" структуры, но установление игры множества струк-тур...; говоря точнее, объектом новой теории должны стать сами отно¬шения, связывающие эти сочетающиеся друг с другом структуры и под¬чиняющиеся неизвестным пока правилам» (Barthes R. L'ecriture de 1'evenement.—In: «Communications», 1968, No 12, p. 112).
[40]
Уже в середине 60-х гг. Барт попытался провести границу между «критикой» (критическим «письмом»51) и «чтением». Всякая критика есть определенный язык, выступающий в роли метаязыка по отношению к языку произведения. Любой критик является носителем опре¬деленного жизненного опыта, ценностных представлений, способов категоризации действительности и т. п., в свете которых он и объективирует произведение. По сути своей деятельности критик всегда высказывает некие утверждения о произведении, и это о имеет решающее значение, устанавливая между субъектом и объектом критического дискурса непреодолимую смысловую ди¬станцию. Совсем иное дело — «чтение», ибо в акте чте¬ния субъект должен полностью отрешиться от самого себя — тем полнее будет его удовольствие от произведе¬ния. «Одно только чтение испытывает чувство любви к произведению, поддерживает с ним страстные отношения. Читать — значит желать произведение, желать превра¬титься в него, это значит отказаться от всякой попытки продублировать произведение на любом другом языке помимо языка самого произведения: единственная, на¬веки данная форма комментария, на которую способен читатель как таковой — это подражание...» (с. 373 наст. изд.).
Таким образом, в «Критике и истине», откуда взяты приведенные строки, между аналитическим «письмом» и эмпатическим «чтением» пролегает пропасть; перед вос-принимающим субъектом стоит жесткая альтернатива: он может быть либо «читателем», либо «критиком», тре¬тьего не дано.
Однако не поддаваясь преодолению на уровне «произ-
51 Вот, кстати, еще одно—окказиональное—значение, которое может иметь у Барта термин «письмо». Выделить и перечислить подоб¬ные значения здесь нет никакой возможности: они зависят от контекста, меняющегося зачастую не только от работы к работе, но даже от аб¬заца к абзацу. Впрочем, бартовский контекст всегда сам подсказывает, как нужно понимать тот или иной бартовский термин.
[41]
ведения», эта альтернатива, полагает Барт, вполне разре-шима на уровне «текста». Именно «текст» позволяет ана¬лизу, не утрачивая своей рефлективной природы, ликвиди¬ровать отчуждающую дистанцию между метаязыком и языком-объектом, а «чтению» — избавиться от бездумно¬го гедонизма и приобрести аналитические функции мета¬языка.
Эссе Барта «Удовольствие от текста» представляет собой уникальную попытку создать новый тип литератур¬но-критической практики, свободной как от дурного объективизма, так и от безраздельного «вживания», уничтожающего субъективность того, кто вживается. «Что значит этот текст для меня, для человека, который его читает? Ответ: это текст, который мне самому хоте¬лось бы написать» 52, иными словами, испытать от него удовольствие, переходящее в желание поставить под ним собственную подпись и даже пере-писать в буквальном смысле этого слова. «Удовольствие от текста гарантирует его истину» 53.
Удовольствие от «произведения» и удовольствие (удо-вольствие-наслаждение, поясняет Барт) от «текста» — это разные вещи. Позволяя произведению «увлечь» себя (умело построенным сюжетом, экономно и выразительно обрисованными «характерами» и т. п.), «переживая» за судьбу его персонажей, подчиняясь его выверенной орга¬низации, мы — совершенно бессознательно — усваиваем и всю его топику, а вместе с ней и тот «порядок культу¬ры», манифестацией которого является это произведение:
вместе с наживкой захватывающей интриги и душеразди-рающих страстей мы заглатываем крючок всех культурных стереотипов, вобранных, сфокусированных и излучаемых на читателя романом, стихотворением, пьесой. С извест¬ной точки зрения, произведение есть не что иное как особо эффективный (ибо он обладает повышенной суггестивной силой) механизм для внушения подобных стереотипов, закодированных на языке определенной культуры и нужных этой культуре в целях регулирования поведения своих подопечных. Произведение (в данном
52 Barthes R. Les sorties du texte.—In: «Bataille» P: U.G.E., 1973, p. 59.
53 Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Seuil, 1971, p. 14.
[42]
отношении мало чем отличающееся от тех «мифов», кото¬рые Барт подвергал разрушительному анализу в 50-е гг.) выполняет принудительную функцию.
Что касается удовольствия от «текста», то, по Барту, оно возникает прежде всего в результате преодоления отчуждающей власти «произведения». Основанный на принципе «различения» и «тмесиса», весь состоя из разнообразных «перебивов», «разрывов» и «сдвигов», сталкивая между собой гетерогенные социолекты, коды, жанры, стили и т. п., текст «дезорганизует» произведение, разрушает его внутренние границы и рубрикации, опро¬вергает его «логику», произвольно «перераспределяет» его язык. Текст 54 для Барта и есть та самая у-топия (в этимологическом смысле слова), «островок спасения», «райский сад слов», где законы силы, господства и под¬чинения оказываются недействительными, где со смехом воспринимаются претензии любого культурного топоса на привилегии и где есть только одна власть — власть поли¬лога, который ведут между собой равноправные культур¬ные «голоса». «Текст» для Барта — это вожделенная зона свободы.
*
Творческий путь Барта можно представить себе, гово¬ря его же словами, как «семиологическое приключение», как «путешествие сквозь семиологию». И хотя маршрут этого путешествия оказался довольно извилистым, само¬го путешественника всегда жгло одно и то же «жела¬ние» — желание найти такой «у-топический топос», где, отнюдь не порывая с культурой, восхищаясь и наслаж¬даясь всеми ее богатствами, можно было бы избавиться от власти принудительного начала, коренящегося в самых ее недрах.
54 Любое «произведение» имеет свой «текст»; без текста произве¬дение существовать не может, как тень не может существовать без хозяина. Но отношения между произведением и текстом могут склады¬ваться по-разному: есть произведения, подавляющие свой собственный текст (драматургия классицизма), и есть произведения, где текст заявляет о себе со всей возможной настоятельностью (Вийон, Рабле, Шекспир, Лотреамон, Малларме, мечтавший о Книге, которая сумеет разом вобрать в себя всю культуру, Жарри, Джойс; сравнительно недавний пример—«Имя Розы» У. Эко).
[43]
Власть, которую имеет в виду Барт, это прежде всего власть всевозможных культурных стереотипов, унифи¬цирующая власть «всеобщности», «стадности», «без¬различия» над единичностью, уникальностью и неповто¬римостью. Борьбу против подобной власти Барт вел на протяжении всех тридцати лет своей работы в семиоло¬гии. Демистификация буржуазных «мифов», поиск проти¬воядия против топосов, секретируемых «литературой», вскрытие внутреннего устройства социолектов и выставле¬ние напоказ той скрытой «войны» за гегемонию, которую они ведут между собой, и, наконец, удар по «власти и раболепству» самого естественного языка — таковы ос¬новные этапы этой борьбы.
И все-таки основным полем деятельности для Барта всегда оставалась литература. Именно в литературе он впервые сумел расслышать деспотические голоса «шабло¬низированных дискурсов» и именно внутри самой же лите¬ратуры попытался разглядеть силы, способные противо¬стоять нивелирующей власти этих дискурсов.
Действительно, если еще в середине 60-х гг., как мы видели, Барт во многом воспринимал литературу в качест¬ве одного из социальных установлений, нуждающихся в «развенчивании» (путем «развинчивания»), то уже тогда он попытался открыть некий механизм («литератур¬ность»), нейтрализующий и компенсирующий действие ли¬тературных стереотипов. Правда, весь анализ велся тогда на уровне «произведения». В 70-е же гг., вступив в поло¬су постструктурализма, в эпоху Текста, Барт самому слову «литература» придал новое значение. Отныне «литерату¬ра» для него (в неотчужденном смысле этого термина)— и есть воплощенный «текст»: «Это значит, что я с равным правом могу сказать: литература, письмо или текст» (с. 551 наст. изд.).
Говоря обобщенно, для Барта 70-х гг. существуют как бы два противоборствующих начала — Язык, символизи¬рующий собой любые формы принудительной власти 55, и
55 «Таким образом, в языке, благодаря самой его структуре, зало¬жено фатальное отношение отчуждения. Говорить или тем более рас¬суждать вовсе не значит вступать в коммуникативный акт (как нередко приходится слышать); это значит подчинять себе слушающего: весь сплошь язык есть общеобязательная форма принуждения» («Лекция», с. 549 наст. изд.).
[44]
Литература, олицетворяющая порыв к «без-властию». Драматизм этого противостояния, по Барту, состоит в том, что, подобно тому как «человек социальный» в принципе не способен не подчиняться законам «всеобщно¬сти», пропитывающим все поры общественного организма, точно так же и «человек говорящий» не в силах сбросить с себя путы норм и предписаний языка, который он сам избрал орудием общения. Ни социолекты, ни массовые «мифы», ни литературная институция, ни тем более Язык не поддаются уничтожению.
Зато они поддаются на «обман». Разрушить Язык нельзя, но его можно перехитрить. Вот почему, пишет Барт (и эту фразу следует воспринимать как програм¬мную для него), «нам, людям, не являющимся ни рыца¬рями веры, ни сверхчеловеками, по сути дела не остается ничего кроме как плутовать с языком, дурачить язык. Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блиста-тельный обман, позволяющий расслышать звучание вне-властного языка, во всем великолепии воплощающего перманентную революцию слова,— я со своей стороны называю его: литература». («Лекция», с. 550 наст. изд.).
Тем самым вырисовывается ответ на кардинальный для Барта вопрос: «Что такое литература?» Благодаря трем заключенным в ней «силам свободы» (мимесис, матесис, семиосис), будучи настоятельным «вопросом, обращен¬ным к миру», литература, по Барту, служит незамени¬мым средством дефетишизации действительности. В этом и заключается ее социальная «ответственность». Лите¬ратура для Барта — не пассивный продукт общественно¬го развития, но активное начало, по сути своей направ¬ленное на то, чтобы не дать миру застыть в неподвиж¬ности, одна из пружин, которые гарантируют развитие самой истории.
Г. К. Косиков
Из книги "Мифологии"
Предисловие
Нижеследующие тексты писались регулярно, месяц за месяцем, примерно в течение двух лет, с 1954 по 1956 год, и были по существу откликами на события текущего дня. Я попытался подвергнуть систематическому осмыслению некоторые мифы, порожденные повседневной жизнью современной Франции. Предлог для размышлений мог быть самым различным (газетная статья, фотография в еженедельнике, новый кинофильм, театральный спек¬такль, художественная выставка), а сюжет—самым непредвиденным, ибо дело, разумеется, шло о том, что было важно для меня самого.
Стимулом к размышлениям чаще всего служило чувство раздражения, вызываемое тем флером «естест¬венности», которым наша пресса, искусство, обыденное сознание непрестанно окутывают реальность; но ведь эта реальность не перестает быть глубоко историчной только оттого, что это наша собственная реальность; одним словом, я испытывал настоящие муки, видя, как люди, повествующие о современности, ежесекундно путают Природу с Историей; глядя на праздничные витрины само-собой-разумеющегося, мне хотелось вскрыть таящий¬ся в них идеологический обман.
Лучше всего, как мне показалось с самого начала, передает суть всех этих лжеочевидностей понятие мифа; в то время я вкладывал в слово «миф» вполне тради¬ционный смысл, хотя уже тогда у меня сложилось твер¬дое убеждение, из которого я попытался извлечь все логические выводы: миф — это своего рода язык. Вот почему, обращаясь к явлениям, по видимости весьма далеким от литературы (кетч, всякого рода кухонная стряпня, выставки скульптуры), я отнюдь не собирался вы-ходить за рамки той общей семиологии буржуазного мира,
[46]
к литературной стороне которой обращался в пред-шествующих эссе. Тем не менее, лишь изучив достаточное число фактов нашей повседневности, я решился дать систематическое определение современного мифа: речь идет о тексте, помещенном, само собой разумеется, в конце данной книги, ибо он лишь систематизирует пред¬шествующий материал.
Предлагаемые тексты, писавшиеся из месяца в месяц, не претендуют на органическую логику развития: их связывает идея настоятельности, повторяемости. Не знаю, верно ли, что повторение, как утверждает послови¬ца,— мать учения, однако полагаю, что в любом случае она является матерью значения. Именно значения стре¬мился я обнаружить в своем материале. Принадлежат ли эти значения лично мне? Иными словами, существует ли мифология самого мифолога? Несомненно, и читатель без труда увидит, какова моя собственная позиция. Думаю все же, что вопрос следует поставить несколько иначе. Прибегнув к выражению, становящемуся уже расхожим, можно утверждать, что акт «демистификации» не есть олимпийский акт. Этим я хочу сказать, что отнюдь не разделяю традиционного мнения, согласно ко¬торому существует естественная пропасть между объек¬тивностью ученого и субъективностью писателя — так, словно привилегия первого — это «свобода», а второго — «призвание», якобы способные разрушить или сублими¬ровать реальные границы их исторической ситуации; что до меня, то я притязаю на то, чтобы в полной мере пере¬жить противоречия своего времени, способного превра¬тить сарказм в условие бытия истины.
[47]
I. Мифологии
Литература и Мину Друэ
Долгое время дело Мину Друэ воспринималось как некая детективная тайна: она или не она? Тайну эту пытались разгадать при помощи обычных приемов по¬лицейского расследования (исключая разве что пытки!): дознание, наложение секвестра, графологический, пси¬хотехнический и текстологический анализ документов. Если общество обращается чуть ли не к судебным ор¬ганам для разрешения «поэтической» загадки, нетрудно догадаться, что оно это делает не из одной только люб¬ви к поэзии, а потому, что образ поэта-ребенка пред¬ставляется ему экстраординарным и в то же время необходимым: это образ, который следует проанали¬зировать с наивозможной научной точностью, поскольку именно он лежит в основе стержневого мифа всего бур¬жуазного искусства — мифа о безответственности (ге¬ний, ребенок и поэт — всего лишь сублимированные персонажи этого мифа).
В ожидании объективных доказательств все, кто принял участие в судебных дебатах (а таких было не¬мало), имели возможность опереться лишь на некое нормативное представление о том, что такое ребенок и что такое поэзия,— представление, которое они чер¬пали из собственного внутреннего опыта. Все рассуж¬дения о феномене Мину Друэ по природе своей тавтологичны и не обладают никакой доказательной силой: я не могу доказать, что предложенные мне стихи и вправду написаны ребенком, если мне заранее не из¬вестно, что такое детство и что такое поэзия: дознание превращается в порочный круг. Это — еще один пример иллюзорности той полицейской науки, которая столь рьяно проявила себя в деле старика Доминичи : целиком и полностью опираясь на тиранию правдоподобия, она
[48]
вырабатывает нечто вроде замкнутой в самой себе ис¬тины, старательно отмежевывающейся как от реального обвиняемого, так и от реальной проблемы; любое рас¬следование подобного рода заключается в том, чтобы все свести к постулатам, которые мы сами же и вы¬двинули: для того, чтобы быть признанным виновным, старику Доминичи нужно было подойти под тот «пси¬хологический» образ, который заранее имелся у гене¬рального прокурора, совместиться, словно по волшеб¬ству, с тем представлением о преступнике, которое было у заседателей, превратиться в козла отпущения, ибо правдоподобие есть не что иное как готовность обви¬няемого походить на собственных судей. Точно так же допытываться (с тем пылом, с каким это делала пресса) о подлинности поэзии Мину Друэ значит исходить из некоего готового представления о том, что такое детство и что такое поэзия, с фатальной неизбежностью воз-вращаясь к этому представлению, независимо от того, с чем столкнулись по дороге; это значит постулировать идею нормальности (как ребенка, так и поэзии), в со¬ответствии с которой и надлежит судить о Мину Друэ; это значит, наконец, как ни суди, требовать от нее и роли чуда, и роли жертвы, и роли феномена, и роли продукта, иными словами — магического предмета в современном мифе о поэзии и о детстве.
Впрочем, различие реакций и суждений о Мину Друэ проистекает как раз из свободного комбиниро¬вания этих двух мифов. Здесь представлены три ми¬фологические эпохи: кучка запоздалых классиков, по традиции настроенных враждебно к поэзии-беспорядку, осуждают Мину Друэ безоговорочно: если это вправду ее собственные стихи, утверждают они, то, значит, это стихи детские, а следовательно, не внушающие доверия, ибо они не «продуманны»; если же эти стихи написаны взрослым, то они также клеймят их, поскольку те пред¬ставляют собой фальшивку. Ближе к нашей современ¬ности стоит группа почтенных неофитов, кичащихся тем, что до них дошел наконец смысл иррациональной поэзии, упивающихся мыслью, что они-таки открыли (в 1955 году!) поэтическую силу детства, и громогласно заявляющих о «чуде», хотя дело идет о самом что ни на есть банальном, всем давным-давно известном ли-
[49]
тературном явлении. Нашлись, наконец, и такие (быв¬шие ревнители поэзии-детства, поборники этого мифа во времена, когда он еще считался авангардистским), кто, утомившись под грузом воспоминаний о героических битвах, о знании, которое ныне уже ничем не может устрашиться, взирают на поэзию Мину Друэ скепти¬ческим оком (Кокто: «Все девятилетние дети гениальны, за исключением Мину Друэ»). Похоже, однако, что представителей четвертого поколения, поколения сов¬ременных поэтов, попросту не спросили об их мнении:
рассудили, что, коль скоро эти поэты мало известны широкой публике, их соображения не могут иметь ни¬какой доказательной силы — и как раз постольку, по¬скольку они не представительствуют от лица какого бы то ни было мифа; впрочем, я не думаю, чтобы они нашли в поэзии Мину Друэ нечто созвучное себе.
Однако считать ли поэзию Мину Друэ произведе¬нием ребенка или взрослого (то есть, превозносить ее или порицать) — в любом случае значит признавать наличие глубочайшей, созданной самой природой, раз¬ницы между детскостью и взрослостью, это значит провозглашать ребенка асоциальным существом, по крайней мере — существом, способным к спонтанной самокритике, способным самому себе запрещать упот¬ребление расхожих слов с единственной целью — по¬казать себя идеальным ребенком: верить в поэтическую гениальность детства значит верить в своего рода ли¬тературный партеногенез и в очередной раз объявить литературу даром Богов. Любой отпечаток «культуры» считается в этом случае признаком фальши, словно при¬рода скрупулезно следит даже за самим словоупотреб¬лением, словно ребенок не живет в постоянном осмосе со средой взрослых; метафоричность, образность, не-ожиданность оказываются отнесены за счет детства в качестве знаков чистой спонтанности, между тем как на самом деле они суть продукты напряженной (соз¬нательной или бессознательной) работы, предполагают «глубокомыслие», где решающую роль играет именно степень индивидуальной зрелости.
Итак, каковы бы ни оказались результаты рассле¬дования, сама загадка лишена сколько-нибудь значи¬тельного интереса, ибо не проливает света ни на дет-
[50]
ство, ни на поэзию. И уж совсем безразличной эта за¬гадка становится потому, что поэзия Мину — считать ли ее детской или взрослой — представляет собой су¬губо историческое явление: ее можно датировать, и самое меньшее, что здесь следует сказать, так это то, что ей немногим более восьми лет — возраст самой Мину Друэ. В самом деле, примерно в 1914 г. сущест¬вовало несколько так называемых малых поэтов, ко-торых авторы наших учебников по литературе, затруд-няющиеся в классификации небытия, объединяют под стыдливыми рубриками: «изолированные стихотворцы», «запоздавшие стихотворцы», «фантазисты», «интимисты» и т. п . Бесспорно, именно к их числу следует от¬нести юную Мину Друэ (или ее музу), поставив ее в ряд столь обаятельных поэтов, как г-жа Бюрна-Провен, Роже Аллар, или Тристан Клингсор. Поэзия Мину Друэ обладает сходной силой; это благонравная, под-слащенная поэзия, целиком основанная на убеждении, что поэтичность — это метафоричность и что поэтиче¬ское содержание есть не что иное как выражение эле¬гических настроений обывателя. Тот факт, что эта пош¬ловатая прециозность способна сойти за поэзию, что в связи с ней решаются поминать имя Рембо (этого поэта-ребенка на все времена), говорит о том, что перед нами чистейшей воды миф. Миф, к тому же, совершенно понятный, ибо очевидна функция, выполняемая подоб¬ными поэтами: они поставляют публике знаки поэзии, а не саму поэзию; они экономны и внушают доверие. Суть этой поверхностной и весьма осмотрительной эмансипации интимного «мироощущения» прекрасно выразила одна дама — г-жа де Ноай, написавшая в свое время (любопытное совпадение!) предисловие к стихам другого «гениального» ребенка, Сабины Сико, скончавшейся в четырнадцатилетнем возрасте.
Итак, подлинна ли эта поэзия или нет, но она может быть датирована, и датирована совершенно точно. Вместе с тем, получив поддержку прессы, развернув¬шей целую кампанию, равно как и р'яда авторитетных лиц, она позволяет понять, что именно в нашем об¬ществе считается детством и что — поэзией. Превоз¬носят или поносят опусы семейства Друэ, но они пред-ставляют собой неоценимый материал для мифолога.
[51]
Прежде всего — перед нами до сих пор не изжитый миф о гениальности. Классики утверждали, что гени¬альность - - это продукт терпения. Ныне же считается, что быть гениальным значит уметь опережать время, уметь в восемь лет делать то, что обычные люди делают в двадцать пять. Оказывается, что это всего лишь во¬прос экономии времени: речь идет только о том, чтобы двигаться немного быстрее, чем все прочие. Детство тем самым оказывается привилегированным возрастом гениальности. Во времена Паскаля детство считалось потерянным временем; задачу видели в том, чтобы по¬скорее с ним расстаться. Начиная с романтической эпохи (то есть с эпохи триумфа буржуазности), дело, напротив, идет уже о том, чтобы задержаться в нем как'можно дольше. Отныне всякий взрослый поступок, совершенный в детстве (даже затянувшемся) свиде-тельствует о его вневременном характере, восприни¬мается как нечто чудесное именно потому, что совершен авансом. Завышенная оценка этого возраста свидетель¬ствует о том, что его рассматривают как особый, замк¬нутый в себе возраст, обладающий специфическим ста¬тусом — статутом некоей невыразимой, неизъяснимой сущности.
И тем не менее, определяя детство как чудо, нам в тот же самый момент заявляют, что это чудо есть не что иное как раннее овладение взрослыми способнос¬тями. Специфика детства оказывается довольно-таки двусмысленной, и это та самая двусмысленность, кото¬рая присуща всем предметам классического универ¬сума: подобно сартровским горошинам, детство и зре¬лость оказываются двумя различными, замкнутыми в себе, не сообщающимися и несмотря на это тождест¬венными друг другу возрастами; феномен Мину Друэ в том, что, будучи ребенком, она создает взрослую поэзию, принимает поэтическую сущность в лоно своей детской сущности. И поражает нас не взаимное раз¬рушение этих сущностей (что было бы весьма плодо¬творно), но всего-навсего факт их поспешного смешения. Это как раз тот самый феномен, который прекрасно выражает сугубо буржуазное понятие вундеркинд (Моцарт, Рембо, Роберто Бенци),—объект, вызыва¬ющий поклонение в той самой мере, в какой он вы-
[52]
полняет образцовую функцию всякой капиталистической деятельности — выигрывать время, сводить деятель¬ность человеческого существования к проблеме коли¬чественной совокупности временных моментов, каждый из которых имеет свою стоимость.
Разумеется, эта детская «сущность» способна обре¬тать различные формы в зависимости от возраста са¬мих ее потребителей: для «модернистов» детство имеет ценность в силу своей иррациональности (в «Экспрессе», я думаю, знакомы с психопедагогикой), откуда и воз¬никает курьезное сопоставление с сюрреализмом! Од¬нако, по мнению г-на Анрио — противника любого на¬мека на беспорядок, детство должно рождать одну только пленительность и изысканность: ребенок не может быть ни обыкновенным, ни заурядным, что опять-таки предполагает существование некоей идеальной детской природы, дарованной небесами помимо какого бы то ни было социального детерминизма; думать так — значит оставить за порогом детства большую часть детей, считая таковыми лишь благородных отпрысков обывателей. Возраст, когда человек формируется в точ¬ном смысле этого слова, то есть активно впитывает общественное, связанное с социальными условностями начало, парадоксальным образом оказывается для г-на Анрио возрастом «естественности»; возраст, в котором ребенок способен совершенно спокойно убить другого ребенка (ср. случай, попавший на страницы газет одно¬временно с делом Мину Друэ), в глазах г-на Анрио является возрастом, когда нельзя иметь ни трез¬вый, ни насмешливый ум, а можно быть только «не-посредственным», «прелестным» и «очаровательным» ребенком.
Все наши комментаторы сходятся между собой в мысли о самодостаточности Поэзии: для всех них Поэ¬зия — это непрерывная цепь находок (так они в прос¬тоте душевной именуют метафору). Чем более в сти¬хотворении «образов», тем более удачным оно считается. А между тем лишь слабые поэты создают «живописные» образы или, по крайней мере, не создают ничего кроме них: весьма наивно они воспринимают поэтический язык как некую сумму солидных вербальных капиталов; убежденные в том, что' поэзия есть средство выражения
[53]
ирреального, они полагают, что всякий предмет во что бы то ни стало требует перевода, то есть перехода от его определения в словаре «Ларусс» к его метафори¬ческому обозначению; получается, что для поэтизации предмета достаточно назвать его не своим именем. В результате эта сугубо метафорическая поэзия целиком и полностью оказывается продуктом своеобразного поэтического словаря , несколько страничек из которого в свое время дал Мольер; оттуда-то и черпает поэт свое стихотворение, будто его задача — перевести «прозу» в «стихи». Поэзия Друэ и ей подобных как раз и представляет собой такую прилежнейшим образом созданную, нескончаемую метафору, в которой ее рев¬нители (и ревнительницы) узнают ясный и властный лик самой Поэзии — их Поэзии (ведь ничто не вызы-вает такого доверия как словарь).
Этот преизбыток находок в свою очередь начинает множить восторги: вживание в стихотворение пере¬стает быть целостным актом, осуществляемым медленно, трудно, со множеством перерывов; оно превращается в море восторгов, аплодисментов, оваций, расточаемых по поводу удачно выполненного акробатического трюка, причем и здесь опять-таки оценка зависит от количества подобных трюков. В данном отношении тексты Мину Друэ оказываются антиподом подлинной Поэзии в той мере, в какой они остаются чужды своеобычному орудию писателя — точности называния; между тем лишь такая точность способна избавить метафору от нена¬туральности, позволить засиять ей ослепительной вспышкой истины, вознесшейся над нескончаемыми языковыми трясинами. Даже оставаясь в пределах современной Поэзии (ибо, полагаю, нет никакой сущ¬ности Поэзии помимо ее Истории) — поэзии Аполли-нера, разумеется, а не поэзии г-жи Бюрна-Провен,— можно с уверенностью утверждать, что ее красота, ее истина рождаются из глубочайшего диалектического сопряжения между жизнью языка и его смертью, между оплотненностью отдельного слова и однообразной раз¬меренностью синтаксиса. Что же касается поэзии Мину Друэ, то она болтлива без умолку, подобно людям, не выносящим тишины; она с явной опаской относится к точности слова и черпает жизненные силы в нагро-
[54]
мождении всякого рода театральных эффектов: она смешивает жизнь с нервозностью.
Но этим-то как раз она и внушает доверие. Во¬преки тому, что ее объявляют ни на что не похожей, вопреки притворному удивлению и бездне дифирамбов, которыми ее приветствуют, сама болтливость этой поэ¬зии, лавина находок и дозированное расходование всего этого грошового изобилия приводит к появлению ми¬шурных и экономичных стихов: оказывается, что и здесь господствует закон имитации, одно из самых драгоцен¬ных приобретений буржуазного мира, позволяющего выкачивать деньги, не ухудшая товарного вида про¬дукции. «Экспресс» не случайно взял Мину Друэ под свое покровительство: ее поэзия — это прямо-таки идеал в мире, где самым тщательным образом закоди¬рован принцип кажимости: Мину ведь тоже работает на других: оказывается, чтобы искупаться в роскоши Поэзии, достаточно оплатить труд маленькой девочки.
У подобной поэзии есть, разумеется, и спутник жиз¬ни — Роман, на свой лад пользующийся столь же яс¬ным, практичным, декоративным и расхожим языком, идущим по вполне умеренной цене,— «крепкий» роман, несущий на себе все парадные знаки романичности, роман добротный и в то же время недорогой; таково, например, сочинение, получившее Гонкуровскую пре-мию 1955 г. и преподнесенное нам как торжество здо¬ровой традиции (Стендаль, Бальзак, Золя приходят здесь на смену Моцарту и Рембо) над декадентствующим авангардом. Как и в разделе домоводства жен¬ских журналов, главное здесь заключается в том, чтобы иметь дело с такой литературной продукцией, чья форма, назначение и цена известны заранее, так чтобы при покупке они не преподнесли никаких неприятных сюр¬призов: ведь нет никакой опасности в том, чтобы объ¬явить поэзию Мину Друэ ни на что не похожей, коль скоро ее с самого начала уже признали поэзией. Между тем Литература начинается лишь перед лицом таких явлений, для которых еще нет названия, которые ино¬родны языку, отправляющемуся на их поиски. Но именно эту плодотворную неизвестность, созидательную смерть наше общество как раз и порицает в лучшей части своей литературы и изгоняет ее, словно беса,— в худ-
[55]
шей. Громогласное требование, чтобы Роман был ро¬маном, Поэзия — поэзией, а Театр — театром,— эта бесплодная тавтология имеет ту же природу, что и законы нашего гражданского кодекса, определяющие право на собственность: все здесь подчинено требованию великой буржуазной задачи, заключающейся в том, чтобы категорию «быть» свести к категории «иметь», а из любого объекта сделать вещь.
В конечном счете остается лишь проблема самой девочки. Пусть, однако, общество не предается лице¬мерным стенаниям: ведь именно оно использует Мину Друэ себе на потребу, оно, и оно одно превратило ре¬бенка в жертву. Будучи искупительной жертвой, при¬носимой для того, чтобы мир сохранил свою ясность, чтобы поэзия, гениальность и детство (одним словом, все беспорядочное) сделались вполне ручными, чтобы даже подлинный бунт, когда он разразится, занял мес¬то, заранее отведенное ему газетами,— будучи такой жертвой, Мину Друэ является мученицей взрослого мира, обуянного жаждой поэтической роскоши, это узница, ребенок, похищенный конформистской дейст¬вительностью, для которой свобода сводится к неви¬дальщине. Она подобна той малютке, которую нищенка толкает перед собой, тогда как дома у нее лежит тю¬фяк, набитый монетами. Пророним же слезинку над Мину Друэ, всплакнем над поэзией — вот мы и изба¬вились от Литературы.
Мозг Эйнштейна
Мозг Эйнштейна стал объектом мифологизации, что привело к парадоксальному результату: величайший ум предстал в образе чрезвычайно сложного механизма; человек, чей интеллект показался слишком мощным, был освобожден от психики и причислен к миру робо¬тов. Известно, что в научно-фантастических романах сверхчеловек некоторым образом уподобляется вещи; то же произошло и с Эйнштейном; говоря о нем, обычно имеют в виду его мозг, этакий энциклопедический орган, настоящий музейный экспонат; По-видимому, в силу своей специализации в области математики сверхчеловек Эйнштейн лишен какого бы то ни было
[56]
магического начала, в нем нет никакой неуловимой силы, никакой тайны, одна только механика; Эйнштейн — это совершеннейший орган, способный творить чудеса, но сам он вполне реален, даже наделен физиологиче¬скими функциями. С мифологической точки зрения Эйн¬штейн представляет собой лишь материю, мощь его интеллекта сама по себе не способна прийти к какой-либо духовности, поэтому он нуждается в моральной поддержке извне, в апелляции к «сознанию» ученого (Знание без сознания, как. кто-то сказал однажды).
Эйнштейн сам немного способствовал созданию ле¬генды о себе, завещав науке свой мозг, за который теперь борются две клиники, словно речь идет о каком-то необычном механизме, который наконец можно ра¬зобрать на части. На одном рисунке Эйнштейн изобра¬жен лежащим, от его головы отходят электрические провода: его просят «подумать об относительности» и одновременно регистрируют импульсы, исходящие из его мозга. (Однако, каков точный смысл слов «поду¬мать о...»?); нас без сомнения хотят уверить в том, что прибор выдаст нам настоящую сейсмограмму, ведь «относительность» — очень трудный предмет для раз¬мышления. Таким образом, сама мысль предстает в виде материи, заряженной энергией, в виде измеримой продукции некоего сложного (чуть не электрического) устройства, которое преобразует мозговую субстанцию в энергию. В гениальности мифического Эйнштейна нет почти ничего магического, и о его мышлении говорят так, как говорят о всяком производительном труде, будь то машинное производство сосисок, помол зерна или измельчение руды; Эйнштейн производил идеи посто¬янно наподобие мукомолки, из которой непрерывно сып¬лется мука, и его смерть означала прежде всего пре¬кращение определенного рода работы: «самый мощный мозг в мире перестал думать».
Предполагается, что этот гениальный механизм должен был производить прежде всего уравнения. К большому удовольствию всего человечества миф об Эйнштейне помог создать образ знания, целиком за¬ключенного в формулы. Парадоксальным образом, чем более его гений материализовался в виде продуктов деятельности его мозга, тем более плоды его изобре-
[57]
тательности приобретали магический характер, вопло¬щая в себе старый эзотерический образ науки, цели¬ком заключенный в нескольких знаках. Тайна миро¬здания всего одна и заключена в одном единственном слове; вселенная — это сейф, шифр к которому пыта¬ется найти человечество, и Эйнштейн почти нашел его— в этом вся суть мифа об Эйнштейне; в нем мы обна-руживаем все положения гностицизма: единство при¬роды, возможность в идеале свести весь мир к не¬скольким основным сущностям, познавательная сила слова, извечная борьба между единственной тайной мироздания и единственным словом, идея о том, что истина во всей своей полноте может обнаружиться только разом подобно замку, который вдруг откры¬вается после долгих и безуспешных попыток отомкнуть его. Историческое уравнение Е = mc2 в силу своей не¬ожиданной простоты почти полностью воплощает в себе прозрачную идею существования некоей отмычки, глад¬кого стержня, отлитого из одного металла; он с чу¬десной легкостью отопрет дверь, которую упорно пы-тались открыть на протяжении многих веков. Иконо¬графия Эйнштейна прекрасно иллюстрирует это: на фотоснимках он обычно стоит у доски, испещренной математическими знаками, сложность которых сразу бросается в глаза; однако на рисунках мы видим уже легендарного Эйнштейна: вот он стоит с мелком в руке у чистой доски, на которой только что написал, вроде бы без всякой подготовки, магическую формулу миро¬здания. Таким образом, в мифологии различается при¬рода двух видов научной деятельности: собственно науч¬ный поиск приводит в движение некий колесный ме¬ханизм, этот поиск осуществляется с помощью вполне материального органа, который поражает только своей кибернетической сложностью; напротив, открытие есть по существу магический акт, его простота подобна простоте элементарного тела, первозданного вещества, философского .камня алхимиков, дегтярной настойки Беркли , кислорода Шеллинга.
Но, поскольку мир продолжает существовать, а научные исследования ширятся с каждым днем, и так как надо отвести какое-то место и Богу, необходимо, чтобы и Эйнштейна постигла некоторая неудача; по-
[58]
этому говорят, что Эйнштейн умер, так и не успев про¬верить «уравнение, в котором заключалась тайна ми¬роздания». В конце концов мир устоял; едва успели проникнуть в его тайну, как она снова оказалась за¬пертой; шифр оказался неполным. Таким образом, Эйн¬штейн полностью удовлетворяет требованиям мифа, который отметает всякие противоречия, лишь бы достичь блаженного чувства безопасности: будучи одновременно магом и механизмом, пребывая в вечных поисках и не находя удовлетворения в открытиях, давая волю луч¬шему и худшему, являя собой мозг и сознание, Эйн¬штейн удовлетворяет самым противоположным меч¬таниям, мифическим образом примиряет бесконечную власть человека над природой и «фатальную неизбеж¬ность» сакрального, которое он пока не в состоянии устранить.
Бедняк и пролетарий
Последняя шутка Чарли — передача половины со¬ветской премии в фонд аббата Пьера . В сущности это означает признание того, что природа пролетария и бедняка одинакова. Чарли представлял пролетария всегда в облике бедняка, отсюда необычайная чело¬вечность его образов и в то же время их политическая двусмысленность. Это хорошо можно проследить на примере его великолепного фильма «Новые времена». Чарли то и дело затрагивает в нем тему пролетариата, но никогда в политическом аспекте; он представляет нам еще непрозревшего, мистифицированного пролета¬рия, который целиком определяется своими естествен¬ными потребностями; завися от своих господ (хозяев и полицейских), он находится в состоянии полного от¬чуждения. Для Чарли пролетарий — это пока всего лишь человек, постоянно испытывающий муки голода; изо-бражение голода у Чарли всегда эпично, отсюда неи¬моверная толщина бутерброда, потоки молока, фрукты, которые небрежно отбрасывают, едва надкусив; слов¬но в насмешку машина для кормления (принадлежа¬щая хозяину) поставляет пищу скудными порциями и явно безвкусную. Думая только о еде, Чарли-бедняк всегда оказывается ниже порога политической созна¬тельности; забастовку он воспринимает как настоящую
[59]
катастрофу, поскольку она угрожает самому сущест-вованию человека, буквально ослепленного голодом; такой человек становится настоящим рабочим только тогда, когда бедняк и пролетарий под неусыпным взо¬ром (и под кулаками) полиции совпадают в одном человеке. С исторической точки зрения Чарли создает более или менее верный образ рабочего эпохи Рестав¬рации; он представляет нам неквалифицированного ра¬бочего, восстающего против машин, приходящего в от¬чаяние от забастовок, загипнотизированного проблемой добывания хлеба (в прямом смысле слова), но еще не¬способного осознать политические причины своего по-ложения и необходимость коллективных действий.
Но именно потому, что Чарли изображает как бы сырого, не сформировавшегося, пролетария, находя¬щегося еще вне Революции, сила воздействия его об¬раза огромна. До сих пор ни в одном произведении социалистического искусства униженное положение трудящегося человека не выражалось с такой силой и с таким великодушием. Только Брехт, по-видимому, предусматривал необходимость для социалистического искусства показывать рабочего всегда накануне Рево¬люции, то есть еще одинокого, но прозревшего, именно в тот момент, когда он, доведенный до отчаяния «есте¬ственной» чрезмерностью своих несчастий, стоит на пороге революционного озарения. Произведения дру¬гого рода, в которых рабочий показывается уже созна¬тельным борцом, преданным своему Делу и своей Пар-тии, отражают неизбежно возникающую политическую реальность, которая лишена, однако, эстетической силы.
Чарли же, в соответствии с идеей Брехта, так де¬монстрирует свою слепоту публике, что она одновре¬менно может видеть и его слепоту и его драму; видеть, как другой ничего не видит — это лучший способ ясно разглядеть то, чего он не видит; так, в кукольном театре сами дети обращают внимание Гиньоля на то, чего он как бы не видит. Вот Чарли сидит в тюремной камере и, заботливо опекаемый надзирателями, наслаждается идеальным образом жизни американского обывателя:
скрестив ноги, он усаживается под портретом Линколь¬на и почитывает газету, однако, очаровательное само¬довольство его позы полностью дискредитирует этот
[60]
идеал; невозможно наслаждаться такой жизнью, не замечая нового отчуждения, которое она несет. Таким образом, самые невинные хитрости оказываются бес¬полезными, и бедняка постоянно избавляют от его вожделений. В общем Чарли-бедняк всегда оказывает¬ся победителем именно потому, что он от всего увили¬вает, отказывается от всякой кооперации и полагается только на свои собственные силы. Его анархизм, спор¬ный с политической точки зрения, в искусстве пред¬ставляет собой, вероятно, наиболее эффективную форму революции.
Фото-шоки
Женевьева Серро в своей книге о Брехте упоминает опубликованную в свое время в журнале «Пари-Матч» фотографию, на которой заснята казнь гватемальских коммунистов; она справедливо замечает, что сама по себе эта фотография вовсе не страшна, и чувство страха возникает у нас потому, что мы рассматриваем ее с позиции свободного человека; как это ни парадоксально, выставка в галерее Орсэ Фото-шоков, из которых очень немногие действительно могут повергнуть нас в состояние шока, подтвердила правоту слов Женевьевы Серро: если фотограф сообщает нам об ужасном, этого еще не доста¬точно, чтобы мы испытали ужас.
Большинство представленных на выставке фотогра¬фий имеют целью ошеломить нас, однако они не дости¬гают желаемого эффекта по той причине, что сам фото¬граф слишком уж великодушно предлагает свои услуги, отстраняя нас от участия в выборе сюжета; ужас, кото¬рый он хочет внушить нам, почти всегда оказывается надстроенным: с помощью сравнений или противопостав¬лений он добавляет к фактам интенциональный язык ужаса; так, один фотограф заснял группу солдат на фоне поля, усеянного черепами; другой показывает нам молодого солдата, рассматривающего скелет; наконец, третий сфотографировал колонну не то заключенных, не то пленных в тот момент, когда им навстречу дви¬жется стадо баранов. Тем не менее ни одна из этих слишком уж ловко сделанных фотографий не трогает нас. Все дело в том, что когда мы рассматриваем их, то в каждом случае лишаемся возможности вынести свое
[61]
собственное суждение: кто-то другой, а не мы, содрогнул¬ся от ужаса, кто-то другой задумался вместо нас и вынес свое суждение; фотограф ничего не оставил на нашу долю — кроме элементарного права на интеллектуальное примирение; к этим изображениям мы испыты¬ваем лишь технический интерес; отягощенные указаниями :амого фотографа, они не имеют в наших глазах ни¬какой истории, мы уже не в состоянии выработать наше собственное отношение к этой синтетической пище, пол¬ностью переваренной самим ее изготовителем.
Другие авторы снимков решили если не шокировать, то по крайней мере удивить нас, но основная ошибка осталась той же; проявив необыкновенную изобретатель¬ность, они попытались запечатлеть на фотоснимке самый необычный момент того или иного движения, его кульми¬нацию, например падение футболиста, прыжок гим¬настки или левитацию предметов в доме с привидениями. Однако и в этих случаях, хотя фотограф просто заснял некоторое событие, а не скомбинировал его из противо-поставленных элементов, изображение кажется слишком сделанным; схватывание уникального момента кажется произвольным, слишком преднамеренным, результатом стремления навязать зрителю свой язык, и эти изобре¬тательно сделанные фотографии не производят на нас никакого впечатления; они интересуют нас ровно столько времени, сколько мы на них смотрим; они не вызывают в нас никакого отклика, не волнуют нас; мы слишком быстро начинаем воспринимать их как чистый знак;
предельная ясность зрелища, его подготовленность из-бавляют нас от необходимости глубокого осмысления изображения во всей его возмущающей необычности; низ-веденная до уровня простого сообщения, фотография ока-зывается не в состоянии вывести нас из душевного рав¬новесия.
Живописцам также пришлось решать проблему изоб¬ражения кульминационного момента движения, его выс¬шей точки, но они справились с ней намного лучше. Так, художники эпохи Империи, поставив перед собой задачу воспроизведения мгновенных состояний (лошадь, вставшая на дыбы; Наполеон, простерший руку над полем брани, и т. д.), придали изображению характер развернутого знака неустойчивого состояния; это то, что
[62]
можно было бы назвать нуменом, торжественным зами-ранием тела в той или иной позе, момент которого невоз¬можно определить точно; именно с такого величествен¬ного обездвижения неуловимого момента (позднее в ки¬нематографе это назовут фотогенией) и начинается искусство. Некоторое замешательство, испытываемое нами при виде неестественно вздыбленных коней. Импе¬ратора, застывшего в невероятной позе, эта напористая экспрессия, которую можно назвать риторичностью, при¬дают восприятию знака характер своего рода волную¬щего вызова и повергают человека, воспринимающего изображение, в состояние скорее визуального нежели интеллектуального изумления, потому что они подклю-чают его к внешней стороне зрелища, к его оптической неподатливости, а не прямо к его смыслу.
Большинство фото-шоков, представленных на выстав¬ке, неудачны, потому что они демонстрируют именно промежуточное состояние между сырым фактом и фактом возвеличенным: они слишком интенциональны для фото¬графии и слишком точны для живописи, они лишены как возмутительности сырого факта, так и правдивости ис¬кусства: из них захотели сделать чистые знаки, но не за¬хотели наделить эти знаки хотя бы двусмысленностью, придать им затрудняющую их восприятие плотность. Логично поэтому, что единственными подлинными фото-шоками на этой выставке (ее замысел, впрочем, достоин похвалы) являются репортерские фотоснимки, на кото¬рых запечатленные факты предстают во всей своей неумолимости, буквальности, демонстрируя свою неуяз¬вимую естественность. Расстрел гватемальских ком¬мунистов, скорбящая невеста Адуана Малки, убитый сириец, полицейский, замахнувшийся дубинкой — эти образы поражают, потому что на первый взгляд они кажутся безучастными, почти безмятежными, совсем не¬соответствующими содержанию подписи под фотогра¬фией: они кажутся визуально уменьшенными, они лише¬ны того нумена, которым мастера живописных компо¬зиций обязательно наделили бы их (и с полным основа¬нием, раз речь идет о живописи). Естественность этих образов, не возвеличиваемых и никак не объясняемых, принуждает зрителя, не стесненного присутствием фото¬графа-демиурга, задавать настойчивые вопросы, подви-
[63]
гает его на выработку собственного мнения. Следова¬тельно, мы можем говорить здесь о том самом крити¬ческом катарсисе, на котором настаивал Брехт, но не об эмоциональном очищении, как в случае с сюжетной живописью; возможно, мы снова сталкиваемся здесь с двумя категориями эпического и трагического. Фотогра¬фия сырых фактов порождает возмущение ужасным, но не сам ужас.
Романы и дети
Если верить журналу «Эль», который опубликовал недавно на своих страницах коллективную фотографию семидесяти писательниц, женщина-литератор является особым биологическим видом: она вперемежку произво¬дит на свет детей и романы. Поэтому их представляют публике примерно так: Жаклин Ленуар (две дочери, один роман); Марина Грей (один сын, один роман); Николь Дютрей (два сына, четыре романа) и т. д.
Что же хотят этим сказать? А вот что: писательст¬во — это, конечно, прекрасное занятие, но оно сопряжено с риском; писатель—тоже «художник», поэтому он мо¬жет претендовать на известного рода богемность; по¬скольку во Франции, по крайней мере во Франции жур¬нала «Эль», на писателе лежит обязанность так обосно¬вывать социальную структуру общества, чтобы совесть читателей могла быть спокойной, за такие услуги при-ходится хорошо платить; поэтому негласно общество признает за ним право вести несколько своеобразный образ жизни. Но обратите внимание: женщины не долж¬ны воображать, что они тоже могут воспользоваться условиями молчаливого соглашения и избежать предва¬рительной проверки на наличие у них извечного женского начала. Ведь женщины для того и существуют на земле, чтобы рожать мужчинам детей; они могут писать сколько угодно, могут улучшать свое положение, но ни в коем случае не изменять его; их библейское предназначение не может отменяться в связи с продвижением в общест¬ве; за богемность, естественным образом присущую жизни писателя, они должны незамедлительно платить налог рожая детей.
Итак, вы можете быть свободной и смелой, играть в мужчину, заниматься, как и он, писательством, но
[64]
никогда не отдаляйтесь от него, живите всегда под его присмотром, компенсируйте свои романы рождением де¬тей; можете немного порезвиться на свободе, но затем быстро возвращайтесь к своим прямым обязанностям. Один роман, один ребенок, чуть-чуть феминизма, чуть-чуть супружеских обязанностей; пусть смелые опыты в области искусства будут крепко привязаны к семейным устоям: и литература и семья извлекут большую выгоду из такой перемены занятий; в области мифов взаимо¬помощь всегда плодотворна.
Например, присутствие Музы может придать возвы¬шенность самым обыденным домашним занятиям; вза¬мен, в качестве вознаграждения за добрые услуги, миф о рождении детей может передать Музе, пользующейся иногда не очень солидной репутацией, свою респекта¬бельность, гарантированную трогательной обстановкой детской комнаты. Так что все к лучшему в лучшем из миров, то есть в мире «Эль»; женщина может быть уве¬рена, что, как и мужчина, она вполне в состоянии достичь высшего статуса в сфере творчества. Но и муж¬чина может быть спокоен: он не лишится при этом своей супруги, ведь она сохранит свое природное свойст¬во рожать детей по его желанию. Журнал «Эль» ловко разыгрывает сцену на манер мольеровских пьес: с одной стороны, он говорит «да», с другой — «нет», стараясь ни¬кого не обидеть; уподобившись Дону Жуану между двумя поселянками, «Эль» говорит женщинам: «вы ни¬чем не хуже мужчин», а мужчинам говорит: «ваша жена всегда будет всего лишь женщиной».
Поначалу кажется, будто мужчина не имеет никакого отношения к этим родам двоякого свойства: дети и ро¬маны появляются на свет как бы сами по себе и принад¬лежат только матери; когда видишь, как семьдесят раз подряд романы и детишки заключаются вместе в одни скобки, поневоле начинаешь верить, что и те и другие являются плодами мечтаний и вымысла, чудесными порождениями некоего совершеннейшего партеногенеза, который дает женщинам возможность одновременно испытывать бальзаковские радости литературного твор¬чества и нежные материнские чувства. А где же мужчина в этой семейной идилии? Нигде и повсюду; он подобен небосклону, горизонту, верховной власти, которая одно-
[65]
временно определяет и содержит в себе статус женщины. Таков уж этот мир, как его представляет себе «Эль»: женщины в нем всегда оказываются идентичными особя¬ми одного и того же вида, которые объединены в некую корпорацию, ревниво отстаивающую свои привилегии, но с еще большим рвением несущую свои повинности; мужчина всегда находится за пределами этого сооб¬щества; женское начало может свободно проявлять себя во всей своей чистоте и мощи, однако мужчина всегда рядом, он всецело объемлет этот женский мир, он — источник его существования; подобно расиновскому богу он всегда отсутствует, давая в то же время начало всему сущему; поэтому женский мир журнала «Эль»—это мир без мужчин, но целиком созданный по их воле, то есть точная копия гинекея.
Что бы ни писал журнал «Эль», для него все сво¬дится к двум простым действиям: сначала заприте ги¬некей и только после этого предоставьте женщине сво¬боду действий. Влюбляйтесь, работайте, пишите, зани¬майтесь коммерцией или литературой, но при этом вы всегда должны помнить, что существует мужчина и что вы не созданы по его подобию; ваше сословие свободно, но с тем условием, что оно зависит от мужского сосло¬вия; ваша свобода — это роскошь, она возможна только после того, как вы согласились взять на себя обязан¬ности, возложенные на вас природой. Пишите, если вам так хочется этого, и мы все будем гордиться вами, но одновременно не забывайте рожать детей, ибо такова ваша женская доля. Воистину иезуитская мораль: при¬спосабливайтесь, как хотите, к моральным требованиям, предъявляемым к вашему положению, но никогда не покушайтесь на догматы, на которых они основаны.
Марсиане
Поначалу казалось, что загадка Летающих Тарелок имеет вполне земное происхождение: предполагалось, что тарелки прилетали из советского далека, из того мира, чьи намерения столь же неясны, как и намерения ино¬планетян. Уже в этой своей форме миф в зародыше содержал возможность межпланетной экстраполяции, и если из советской ракеты тарелка столь легко превра-
[66]
тилась в марсианский корабль, то это значит, что запад¬ная мифология приписывает коммунистическому миру ту же чужеродность, что и какой-нибудь планете: СССР — это мир, промежуточный между Землей и Марсом.
Однако по мере развития загадка изменила свой смысл; из мифа о схватке она стала мифом о суде. До поступления особого приказа Марс не станет вмеши¬ваться: марсиане явились на землю, чтобы судить Землю, но прежде чем вынести приговор, они хотят посмотреть и послушать. С этого момента великое проти¬востояние между СССР и США начинает ощущаться как источник виновности, чувство опасности откровенно берет верх над идеей борьбы за правое дело; отсюда — мифологическая апелляция к взгляду с небес, достаточно могущественному, чтобы устрашить обе стороны. Ана¬литики будущего, несомненно, сумеют объяснить изобра-зительные детали, онирические мотивы, из которых скла-дывается образ этого могущества: плавные контуры ракет, блеск полированного металла — все это предвос¬хищение того совершенного мира, где вообще не будет никаких зазоров; по контрасту мы начинаем лучше по¬нимать то, что для нас самих является воплощением зла: острые углы, несимметричные линии, грохот, неров¬ные плоскости. Все это, между прочим, подробнейшим образом уже живописалось в научной фантастике, откуда марсианский психоз и заимствует — с буквальной точ¬ностью — свои описания.
Более всего, однако, замечательно то, что Марсу исподволь приписывается исторический детерминизм по земному образу. В самом деле, если тарелки — это транспортное средство марсианских географов, вознаме¬рившихся описать Землю (как об этом вслух заявил один американский ученый и как многие думают вти¬хомолку), то, значит, история Марса развивалась в том же ритме, что и история нашего собственного мира, так что в конце концов привела к появлению географов в эпоху, аналогичную той, когда и мы открыли геогра¬фию и аэрофотосъемку. Следовательно, единственное преимущество марсиан — это сами их транспортные средства; Марс, таким образом, оказывается воплоще¬нием нашей грезы о будущей Земле, обретшей совершен¬ные крылья для полета, как это и должно быть в любой
[67]
идеализирующей мечте. Вероятно, если бы мы высади¬лись на Марс — на такой Марс, каким его себе вообра¬жают,— мы обнаружили бы там все ту же Землю и не смогли бы разобрать, какой из этих двух идентичных продуктов идентичной истории принадлежит нам. Ведь чтобы марсиане сумели овладеть географическими позна¬ниями, у них тоже должны были быть свой Страбон, Мишле, Видаль де ла Бланш и далее — те же самые нации, войны, ученые, те же самые люди, что и у нас.
По логике вещей требуется, чтобы у них были и те же самые религии, прежде всего — наша собственная, та, что исповедуем мы, французы. У марсиан, утверждает газета «Лионский прогресс», обязательно должен был быть свой Христос; а это значит, что у них есть и папа (что, между прочим, отдает уже явной схизмой); в противном случае они не смогли бы «цивилизоваться» до такой степени, чтобы изобрести межпланетные тарелки. Ведь будучи драгоценными дарами цивилизации, рели¬гия и технический прогресс, с точки зрения этой газеты, могут идти лишь рука об руку. «Невозможно поверить, чтобы существа, достигшие ступени цивилизации, позво¬ляющей прилетать к нам с помощью собственных техни-ческих средств, оказались язычниками. Они, должно быть, деисты, признающие существование бога и имею¬щие собственную религию».
Итак, в основе всего этого психоза лежит миф о Тождественности, точнее — о Двойничестве. Однако и в данном случае наш Двойник сумел нас опередить: он оказался в роли нашего судьи. Столкновение Востока и Запада предстает уже не просто как битва Добра и Зла, а как своего рода манихейская схватка, на которую взирает Третейское око; тем самым предполагается су¬ществование некой небесной Сверхприроды, ибо угроза Наказания исходит именно оттуда; небеса отныне (уже без всякой метафорики) становятся источником атомной смерти. Судия является на место угрожающего палача.
И опять-таки, этот Судия, вернее Наблюдатель, ока¬зывается заботливо преображен стараниями обыденного сознания, являя собой, в сущности, еще одну проекцию земных представлений. Ведь одна из устойчивых черт любой мелкобуржуазной мифологии — это неспособность вообразить себе Другого. Инакость — понятие, к которо-
[68]
му «здравый смысл» испытывает более всего неприязни. Любой миф с неизбежностью тяготеет к суженному ант-ропоморфизму и хуже того — к антропоморфизму, ко¬торый можно было бы назвать классовым. Марс — это не просто Земля, это Земля мелкобуржуазная, какая-то захудалая мыслительная провинция, чьи умонастроения культивирует (или выражает) массовая иллюстрирован¬ная пресса. Не успев сформироваться в высях небесных, образ Марса оказывается обкромсан по меркам этой провинции с помощью мощнейшего из механизмов присвоения — механизма отождествления.
Затерянный континент
Фильм «Затерянный континент» проливает яркий свет на современную мифологию экзотизма. Это большая документальная лента о «Востоке», где сюжетом служит некая этнографическая экспедиция (впрочем, совершенно условная) на полуостров Индостан, предпринятая тремя или четырьмя бородатыми итальянцами. Фильм приводит в состояние эйфории, его героям все дается легко, без видимых усилий. Наши путешественники — славные пар¬ни, предающиеся на досуге невинным развлечениям: то они возятся с маленьким медвежонком, который служит им талисманом (без талисмана, заметим, не обходится ни одна экспедиция: не найдешь такого фильма о Заполярье, где не фигурировал бы ручной тюлень, ни одного ре¬портажа из тропиков— без какой-нибудь обезьянки), то смешно опрокидывают на палубу тарелку спагетти. Наши бравые этнологи не затрудняются историческими или социальными проблемами. Для них путешествие на Вос¬ток — всего лишь прогулка по лазурному морю под вечно сияющим солнцем. Этот Восток (кстати сказать, прев¬ратившийся ныне в политический центр мира) предстает в фильме совершенно банальным, прилизанным и рас¬крашенным, словно на старых почтовых открытках.
Прием, оправдывающий такую безответственность, вполне понятен: раскрасить мир всегда значит так или иначе заявить о его неприятии (вот, пожалуй, отправ¬ная точка для тяжбы против цветного кино). Закра¬шенный, выхолощенный, задавленный пышными «обра¬зами», Восток тем самым оказывается подготовлен к
[69]
полному уничтожению, на которое его обрекает фильм. Поигрывая с медвежонком-талисманом и комически вы¬валивая спагетти на палубу, наши киноэтнографы без труда сумеют изобразить такой Восток, который по ви¬димости экзотичен, а по существу глубочайшим образом похож на Запад, по крайней мере в его спиритуалисти¬ческой ипостаси. На Востоке особые религии? Ничего страшного, различия мало что значат перед лицом корен¬ного единства идеализма. Любой обряд, таким образом, обретает специфичность и в то же время приобщается к вечности, возводится в ранг пикантного зрелища и вместе с тем — в ранг парахристианского символа. Если все же буддисты не являются христианами в собствен¬ном смысле слова, то это неважно, коль скоро и у них есть монахини, бреющие головы (патетический мотив всякого пострижения), а также монахи, преклоняющие колени и исповедующиеся своим пастырям, коль скоро, наконец, и у них, словно в Севилье, верующие стекаются, дабы украсить золотом изваяние своего бога1. Очевидно, что именно «формы» лучше всего свидетельствуют о сходстве религий; однако в данном случае такое сходство служит не разоблачению, а возвеличению этих религий во славу их высшей разновидности — католицизма.
Известно, что одним из основных орудий ассимиля¬ции, которыми пользовалась Церковь, всегда был синк¬ретизм. В XVII в. на том самом Востоке, чью предраспо¬ложенность к христианству живописует «Затерянный кон¬тинент», иезуитский ойкуменизм в области форм зашел столь далеко, что в конце концов папе пришлось даже осудить малабарские обряды. Между тем именно тезис, согласно которому «все у всех одинаково», как. раз и вдохновляет наших этнографов: Восток, Запад — не все ли равно, если различия только в колористике; сущность-то одинакова, и эта сущность есть вечная устремленность человека к богу, тогда как всякие географические особен¬ности случайны и преходящи перед лицом человеческой природы, ключ от которой — в руках христианства. Даже
1 В фильме нам дается и показательный пример мистифицирую¬щей власти музыки: все «буддистские» сцены идут в сопровождении жиденького музыкального сиропа — некоей смеси из американского ро¬манса и григорианского хорала: сплошная монодия (долженствующая служить знаком монашества).
[70]
местные предания, весь этот «примитивный» фольклор, чью самобытность, как кажется, столь ясно демонстри¬рует фильм, на самом деле преследуют лишь одну цель — прославить «Природу»: обряды, культурные обычаи ни в коем случае не ставятся в связь с какой бы то ни было исторической ситуацией, с эксплицитным социально-эко¬номическим строем, но лишь с великой космологией безликих общих мест (смена времен года, стихийные бедствия, смерть и т. п.). Если речь заходит о рыбаках, вам ни в коем случае не покажут местный способ рыбной ловли, вам изобразят романтическую «сущность» рыбака, залитого, словно на лубке, вечными лучами заходящего солнца; вам покажут не труженика, чьи технические средства и заработок зависят от общества, в котором он живет, вам подсунут тему вечного человеческого удела: мужская фигурка, затерявшаяся у горизонта, вверившаяся грозной морской стихии, силуэт женщины, плачущей и молящейся у очага. То же и с беженцами, длинную вереницу которых, спускающуюся с гор, мы видим в начале фильма: не стоит, разумеется, даже и пытаться хоть как-то конкретизировать их; ведь это всего лишь вечные сущности беженцев: такова уж при¬рода Востока, что без беженцев там не обойтись.
По сути, глубинной мотивировкой всей этой экзо¬тики служит стремление отвергнуть Историю в любой ее форме. Принарядив восточную действительность десятком-других красочных туземных примет, ей тем самым делают надежную прививку против любой разновидности социальной ответственности. Небольшая толика «ситуативности», по возможности наиболее внешней, как раз и создает необходимое алиби, освобождая от анализа более глубокой ситуации. Перед лицом всего чужого наш Строй знает лишь два типа поведения, причем оба выполняют калечащую функцию: либо признать это чужое в качестве своеобразного гиньоля, либо обезвре¬дить его, объявив простым отражением Запада. В любом случае главное состоит в том, чтобы лишить его собствен¬ной истории. Мы видим, таким образом, что «прелестные картинки», продемонстрированные нам в «Затерянном континенте», отнюдь не безобидны: ведь нельзя безна¬казанно затерять целый континент, который потом вдруг объявляется в Бандунге.
[71]
II. Миф сегодня
Что такое миф в наше время? Для начала я отвечу на этот вопрос очень просто и в полном соответствии с этимологией: миф—это слово, высказывание1.
Миф как высказывание.
Конечно, миф — это не любое высказывание; только в особых условиях речевое произведение может стать мифом; в дальнейшем мы установим, каковы эти условия. Но с самого начала необходимо твердо усвоить, что миф — это коммуника-тивная система, сообщение. Следовательно, миф не может быть вещью, концептом или идеей; он представ¬ляет собой один из способов означивания; миф — это форма. Хотя на более поздних этапах исследования нам придется установить исторические границы этой формы, условия ее употребления, наполнить ее социальным содержанием, вначале необходимо описать миф именно как форму.
Легко убедиться в том, что попытки разграничить разного рода мифы на основе их субстанции совершенно бесплодны: поскольку миф — это слово , то им может стать все, что достойно рассказа. Для определения мифа важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем сооб¬щается; можно установить формальные границы мифа, субстанциональных же границ он не имеет. Значит, мифом может стать все что угодно? Я полагаю, что дело обстоит именно так, ведь суггестивная сила мира беспредельна. Любую вещь можно вывести из ее замкну¬того, безгласного существования и превратить в слово, готовое для восприятия обществом, ибо нет такого
1 Мне могут возразить, что у слова миф есть множество других значений. Но моя задача - дать определение предмету, а не слону.
[72]
закона, естественного или иного, который запрещал бы говорить о тех или иных вещах. Разумеется, дерево есть дерево. Однако у Мину Друэ дерево уже не совсем дерево, оно приукрашено, приспособлено для определен¬ного вида потребления, может вызывать литературные симпатии и антипатии, какие-то образы, одним словом, оно наделено социальным узусом, который наклады¬вается на чистую материю.
Разумеется, сразу обо всем не скажешь: сначала одни вещи на какое-то время становятся жертвой мифа, затем они исчезают, их место занимают другие, в свою очередь становящиеся объектом мифического слова. Существуют ли вещи, фатально суггестивные, подобно Женщине, о которой говорил Бодлер? Конечно нет: мифы могут быть очень древними, но вечных мифов не бывает, ибо человеческая история может превратить реальность в слово, только от нее одной зависит жизнь и смерть мифического языка. И в древности и в наше время мифология может найти свое основание только в истории, так как миф — это слово, избранное историей; он не может возникнуть из «природы» вещей.
Мифическое слово есть сообщение. Оно не обязатель¬но должно быть устным: это может быть письмо или изображение; и письменная речь, а также фотография, кинематограф, репортаж, спортивные состязания, зрели¬ща, реклама могут быть материальными носителями мифического сообщения. Сущность мифа не определяется ни тем, о чем он повествует, ни его материальным но¬сителем, так как любой предмет может быть произвольно наделен значением: стрела, которую приносят в знак вызова, тоже есть сообщение. Очевидно, в перцептивном плане изображение и письменное сообщение, например, воспринимаются сознанием по-разному; сам зрительный образ также может прочитываться многими способами: схема может значить гораздо больше, чем рисунок, копия — больше чем оригинал, карикатура — больше, чем портрет. Но в том-то все и дело, что речь идет не о теоретическом способе репрезентации, а о конкретном изображении, имеющем данное значение; мифическое сообщение формируется из некоторого материала, уже обработанного для целей определенной коммуникации; поскольку любые материальные носители мифа, изобра-
[73]
зительные или графические, предполагают наличие сознания, наделяющего их значением, то можно рассуж¬дать о них независимо от их материи. Эта материя не безразлична, ибо изображение, конечно, более импе¬ративно, чем письмо; оно навязывает свое значение целиком и сразу, не анализируя его, не дробя на состав¬ные части. Но это различие вовсе не основополагающее, поскольку изображение становится своего рода письмом, как только оно приобретает значимость; как и письмо, оно образует высказывание.
В дальнейшем мы будем называть речевым произве¬дением, дискурсом, высказыванием и т. п. всякое значи¬мое единство независимо от того, является ли оно сло¬весным или визуальным; фотография будет для нас таким же сообщением, что и газетная статья; любые предметы могут стать сообщением, если они что-либо значат. Такой общий взгляд на речевую деятельность оправдан, между прочим, историей письменности; задол¬го до возникновения нашего алфавита предметы, подоб¬ные кипу* у инков, или рисунки-пиктограммы были при¬вычными видами сообщений. Этим мы не хотим сказать, что мифическое высказывание следует рассматривать только в плане языка; в действительности изучением мифов должна заниматься общая наука, более широкая, чем лингвистика; имя этой науки — семиология.
Миф как семиологическая система.
Поскольку в мифологии изучаются некие высказывания, эта наука является всего лишь частью более обширной науки о знаках, которую около сорока лет тому назад предложил создать Соссюр под названием семиологии. Тем не менее со времен Соссюра и иногда независимо от него ряд направлений современной научной мысли постоянно возвращается к проблеме значения; психоанализ, струк¬турализм, гештальтпсихология, некоторые новые на¬правления литературной критики, примером которых могут служить работы Башляра, изучают факты только в той мере, в какой они что-то значат. Но если
* Кипу — узелковое письмо: веревочки с рядом привязанных к ним узелков, цвет и расположение которых служили разными условными обозначениями.— Прим. ред.
[74]
речь заходит о значении, возникает необходимость обра-щения к семиологии. Я не хочу сказать, что все эти виды исследований равным образом относятся к семиологии; их содержание различно. Однако все они имеют одина¬ковый статус: это науки о значимостях; они не удовлет¬воряются поиском фактов самих по себе, они опреде¬ляют и исследуют факты, что-либо значащие.
Семиология есть наука о формах, поскольку значения изучаются в ней независимо от их содержания. Мне хотелось бы сказать несколько слов о необходимости и о границах такой формальной науки. Необходимость в семиологии такая же, как и необходимость во всяком точном научном языке. (...) Нельзя говорить о структуре в терминах формы и наоборот. Вполне может быть, что в «жизни» имеется только нераздельная совокупность структур и форм. Но наука не властна над тем, что не выразимо, она должна говорить непосредственно о жиз-ни, если хочет изменить ее. Выступая против некоторых донкихотствующих сторонников синтетического подхода, носящего, увы, платонический характер, всякая научная критика должна идти на некоторую аскетичность, ми¬риться с искусственностью аналитического подхода и при этом должна пользоваться соответствующими методами и языками. Если бы историческая критика не была так запугана призраком «формализма», она не была бы, вероятно, такой бесплодной; она поняла бы, что спе¬цифическое изучение форм ни в чем не противоречит необходимым принципам целостности и историчности. Совсем наоборот, чем более специфичны формы той или иной системы, тем более она поддается историческому анализу. Пародируя известное изречение, я сказал бы, что небольшая доза формализма удаляет нас от Истории, а значительная формализация возвращает нас к ней. Можно ли найти лучший пример целостного анализа, чем «Святой Жене» Сартра с его одновременно формаль¬ным и историческим, семиологическим и идеологическим описанием святости? Напротив, опасно рассматривать форму как двойственный объект: полуформу и полусуб¬станцию, наделять форму субстанцией формы. Семиоло¬гия, не выходящая за собственные рамки, не является метафизической западней: она такая же наука, как и другие, необходимая, но не исчерпывающая свой пред-
[75]
мет. Главное — это понять, что единство объяснения достигается не отсечением того или иного подхода, а, если следовать Энгельсу, диалектической взаимосвязью специальных наук, которые привлекаются в том или ином случае. То же самое относится и к мифологии: она одновременно является частью семиологии как науки формальной и идеологии как науки исторической; она изучает оформленные идеи2.
Напомню теперь, что в любого рода семиологической системе постулируется отношение между двумя элемен¬тами: означающим и означаемым. Это отношение связы¬вает объекты разного порядка, и поэтому оно является отношением эквивалентности, а не равенства. Необхо¬димо предостеречь, что вопреки обыденному словоупо¬треблению, когда мы просто говорим, что означающее выражает означаемое, во всякой семиологической систе¬ме имеются не два, а три различных элемента; ведь то, что я непосредственно воспринимаю, является не после¬довательностью двух элементов, а корреляцией, которая их объединяет. Следовательно, есть означающее, означа¬емое и есть знак, который представляет собой результат ассоциации первых двух элементов. Например, я беру букет роз и решаю, что он будет означать мои любовные чувства. Может быть, в этом случае мы имеем лишь означаемое, розы и мои любовные чувства? Нет, это не так; в действительности имеются только розы, «отягощен¬ные чувством». Однако в плане анализа мы выделяем три элемента: «отягощенные чувством» розы с полным основанием могут быть разложены на розы и любовные чувства; и розы и чувства существовали по отдельности до того, как объединиться и образовать третий объект; являющийся знаком. Если в жизни я действительно не в состоянии отделить розы от того, о чем они сообщают, то в плане анализа я не имею права смешивать розы
2 Развитие рекламы, большой прессы, иллюстрированных изданий, не говоря уже о бесчисленных пережитках коммуникативных ритуалов (ритуалов поведения в обществе) делает более настоятельным, чем когда-либо, создание семиологии как науки. Часто ли мы в течение дня попадаем в такую обстановку, где нет никаких значений? Очень редко, иногда ни разу. Вот я стою на берегу моря; оно, конечно, не несет никакого сообщения, но на берегу — сколько семиологического материа¬ла: знамена, лозунги, сигналы, вывески, одежда, даже загар на те¬лах - все это дано мне как множество высказываний.
[76]
как означающее и розы как знак; означающее само по себе лишено содержания, знак же содержателен, он несет смысл. Возьмем какой-нибудь темный камешек; я могу сделать его что-либо значащим различными способами, пока это означающее и только; но стоит мне наделить камешек определенным означаемым (например, он будет означать смертный приговор при тайном голосовании), как он станет знаком. Разумеется, между означающим, означаемым и знаком имеются функциональные связи (как между частью и целым), настолько тесные, что их анализ может показаться тщетным предприятием; но ско¬ро мы убедимся в том, что различение этих трех элементов имеет первостепенную важность для изучения мифа как семиологической системы.
Конечно, эти три элемента имеют абсолютно формаль¬ный характер и им можно придать различное содержа¬ние. Приведем несколько примеров. Для Соссюра, кото¬рый имел дело с семиологической системой особого рода, образцовой с методологической точки зрения, а именно с языком, означаемое представляет собой концепт, а означающее — акустический образ (психического поряд¬ка); связь же концепта с акустическим образом образует знак (например, слово), то есть конкретную сущность3. Известно, что Фрейд рассматривал психику как густую сеть отношений эквивалентности, отношений значимости. Один из элементов отношения (я воздержусь от того, чтобы считать его первичным) представляет собой явный смысл поведения, другой же элемент представляет собой скрытый, или действительный, смысл (например, субстрат сновидения); что касается третьего элемента, то и в данном случае он является результатом корреляции пер¬вых двух элементов. Это само сновидение в его целост¬ности, неудавшееся действие или невроз, которые осмыс¬ливаются как компромисс, экономия сил, осуществляемая благодаря соединению формы (первый элемент) и интенциональной функции (второй элемент). На этом примере легко убедиться, насколько важно различение знака и означающего: для Фрейда сновидение — это не столько непосредственная данность или латентное содержание,
3 Понятие слова является одним из самых спорных в лингвистике. Я пользуюсь этим термином ради простоты изложения.
[77]
сколько функциональная связь двух элементов. Наконец, в критике Сартра (этими тремя хорошо известными при¬мерами я и ограничусь) означаемое представляет собой изначальный кризис личности (разлука с матерью у Бодлера , называние кражи своим именем у Жене ); Лите¬ратура как особый дискурс образует означающее, и отно¬шение между личным переживанием и дискурсом создает художественное произведение, которое можно определить как значение. Конечно, эта трехэлементная система, не¬смотря на неизменность своей формы, не реализуется всегда в одном и том же виде, я еще раз подчеркиваю, что единство семиологии существует на уровне формы, а не содержания; сфера ее применения ограничена, она имеет дело только с одним языком, только с одной операцией — прочтением или расшифровкой.
В мифе мы обнаруживаем ту же трехэлементную сис¬тему , о которой я только что говорил: означающее, озна¬чаемое и знак. Но миф представляет собой особую систе¬му и особенность эта заключается в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; миф является вторичной семиологической системой. Знак (то есть результат ассоциации концепта и акустического образа) первой системы ста¬новится всего лишь означающим во второй системе. Стоит напомнить еще раз, что материальные носители мифического сообщения (собственно язык, фотография, живопись, реклама, ритуалы, какие-либо предметы и т. д.), какими бы различными они ни были сами по себе, как только они становятся составной частью мифа, сво¬дятся к функции означивания; все они представляют собой лишь исходный материал для построения мифа;
их единство заключается в том, что все они наделяются статусом языковых средств. Идет ли речь о последо¬вательности букв или о рисунке, для мифа они представ¬ляют собой знаковое единство, глобальный знак, конеч¬ный результат, или третий элемент первичной семиологической системы. Этот третий элемент становится первым, то есть частью той системы, которую миф надстраивает над первичной системой. Происходит как бы смещение формальной системы первичных значений на одну отмет¬ку шкалы. Поскольку это смещение очень важно для анализа мифа, я попытаюсь изобразить его с помощью
[78]
следующей схемы; разумеется, пространственное распо-ложение частей схемы является здесь всего лишь мета¬форой.
язык 1. означающее 2. означаемое
МИФ 3. знак
I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ II. ОЗНАЧАЕМОЕ
III. ЗНАК
Из схемы следует, что в мифе имеются две семиологические системы, одна из которых частично встроена в другую; во-первых, это языковая система, язык (или иные, подобные ему способы репрезентации); я буду называть его языком-объектом, поскольку он поступает в распоряжение мифа, который строит на его основе свою собственную систему; во-вторых, это сам миф; его можно называть метаязыком, потому что это второй язык, на котором говорят о первом. Когда семиолог анализи¬рует метаязык, ему незачем интересоваться строением языка-объекта, учитывать особенности языковой сис¬темы; он берет языковой знак в его целостности и рас¬сматривает его лишь с точки зрения той роли, которую он играет в построении мифа. Вот почему семиолог с пол¬ным правом одинаково подходит к письменному тексту и рисунку: ему важно в них то свойство, что оба они являются знаками, готовыми для построения мифа; и тот и другой наделены функцией означивания, и тот и другой представляют собой язык-объект.
Теперь пора привести один-два примера мифического высказывания. Первый пример я позаимствую у Валери 4: представьте себе, что я ученик пятого класса француз¬ского лицея; я открываю латинскую грамматику и читаю в ней фразу, взятую из басни Эзопа или Федра: quia ego nominor leo. Я откладываю книгу и задумываюсь: во фразе есть какая-то двусмысленность. С одной стороны,
4 «Tel Quel», 1941-1943, II, р. 191.
[79]
смысл слов совершенно ясен: потому что я зовусь львом; с другой стороны, эта фраза приведена здесь явно для того, чтобы дать мне понять нечто совсем иное; обра¬щаясь именно ко мне, ученику пятого класса, она ясно говорит мне: я есмь пример, который должен проиллюст¬рировать правило согласования предикатива с подлежа¬щим. Приходится даже признать, что эта фраза вовсе не имеет целью передать мне свой смысл, она весьма мало озабочена тем, чтобы поведать мне нечто о льве, о том, как его зовут; ее истинное конечное значение заключается в том, чтобы привлечь мое внимание к определенному типу согласования. Отсюда я делаю вывод, что передо мной особая надстроенная семиологическая система, вы¬ходящая за рамки языка: ее означающее само образо¬вано совокупностью знаков и само по себе является первичной семиологической системой (я зовусь львом). В остальном же формальная схема строится обычным образом: имеется означаемое (я есмь пример на правило грамматики) и есть глобальное значение, которое пред-ставляет собой результат корреляции означающего и означаемого; ведь ни именование животного львом, ни пример на грамматическое правило не даны мне по отдельности.
Возьмем другой пример. Предположим, я сижу в па-рикмахерской, мне протягивают номер журнала «Па¬ри-Матч». На обложке изображен молодой африканец во французской военной форме; беря под козырек, он глядит вверх, вероятно, на развевающийся французский флаг. Таков смысл изображения. Но каким бы наивным я ни был, я прекрасно понимаю, что хочет сказать мне это изображение: оно означает, что Франция — это ве¬ликая Империя, что все ее сыны, независимо от цвета кожи, верно служат под ее знаменами и что нет лучшего ответа критикам так называемой колониальной системы, чем рвение, с которым этот молодой африканец служит своим так называемым угнетателям. И в этом случае передо мной имеется надстроенная семиологическая сис¬тема: здесь есть означающее, которое само представляет собой первичную семиологическую систему (африканский солдат отдает честь, как это принято во французской армии); есть означаемое (в данном случае это намерен¬ное смешение принадлежности к французской нации с
[80]
воинским долгом); наконец, есть репрезентация означае¬мого посредством означающего.
Прежде чем перейти к анализу каждого элемента ми-фологической системы, следует договориться о термино¬логии. Теперь мы знаем, что означающее в мифе может быть рассмотрено с двух точек зрения: как результирую¬щий элемент языковой системы или как исходный эле¬мент системы мифологической. Следовательно, нам по¬требуется два термина; в плане языка, то есть в качест¬ве конечного элемента первой системы я буду называть означающее смыслом (я зовусь львом; африканский сол¬дат отдает честь по-французски); в плане мифа я буду называть его формой. Что касается означаемого, то здесь не может быть двусмысленности, и мы оставим за ним наименование концепт. Третий элемент является резуль¬татом корреляции первых двух; в языковой системе это знак; однако дальнейшее использование этого термина окажется неизбежно двусмысленным, поскольку в мифе (и в этом заключается его главная особенность) озна¬чающее уже образовано из знаков языка. Третий эле¬мент мифологической системы я буду называть значе¬нием. Употребление этого слова тем более уместно, что миф действительно обладает двойной функцией: он од¬новременно обозначает и оповещает, внушает и предпи-сывает.
Форма и концепт.
Означающее мифа двулико: оно является одновременно и смыслом и формой, заполнен¬ным и в то же время пустым. Как смысл означающее предполагает возможность какого-то прочтения, его мож¬но увидеть, оно имеет чувственную реальность (в проти¬воположность языковому означающему, имеющему сугу¬бо психическую природу); означающее мифа содержа¬тельно: именование животного львом, приветствие афри¬канского солдата — все это достаточно вероятные собы-тия, которые легко себе представить. Как целостная сово-купность языковых знаков смысл мифа имеет собствен¬ную значимость, он является частью некоторого события, например, истории со львом или африканцем; в смысле уже содержится готовое значение, которое могло бы ока¬заться самодостаточным, если бы им не завладел миф и
[81]
не превратил бы его в полую, паразитарную форму. Сам по себе смысл уже есть нечто законченное, он предпола¬гает наличие некоторого знания, прошлого, памяти, срав¬нения фактов, идей, решений.
Становясь формой, смысл лишается своей случайной конкретности, он опустошается, обедняется, история вы-ветривается из него и остается одна лишь буква. Проис¬ходит парадоксальная перестановка операций чтения, аномальная регрессия смысла к форме, языкового знака к означающему мифа. Если рассматривать предложе¬ние quia ego nominor leo исключительно в границах язы¬ковой системы, то оно сохраняет в ней все свое богатство, полноту, всю отнесенность к конкретным событиям: я — животное, лев, обитаю в такой-то стране, возвращаюсь с охоты и тут от меня требуют, чтобы я поделился своей добычей с телкой, коровой и козой; но поскольку я самый сильный, то присваиваю себе все части добычи, приво¬дя различные доводы, последний из которых заключается попросту в том, что я зовусь львом. Однако в мифе дан¬ное предложение, становясь формой, не сохраняет почти ничего из этой длинной цепи событий. Смысл предложе¬ния заключал в себе целую систему значимостей, относя¬щихся к истории, географии, морали, зоологии. Литера¬туре. Форма устранила все это богатство; возникшая в результате бедность содержания требует нового значе¬ния, которое заполнило бы эту опустошенную форму. Надо отодвинуть историю со львом на задний план, что¬бы освободить место для примера на грамматическое правило; надо заключить в скобки биографию африкан¬ского солдата, если мы хотим освободить образ от преж¬него содержания и подготовить его к приобретению но¬вого означаемого.
Однако главное здесь заключается в том, что форма не уничтожает смысл, она лишь обедняет его, отодвигает на второй план, распоряжаясь им по своему усмотрению. Можно было бы подумать, что смысл обречен на смерть, но это смерть в рассрочку; смысл теряет свою собствен¬ную значимость, но продолжает жить, питая собой фор¬му мифа. Смысл является для формы чем-то вроде хра¬нилища конкретных событий, которое всегда находится под рукой; это богатство можно то использовать, то пря¬тать подальше по своему усмотрению; всё время возни-
[82]
кает необходимость, чтобы форма снова могла пустить корни в смысле и, впитав его, принять облик природы; но прежде всего форма должна иметь возможность укры¬ться за смыслом. Вечная игра в прятки между смыслом и формой составляет самую суть мифа. Форма мифа — не символ; африканский солдат, отдающий честь, не яв¬ляется символом Французской империи, он слишком реа¬лен для этого, его образ предстает перед нами во всем своем богатстве, жизненности, непосредственности, простодушии, неоспоримости. И в то же самое время эта реальность несамостоятельна, отодвинута на второй план, как бы прозрачна; немного отступив, она вступает в сговор с явившимся к ней во всеоружии концептом «французская империя»; реальность становится заимст¬вованной.
Обратимся теперь к означаемому. История, которая словно сочится из формы мифа, целиком и полностью впитывается концептом. Концепт всегда есть нечто кон¬кретное, он одновременно историчен и интенционален, он является той побудительной причиной, которая вызывает к жизни миф. Пример на грамматическое правило, фран¬цузская империя — это все настоящие побудительные причины сотворения мифа. Концепт помогает восстано¬вить цепь причин и следствий, движущих сил и интенций. В противоположность форме концепт никоим образом не абстрактен, он всегда связан с той или иной ситуацией. Через концепт в миф вводится новая событийность: в примере на грамматическое правило, в котором факт именования животного львом предварительно лишается своих конкретных связей, оказываются названными все стороны моего существования: Время, благодаря которо¬му я появился на свет в такую эпоху, когда грамматика является предметом изучения в школе; История, которая с помощью целой совокупности средств социальной сег¬регации противопоставляет меня тем детям, которые не изучают латынь; школьная традиция, которая заставляет обратиться в поисках примера к Эзопу или Федру; мои собственные языковые навыки, для которых согласование предикатива с подлежащим есть примечательный факт, заслуживающий того, чтобы его проиллюстрировали. То же самое можно сказать и об африканском солдате, от¬дающем честь: его смысл, выступая в качестве формы,
[83]
становится неполным, бедным, лишенным конкретных связей; как концепт «французская империя» он снова оказывается связанным со всем миром в его целостнос¬ти — с Историей Франции, с ее колониальными авантю¬рами, с теми трудностями, которые она переживает теперь. Если говорить точнее, в концепт впитывается не сама реальность, а скорее определенные представления о ней; при переходе от смысла к форме образ теряет ка¬кое-то количество знаний, но зато вбирает в себя знания, содержащиеся в концепте. На самом деле, представле¬ния, заключенные в мифологическом концепте, являются смутным знанием, сформировавшимся на основе слабых, нечетких ассоциаций. Я настоятельно подчеркиваю от-крытый характер концепта; это никоим образом не абст¬рактная, стерильная сущность, а скорее конденсат не¬оформившихся, неустойчивых, туманных ассоциаций; их единство и когерентность зависят прежде всего от функ¬ции концепта.
В этом смысле можно утверждать, что фундаменталь¬ным свойством мифологического концепта является его предназначенность: пример на грамматическое правило предназначен для определенной группы учащихся, кон¬цепт «французская империя» должен затронуть тот, а не иной круг читателей; концепт точно соответствует ка¬кой-то одной функции, он определяется как тяготение к чему-то. Это напоминает нам характер означаемого в другой семиологической системе — во фрейдизме: для Фрейда вторым элементом семиологической системы является латентный смысл (содержание) сновидения, не¬удавшегося действия, невроза. Фрейд справедливо пола¬гает, что вторичный смысл поведения является его истинным смыслом, то есть смыслом, соответствующим целостной глубинной ситуации; он представляет собой, как и мифологический концепт, истинную интенцию поступка.
Означаемое может иметь несколько означающих; именно так обстоит дело с означаемым в языке и в психо¬анализе. То же самое можно сказать и о мифологиче¬ском концепте: в его распоряжении имеется неограничен¬ное число означающих. Можно подобрать сотни латин¬ских фраз, иллюстрирующих согласование предикатива с подлежащим, можно найти сотни образов, пригодных для
[84]
обозначения концепта «французская империя». Это го¬ворит о том, что в количественном отношении концепты намного беднее означающего; часто мы имеем дело все¬го лишь с воспроизведением одного и того же концепта рядом означающих. Если идти от формы к концепту, то бедность и богатство окажутся в обратном отношении: качественной бедности формы, носительницы разрежен¬ного смысла, соответствует богатство концепта, открыто¬го навстречу всей Истории; количественному же изоби¬лию форм соответствует небольшое число концептов. Повторяющаяся репрезентация одного и того же концеп¬та посредством ряда форм представляет огромную цен¬ность для мифолога, так как она позволяет произвести расшифровку мифа; ведь постоянство определенного типа поведения дает возможность выявить его интенцию. Ска-занное позволяет утверждать, что нет регулярного соот¬ветствия между объемом означаемого и объемом озна¬чающего; в языке это соответствие пропорционально, оно не выходит за пределы слова или по крайней мере какой-либо конкретной единицы. Напротив, в мифе кон¬цепт может соответствовать означающему, имеющему очень большую протяженность; например, целая книга может оказаться означающим одного-единственного концепта и, наоборот, совсем краткая форма (слово или жест — даже непроизвольный, главное, чтобы он был воспринят) может стать означающим концепта, насыщен¬ного очень богатой историей. Эта диспропорция между означающим и означаемым не характерна для языка, но она не является и специфической принадлежностью мифа; например, у Фрейда неудавшееся действие пред¬ставляет собой такое означающее, ничтожность которого совершенно непропорциональна истинному смыслу этого действия.
Я уже говорил о том, что мифические концепты лише¬ны всякой устойчивости: они могут создаваться, изме¬няться, разрушаться и исчезать совсем. Именно потому, что они историчны, история очень легко может их упразд¬нить. Эта неустойчивость побуждает мифолога прибегать к особой терминологии, о которой я хотел бы сказать здесь несколько слов, поскольку иногда она вызывает к себе ироническое отношение: речь идет о неологизмах. Концепт является составной частью мифа, поэтому если
[85]
мы желаем заняться расшифровкой мифов, нам надо научиться давать названия концептам. Некоторые слова можно найти в словаре: Доброта, Милосердие, Здоровье, Гуманность и т. д. Однако, поскольку мы берем эти кон¬цепты из словаря, они не историчны по определению. В мифологии же чаще всего приходится давать названия эфемерным концептам, связанным с конкретными обстоя¬тельствами; неологизмы в этом случае неизбежны. Ки¬тай — это одно; представление, которое еще совсем не¬давно имел о нем французский обыватель,— это другое; особого рода мешанину из колокольчиков, рикш и кури-лен опиума можно именовать не иначе, как китайщина. Не очень благозвучно? Остается лишь утешиться тем, что неологизмы для обозначения новых понятий никогда не произвольны: они создаются на основе вполне осмыс¬ленных пропорциональных отношений 5.
Значение.
Как нам уже известно, третий элемент семиологической системы представляет собой не что иное, как результат соединения двух первых элементов; только этот результат и дан для непосредственного наблю¬дения, только он и воспринимается нами. Я назвал тре¬тий элемент значением. Ясно, что значение и есть сам миф, подобно тому, как соссюровский знак есть сло¬во (точнее, конкретная сущность). Прежде чем описы¬вать свойства значения, надо немного поразмыслить над тем, каким образом оно создается, то есть рассмотреть способы соотнесения концепта и формы в мифе.
Прежде всего надо отметить, что в мифе два первых элемента совершенно очевидны (в противоположность тому, что имеет место в других семиологических систе¬мах), один не «прячется» за другой, оба даны нам здесь, в этом месте (а не так, что один находится здесь, а другой где-то там). Как это ни парадоксально, но миф ничего не скрывает; его функция заключается в дефор¬мировании, но не в утаивании. Концепт вовсе не пате¬нтен по отношению к форме; нет ни малейшей необходимо-
5 Ср. latin/latinite=basque/x x=basquite 'латинский/латинскость=баскский/х х=баскскость'
[86]
сти прибегать к подсознательному, чтобы дать толкование мифа. Очевидно, мы имеем здесь два различных типа манифестации: форма дана нам прямо и непосредственно, кроме того, она имеет некоторую протяженность. Еще и еще раз надо подчеркнуть, что это полностью обусловлено языковой природой мифологического означающего: поско¬льку означающее уже обладает определенным смыслом, то оно может манифестироваться только с помощью како¬го-то материального носителя (в то время как в языке означающее сохраняет свою психическую природу). Если миф выступает в устной форме, протяженность означаю¬щего линейна (потому что я зовусь львом); если миф представляет собой зрительный образ, его протяженность многомерна (в центре изображения мы видим мундир африканского солдата, выше — черноту его лица, сло¬ва—руку, поднятую в приветствии и т. д.). Таким образом, элементы формы занимают по отношению друг к другу определенное место, они находятся в отношении смежности; способ манифестации формы в данном слу¬чае пространственный. Напротив, концепт дается как некая целостность, он представляет собой нечто вроде туманности, более или менее расплывчатого сгустка представлений. Элементы концепта связаны ассоциатив¬ными отношениями; он опирается не на протяженность, а на глубину (хотя, возможно, эта метафора слишком пространственна); способ его манифестации мнемони¬ческий.
Отношение между концептом и смыслом в мифе есть по существу отношение деформации. Здесь мы наблю¬даем определенную формальную аналогию со сложной семиологической системой иного рода, а именно системой психоанализа. Подобно тому, как у Фрейда латентный смысл поведения деформирует его явный смысл, так и в мифе концепт деформирует смысл. Конечно, эта дефор¬мация становится возможной только потому, что сама форма мифа образована языковым смыслом. В простой системе, подобной языку, означаемое ничего не может Деформировать, поскольку произвольное, полое означаю¬щее не оказывает ему никакого сопротивления. Но в мифе дело обстоит по-иному, в нем означающее имеет как бы две стороны: одна сторона содержательна — это смысл (история со львом, африканским солдатом),
[87]
другая сторона лишена содержания — это форма (по¬скольку я зовусь львом; африканец-солдат-французской-армии-отдающий-честь-французскому-флагу). Оче¬видно, концепт деформирует содержательную сторону, то есть смысл: лев и африканский солдат лишаются своей истории и превращаются в пустые фигуры. Пример на правило латинской грамматики деформирует акт назы¬вания льва во всей его конкретной случайности: также и концепт «французская империя» вносит разлад в сис¬тему первичного языка, нарушает повествование о фак¬тах, где идет речь о приветствии африканца, одетого в солдатскую форму. Однако подобная деформация не ведет к полному исчезновению смысла; и лев, и африка¬нец присутствуют в мифе, поскольку концепт нуждается в них; их как бы урезают наполовину, отнимая память, но не существование; они упорствуют в своем молчании и в то же время словоохотливы, их язык целиком посту¬пает в услужение концепту. Концепт именно деформи¬рует смысл, но не упраздняет его; это противоречие можно выразить так: концепт отчуждает смысл.
Никогда не надо забывать о том, что миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует от¬правную точку мифа. Сохраняя пространственную мета¬фору, приблизительность которой я уже подчеркивал, можно сказать, что значение мифа представляет собой некий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности. Это чередование подхватывается концептом, который использует двойственность означающего, одновременно рассудочного и образного, произвольного и естественного.
Я не хочу заранее оценивать моральные последствия такого механизма, но думаю, что не выйду за пределы объективного анализа, если замечу, что вездесущность означающего в мифе очень точно воспроизводит физи¬ческую структуру алиби (известно, что это пространс¬твенный термин): понятие алиби также предполагает наличие заполненного и пустого места, которые связаны отношением отрицательной идентичности («я не нахо¬жусь там, где вы думаете, что я нахожусь»; «я нахожусь там, где вы думаете, что меня нет»). Но обычное алиби
[88]
(например, в уголовном деле) имеет свой конец;
в определенный момент реальность прекращает враще¬ние турникета. Миф же представляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зрения истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие двух сторон у означающего всегда позволяет ему нахо¬диться в другом месте, смысл всегда здесь, чтобы мани¬фестировать форму; форма всегда здесь, чтобы засло¬нить смысл. Получается так, что между смыслом и формой никогда не возникает противоречия, конфликта; они никогда не сталкиваются друг с другом, потому что никогда не оказываются в одной и той же точке. Для сравнения можно привести следующую ситуацию: когда я еду в автомобиле и смотрю в окно, то по своему желанию я могу сосредоточить внимание или на пейзаже или на стекле; я смотрю на стекло — и тогда пейзаж отодвигается на второй план, или, наоборот, стекло ста¬новится для меня прозрачным и я воспринимаю глубину пейзажа. Результат подобного чередования неизменен: я воспринимаю присутствие стекла и в то же время оно для меня лишено всякого интереса; пейзаж пред¬ставляется мне ирреальным и в то же время явлен мне во всей своей полноте. То же самое можно сказать и об означающем в мифе: его форма пуста, но она есть, его смысл отсутствует, но в то же время он заполняет собой форму. Это противоречие можно заметить только в том случае, если умышленно прекратить такое чередование формы и смысла и сосредоточиться на каждом из них как на объекте, отличающемся от другого, если приме¬нить к мифу статическую процедуру расшифровки, одним словом, если нарушить его собственную динамику и рассматривать его с позиции не читателя, а мифолога.
Именно двойственность означающего определяет особенности значения в мифе. Мы уже знаем, что миф — это сообщение, определяемое в большей мере своей интенцией (я есмь пример на грамматическое правило), чем своим буквальным смыслом (я зовусь львом), и тем не менее буквальный смысл, так сказать, обездвиживает, стерилизует, представляет как вневременную, за¬слоняет эту интенцию. (Причем здесь Французская импе¬рия? Ведь речь идет о конкретном факте: вот бравый сoлдaт-aфpuкaнeц берет под козырек точно так же, как
[89]
это делают наши парни). Эта фундаментальная неодно-значность мифического сообщения имеет двоякое следствие для его значения; оно одновременно является уведомлением и констатацией факта.
Миф носит императивный, побудительный характер: отталкиваясь от конкретного понятия, возникая в со¬вершенно определенных обстоятельствах (урок латыни, Французская империя в опасности), он обращается непосредственно ко мне, стремится добраться до меня, я испытываю на себе силу его интенции, он навязывает мне свою агрессивную двусмысленность. Например, путешествуя по Стране басков в Испании6, я, конечно, могу заметить архитектурное единство зданий, наличие общего стиля, что заставляет меня признать существо¬вание особого типа баскского дома как определенного этнического продукта. Тем не менее я не могу сказать, что этот единый стиль как-то затрагивает меня, или, так сказать, пытается захватить меня; я прекрасно осознаю, что он существовал здесь до меня и без меня; это слож¬ный продукт, обусловленный длительным историческим развитием: он не обращается непосредственно ко мне, не побуждает дать ему название, если только я не собираюсь представить его как один из типов сельского жилища в ряду других. Но если я совершаю прогулку в предместьях Парижа и замечаю в конце какой-нибудь улицы Гамбетта или улицы Жана-Жореса симпатичный беленький домик, крытый красной черепицей, с деревян¬ными конструкциями, окрашенными в коричневый цвет, с асимметричной крышей и фахверковым фасадом, то начинает казаться, что мне лично приказывают назы¬вать это строение баскским домом, более того, усматри¬вать в нем сущность «баскскости». В этом случае концепт «баскскость» предстает передо мной как нечто совершен¬но целенаправленное: он преследует меня, чтобы заста¬вить распознать совокупность мотивирующих его интен¬ций, концепт выступает передо мной в качестве признака некоей индивидуальной истории, как доверительное сообщение и как приглашение к соучастию; это настоя-
6 Я подчеркиваю: в Испании, потому что во Франции повышение жизненного уровня мелкой буржуазии повлекло за собой расцвет целой «мифологической» архитектуры, представленной загородными построй¬ками в баскском стиле.
[90]
щий призыв, с которым обращаются ко мне владельцы дома. И чтобы этот призыв казался более повелитель¬ным, они пошли на всевозможные ограничения; все, что было оправданно в баскском доме с хозяйственной точки зрения: крытая рига, наружная лестница, голубятня и т. д., все это было отброшено и остался лишь краткий, однозначный сигнал. Обращение к конкретной личности здесь настолько очевидно, что кажется, будто этот дом только что выстроили именно для меня, он возникает передо мной словно по волшебству, и нельзя обнару-жить никаких следов тех событий, которые привели к его возникновению.
Такое слово-призыв есть в то же время застывшее сло¬во; как только оно достигает меня, оно прерывается, обращается само на себя и достигает статуса всеоб¬щности; оно застывает, становится чистым и безобидным. Направленность концепта вдруг оттесняется буквальным смыслом. Происходит нечто вроде задержания в физи¬ческом и одновременно в юридическом смысле этого термина: концепт «французская империя» низводит афри¬канского солдата, отдающего честь, до инструменталь¬ной роли простого означающего. Африканский солдат обращается ко мне от имени французской империи, но в то же время его приветствие застывает, твердеет, пре¬вращается во вневременную мотивировку, которая дол¬жна обосновать факт существования Французской им¬перии. На поверхности мифического высказывания не происходит более никаких движений; используемое значение прячется за фактом, придавая ему вид офици¬ального уведомления; однако при этом факт парализует интенцию, обездвиживает ее; чтобы сделать ее безобид¬ной, он ее замораживает. Ведь миф есть похищенное и возвращенное слово. Только возвращаемое слово ока¬зывается не тем, которое было похищено; при возвраще¬нии его не помещают точно на прежнее место. Эта мел¬кая кража, момент надувательства и составляют за¬стывшую сторону мифического слова.
Остается рассмотреть последний элемент значения: его мотивированность. Известно, что языковой знак произволен; ничто не заставляет акустический образ дерево; соотноситься «естественным образом» с концеп¬том «дерево»; в этом случае знак не мотивирован. Од-
[91]
нако произвольность имеет свои пределы, которые зави¬сят от ассоциативных связей слова; в языке часть знака может создаваться по аналогии с другими знаками (например, говорят не amable, a aimable 'любезный' по аналогии с aime 'любит'). Значение же мифа никогда не является совершенно произвольным, оно всегда частич¬но мотивировано и в какой-то своей части неизбежно строится по аналогии. Чтобы пример на правило латин¬ской грамматики пришел в соприкосновение с фактом именования животного львом, необходима аналогия: согласование предикатива с подлежащим. Чтобы кон¬цепт «французская империя» мог использовать в своих целях образ африканского солдата, необходимо наличие идентичности между его приветствием и приветствием французского солдата. Мотивированность является не¬обходимым условием двойственности мифа; в мифе об¬ыгрывается аналогия между смыслом и формой; нет мифа без мотивированной формы 7. Чтобы уяснить себе всю силу мотивированности мифа, достаточно немного поразмыслить над следующим предельным случаем. Представьте, что передо мной имеется некая совокуп-ность предметов, настолько разнородных, что я не могу обнаружить в ней никакого смысла; кажется, что при отсутствии формы, наделенной заранее смыслом, невоз¬можно обнаружить никаких отношений аналогии и что возникновение мифа в этом случае невозможно. Однако форма позволяет все-таки вычитать здесь сам беспоря¬док; она может наделить значением сам абсурд, сделать из него миф. Это происходит, например, когда сюрре¬алистические произведения мифологизируются с позиций здравого смысла; даже отсутствие мотивированности не
7 С этической точки зрения неудобной оказывается как раз мотивированность формы мифа. Ибо если можно говорить о «здоровье» языка, то оно основывается на произвольности знака. Миф вызывает отвраще¬ние использованием мнимой природы, роскошью значащих форм, по¬добных предметам, в которых полезность приукрашена видимостью естественности. Желание сделать всю природу гарантом мифа вызывает своего рода чувство тошноты; миф оказывается слишком уж богатым, в нем слишком много мотиваций. Эта тошнота подобна тому чувству, которое испытываешь перед произведениями искусства, не желающими делать выбор между физисом и антифизисом ; первое они используют как идеал, а второе — в целях экономии средств. С этической точки зрения здесь есть некоторая низость, подобная ставке на двух лошадей.
[92]
препятствует возникновению мифа, ибо само это отсут¬ствие может быть достаточно объективировано, чтобы его можно было расшифровать; так что в конце концов отсутствие мотивированности становится вторичной мотивированностью, и миф может быть воссоздан.
Мотивированность неизбежна, хотя и носит фраг¬ментарный характер. Прежде всего она не может быть «естественной»; ведь форма черпает свои аналогии из истории. Но аналогия между смыслом и концептом всег¬да лишь частичная; форма отбрасывает множество ана¬логий и сохраняет только некоторые из них; в баскском доме сохраняются наклон крыши, выступы балок, но исчезают наружная лестница, крытая рига, налет ста-рины и т. д. Можно утверждать даже большее: целостный образ исключает возникновение мифа или по крайней мере вынуждает мифологизировать только саму его целостность; подобное происходит в плохой живописи, построенной целиком на мифе «заполненности» и «за¬конченности» (этот миф противоположен, но симметри¬чен мифу абсурда: во втором случае форма мифологи¬зирует «отсутствие», в первом—чрезмерную полноту). Но в общем случае миф предпочитает пользоваться бедными, неполными образами, когда смысл оказыва¬ется уже довольно тощим, готовым для наделения его значением: карикатуры, стилизации, символы и т. п. Наконец, необходимо отметить, что всякая мотивация выбирается из ряда других возможных. Так, концепт «французская империя» можно передать с помощью многих означающих, а не только через образ африкан¬ского солдата, отдающего честь. Например, французский генерал вручает награду сенегальцу, потерявшему в боях руку; сестра милосердия протягивает целебный настой лежащему в постели раненому арабу; белый учитель проводит урок с прилежными негритятами; каждый день пресса демонстрирует нам, что запас оз¬начающих для создания мифов неисчерпаем.
Между прочим, следующее сравнение позволит хо¬рошо представить себе сущность мифа: произвольность значения мифа не большая и не меньшая, чем произ¬вольность идеограммы. Миф есть идеографическая сис¬тема в чистом виде, в ней формы еще мотивированы тем концептом, которое они репрезентируют, однако они
[93]
далеко не исчерпывают всех возможностей репрезента¬ции. И подобно тому, как идеограмма в процессе своего развития отошла от концепта и стала ассоциироваться со звуком, становясь все более немотивированной, так и старение мифа можно определить по произвольности его значения, когда, например, весь Мольер оказывается представленным воротничком медика.
Чтение и расшифровка мифа.
Каким образом вос¬принимается миф? Здесь надо снова обратиться к двой¬ственности его означающего, которое одновременно яв¬ляется и смыслом и формой. В зависимости от того, сосредотачивается ли наше внимание на смысле или форме или на том и-другом сразу, мы будем иметь три различных типа прочтения мифа 8.
1. Если мы сосредоточимся на полом означающем, то концепт однозначным образом заполнит форму мифа. В этом случае мы получим простую систему, в которой значение вновь станет буквальным: африканский сол¬дат, отдающий честь, является примером французской империи, ее символом. Этот тип восприятия характерен для создателей мифов, например, для редактора журна¬ла, который берет какой-нибудь концепт и подыскивает ему форму 9.
2. Если воспринимать означающее мифа как уже заполненное содержанием и четко различать в нем смысл и форму, а следовательно, учитывать деформи¬рующее влияние формы на смысл, то значение окажется разрушенным, и миф будет восприниматься как обман:
африканский солдат, отдающий честь, превращается в алиби для концепта «французская империя». Этот тип восприятия характерен для мифолога; расшифровывая миф, он выявляет происходящую в нем деформацию смысла.
8 Свобода выбора точки зрения представляет собой проблему, которая не относится к семиологии; выбор зависит от конкретной ситуации, в которой находится субъект.
9 Мы воспринимаем называние животного львом как простой пример из латинской грамматики, потому что, будучи взрослыми людь¬ми, находимся в позиции создателей этого примера. Позже я вернусь к роли контекста в этой мифологической схеме.
[94]
3. Наконец, если воспринимать означающее мифа как неразрывное единство смысла и формы, то значение становится для нас двойственным; в этом случае мы испытываем воздействие механики мифа, его собствен¬ной динамики и становимся его читателями: образ аф¬риканского солдата уже не является ни примером, ни символом, еще менее его можно рассматривать как али¬би; он является непосредственной репрезентацией фран¬цузской империи.
Два первых типа восприятия статичны и аналитичны; они разрушают миф, выставляя напоказ его интенцию или разоблачая ее; первый подход циничен, второй слу¬жит целям демистификации. Третий тип восприятия ди¬намичен, он представляет собой потребление мифа в соответствии с теми целями, ради которых он был соз¬дан; читатель переживает миф как историю одновремен¬но правдивую и ирреальную.
Если мы хотим ввести мифическое построение в рамки общей истории, объяснить, каким образом оно отвечает интересам того или иного общества, словом, перейти от семиологии к идеологии, тогда, очевидно, необходимо обратиться к третьему типу восприятия; ос¬новную функцию мифов можно выявить, обращаясь именно к их потребителю. Как он потребляет миф сегод¬ня? Если он воспринимает его с наивной непосредствен-ностью, какой толк от этого мифа? Если же он прочиты¬вает миф аналитически, подобно мифологу, то какая польза от алиби, содержащегося в нем? Если потреби¬тель мифа не может разглядеть в образе африканского солдата концепт «французская империя», значит наде¬ление образа этим значением оказалось бесполезным; если же он непосредственно усматриваег этот концепт, то миф оказывается всего лишь открытым политическим заявлением. Одним словом, интенция мифа оказывается или слишком затемненной, чтобы оказать эффективное воздействие, или слишком явной, чтобы ей поверили. Где же двойственность значения в том и другом случае?
Однако это мнимая альтернатива. Миф ничего не скрывает и ничего не афиширует, он только деформиру¬ет; миф не есть ни ложь, ни искреннее признание, он есть искажение. Сталкиваясь с альтернативой, о которой я только что говорил, миф находит третий выход. По-
[95]
скольку первые два типа восприятия угрожают мифу полным разрушением, то он вынужден идти на какой-то компромисс, миф и является примером такого ком¬промисса; ставя перед собой цель «протащить» интенциональный концепт, миф не может положиться на язык, поскольку тот либо предательским образом уничтожает концепт, когда пытается его скрыть, либо срывает с концепта маску, когда его называет. Создание вторичной семиологической системы позволяет мифу избежать этой дилеммы; оказавшись перед необходимостью сорвать покров с концепта или ликвидировать его, миф вместо этого натурализует его.
Теперь мы добрались до самой сути мифа, которая заключается в том, что он превращает историю в при¬роду. Становится понятным, почему в глазах потреби¬теля мифов интенция, навязывание концепта могут быть совершенно явными и в то же время не казаться своеко¬рыстными. Причина, которая побуждает порождать мифическое сообщение, полностью эксплицитна, но она тотчас застывает как нечто «естественное» и восприни¬мается тогда не как внутреннее побуждение, а как объ¬ективное основание. Если я прочитываю образ африкан¬ского солдата, отдающего честь, как простой символ французской империи, мне необходимо отвлечься от самой реальности образа, ибо, будучи низведен до роли простого орудия, он оказывается дискредитированным в моих глазах. Напротив, если я расшифровываю при¬ветствие африканского солдата как алиби колониализма, я тем более разрушаю миф, так как мне совершенно ясна его побудительная причина. Однако для потреби¬теля мифа результат будет совершенно иным: все про-исходит так, словно образ естественным путем продуци¬рует концепт, словно означающее является основанием означаемого; миф возникает в тот самый момент, когда Французская империя начинает восприниматься как естественное явление, миф представляет собой такое слово, в оправдание которого приведены слишком силь¬ные доводы.
Вот еще один пример, который позволяет ясно пред¬ставить себе, как потребителю мифа удается рационали¬зировать означаемое мифа с помощью означающего. Июль, я читаю «Франс-Суар» и мне бросается в глаза
[96]
набранный жирным шрифтом заголовок: PRIX: PREMI¬ER FLECHISSEMENT. LEGUMES: LA BAISSE EST AMORCEE 'ПОНИЖЕНИЕ ЦЕН: ПЕРВЫЕ ПРИЗ¬НАКИ. ОВОЩИ: НАМЕТИЛОСЬ ПОНИЖЕНИЕ'
Быстро набросаем семиологическую схему. Пример пред-ставляет собой речевое высказывание; первичная систе¬ма является чисто языковой. Означающее вторичной системы состоит из определенного числа лексических единиц (слова: premier 'первое', атоrceе 'наметилось', la — определенный артикль при слове la baisse 'пониже¬ние'), или типографских приемов: крупные буквы заго¬ловка, под которым читателю обычно сообщаются важ¬нейшие новости. Означаемое, или концепт, придется назвать неизбежным, хотя и варварским неологизмом — правительственность, ибо Правительство представляется в большой прессе как Квинтэссенция эффективности. Отсюда со всей ясностью вытекает значение мифа: цены на фрукты и овощи понижаются, потому что так поста¬новило правительство. Но в данном, в общем-то нети-пичном, случае сама газета, чтобы обезопасить себя или сохранить приличия, двумя строками ниже разру¬шила миф, который только что породила; она добавляет (правда, более мелким шрифтом): «Понижению цен способствует сезонное насыщение рынка». Этот пример поучителен в двух отношениях. Во-первых, он с полной очевидностью показывает, что миф основан на внуше¬нии, он должен производить непосредственный эффект, неважно, что потом миф будет разрушен, ибо предпола-гается, что его воздействие окажется сильнее рациональ¬ных объяснений, которые могут опровергнуть его позже. Это означает, что прочтение мифа совершается мгновен¬но. Вот я ненароком заглядываю в газету «Франс-Суар», которую читает мой сосед; при этом я улавливаю один только смысл, но с его помощью я вычитываю истинное значение: я обнаруживаю наличие действий правитель¬ства в понижении цен на фрукты и овощи. И этого достаточно. Более внимательное чтение мифа никоим образом не увеличит и не ослабит силу его воздействия; миф нельзя ни усовершенствовать, ни оспорить; ни вре¬мя, ни наши знания не способны что-либо прибавить или убавить. Натурализация концепта, которую я только что определил как основную функцию мифа, в данном
[97]
примере представлена в образцовом виде. В первичной системе (сугубо языковой) причинность имеет в бук¬вальном смысле слова естественный характер; цены на овощи и фрукты падают, потому что наступил сезон. Во вторичной системе (мифологической) причинность искусственна, фальшива, но каким-то образом ей удает¬ся проскользнуть в торговые ряды Природы. В резуль¬тате миф воспринимается как некое безобидное сообще¬ние и не потому, что его интенции скрыты (в таком слу¬чае они утратили бы свою эффективность), а потому, что они натурализованы.
Потреблять миф как безобидное сообщение читателю помогает тот факт, что он воспринимает его не как семиологическую, а как индуктивную систему; там, где имеется всего лишь отношение эквивалентности, он ус¬матривает нечто вроде каузальности: означающее и оз¬начаемое представляются ему связанными естественным образом. Это смешение можно описать иначе: всякая семиологическая система есть система значимостей, но потребитель мифа принимает значение за систему фак¬тов: миф воспринимается как система фактов, будучи на самом деле семиологической системой.
Миф как похищенный язык.
В чем суть мифа? В том, что он преобразует смысл в форму, иными словами, похищает язык. Образ африканского солдата, бело-ко¬ричневый баскский домик, сезонное понижение цен на фрукты и овощи похищаются мифом не для того, чтобы использовать их в качестве примеров или символов, а для того, чтобы с их помощью натурализовать Фран¬цузскую империю, пристрастие ко всему баскскому, Правительство. Всякий ли первичный язык неизбежно становится добычей мифа? Неужели нет такого смысла, который смог бы избежать агрессии со стороны формы? В действительности все, что угодно, может подвергнуться мифологизации, вторичная мифологическая система может строиться на основе какого угодно смысла и да-же, как мы уже убедились, на основе отсутствия всякого смысла. Но разные языки по-разному сопротивляются этому.
Обычный язык оказывает слабое сопротивление и
[98]
похищается мифом чаще всего. В нем самом уже содер¬жатся некоторые предпосылки для мифологизации, зачатки знакового механизма, предназначенного для манифестации интенций говорящего. Это то, что можно было бы назвать экспрессивностью языка; так, повели¬тельное или сослагательное наклонение представляют собой форму особого означаемого, отличающегося от смысла; означаемым здесь является мое желание или просьба. По этой причине некоторые лингвисты опреде¬ляют индикатив как нулевое состояние, или нулевую степень по отношению к повелительному или сослагатель¬ному наклонению. Однако в полностью сформировавшем¬ся мифе смысл никогда не находится в нулевой степени, и именно поэтому концепт имеет возможность деформиро¬вать его, то есть натурализовать. Следует еще раз напомнить о том, что отсутствие смысла никоим образом не есть его нулевая степень, поэтому миф вполне может воспользоваться отсутствием смысла и придать ему зна¬чение абсурда, сюрреалистичности и т. д. И только действительно нулевая степень могла бы оказать настоя¬щее сопротивление мифу.
Обычный язык легко может стать добычей мифа и по другой причине. Дело в том, что языковой смысл редко бывает с самого начала полным, не поддающимся деформации. Это объясняется абстрактностью языкового концепта; так, концепт дерево довольно расплывчат, он может входить во множество различных контекстов. Разумеется, в языке есть целый набор средств конкре¬тизации (это дерево; дерево, которое и т. д.). Но тем не менее вокруг конечного смысла всегда остается некий ореол других виртуальных смыслов; смысл почти всегда поддается той или иной интерпретации. Можно сказать, что язык предлагает мифу ажурный смысл. Миф спосо¬бен легко в него проникнуть и разрастись там; происхо¬дит присвоение смысла посредством колонизации. (На¬пример, мы читаем: la baisse est amorcee 'понижение Цен уже наметилось'. Но о каком понижении идет речь? О сезонном или санкционированном правительством? Значение мифа паразитирует на наличии артикля, пусть даже определенного, перед существительным.)
Если смысл оказывается слишком плотным и миф не может в него проникнуть, тогда он обходит его с тыла и
[99]
присваивает целиком. Такое может случиться с матема-тическим языком. Сам по себе этот язык не поддается деформации, потому что он принял все возможные меры предосторожности против какой-либо интерпретации, и никакое паразитарное значение не способно в него внед¬риться. Именно поэтому миф присваивает его целиком; он может взять какую-нибудь математическую формулу (Е=mc2) и превратить ее неизменный смысл в чистое означающее концепта математичности. В этом случае миф похищает то, что оказывает ему сопротивление и стремится сохранить свою чистоту. Он способен до¬браться до всего, извратить все, даже само стремление избежать мифологизации. Таким образом, получается, что чем большее сопротивление язык-объект оказывает в начале, тем более податливым оказывается он в конце. Кто сопротивляется всеми средствами, тот и уступает полностью: с одной стороны Эйнштейн, с другой — «Па¬ри-Матч». Этот конфликт можно передать с помощью временного образа: математический язык есть язык, застывший в своей завершенности, и это совершенство достигнуто ценой его добровольной смерти; миф же — это язык, не желающий умирать; из смыслов, которыми он питается, он извлекает ложное, деградированное бытие, он искусственно отсрочивает смерть смыслов и распола¬гается в них со всеми удобствами, превращая их в говорящие трупы.
Можно привести еще один пример языка, который изо всех сил сопротивляется мифологизации: это поэти¬ческий язык. Современная поэзия10 представляет собой регрессивную семиологическую систему. Если миф стре¬мится к созданию ультра-значений, к расширению пер-
10 Напротив, классическая поэзия — в высшей степени мифологи¬ческая система, поскольку в ней на смысл налагается дополнительное означаемое — правильность. Так, александрийский стих представляет собой одновременно и смысл дискурса и означающее некоей новой целостности — поэтического значения. Успех произведения, если он до-стигается, зависит от степени зримого слияния двух систем. Понятно, что никоим образом нельзя говорить о гармонии между содержанием и формой, а только об элегантном взаимопроникновении двух форм. Под элегантностью я понимаю возможно большую экономию средств. Вековым заблуждением литературной критики является смешение смысла и содержания. Язык есть всегда система форм, и смысл есть разновидность формы.
[100]
вичной системы, то поэзия, наоборот, пытается отыскать инфра-значения в досемиологическом состоянии языка, то есть она стремится трансформировать знак обратно в смысл. В конечном счете, идеал поэзии — докопаться не до смысла слов, а до смысла самих вещей11. Вот почему поэзия нарушает спокойствие языка, то есть делает концепт как можно более абстрактным, а знак как можно более произвольным и ослабляет до пределов возможного связь означающего с означаемым. «Зыбкая» структура концепта используется в максимальной степе¬ни; в противоположность прозе поэтический знак пы¬тается выявить весь потенциал означаемого в надежде добраться наконец до того, что можно назвать трансцедентальным свойством вещи, ее естественным (а не че-ловеческим) смыслом. Отсюда эссенциалистские амби¬ции поэзии, ее убежденность в том, что только она мо¬жет уловить смысл вещи самой по себе, причем именно в той мере, в какой она, поэзия, претендует на то, чтобы быть антиязыком. В общем можно сказать, что из всех пользующихся языком поэты менее всего формалисты, ибо только они полагают, что смысл слов — всего лишь форма, которая ни в коей мере не может удовлетворить их как реалистов, занимающихся самими вещами. По этой причине современная поэзия всегда выступает в роли убийцы языка, представляет собой некий простран-ственный, конкретно-чувственный аналог молчания. По¬эзия противоположна мифу; миф — это семиологическая система, претендующая на то, чтобы превратиться в систему фактов; поэзия — это семиологическая система, стремящаяся редуцироваться до системы сущностей.
Однако и в данном случае, как и в случае с матема¬тическим языком, сила сопротивления поэзии делает ее идеальной добычей для мифа; видимый беспорядок зна¬ков — поэтический лик ее сущности — присваивается мифом и трансформируется в пустое означающее, пред¬назначенное для означивания концепта «поэзия». Этим объясняется непредсказуемый характер современной поэзии: отчаянно сопротивляясь мифу, она все же сдает-
11 Здесь мы имеем дело со смыслом в понимании Сартра, смыслом как естественным свойством вещей, существующим помимо какой бы то ни было семиологической системы (Saint Genet, p. 283).
[101]
ся ему, связанная по рукам и ногам. Напротив, правиль¬ность классической поэзии была результатом сознатель¬ной мифологизации, и явная произвольность мифа в данном случае представлялась как своего рода совер¬шенство, поскольку равновесие семиологической системы зависит от произвольности ее знаков.
Впрочем, добровольное подчинение мифу определяет всю нашу традиционную Литературу. Согласно приня¬тым нормам эта Литература является типичной мифоло¬гической системой: в ней есть смысл — смысл дискурса, есть означающее — сам этот дискурс, но уже как форма или письмо, есть означаемое — концепт «литература» и есть, наконец, значение—литературный дискурс. Я за¬тронул эту проблему в работе «Нулевая степень письма», которая в целом представляет собой исследование по мифологии языка литературы. В ней я определил письмо как означающее литературного мифа, то есть как форму, уже наполненную смыслом, которую концепт «Литера¬тура» наделяет вдобавок новым значением12. Я выска¬зал мысль, что история, постоянно меняющая сознание писателя, привела примерно в середине прошлого столе¬тия к моральному кризису языка литературы; обнару¬жилось, что письмо выступает в роли означающего, а Литература — в роли значения. Отвергнув ложную естественность традиционного языка литературы, писа-тели стали проявлять тяготение к некоему антиприрод¬ному языку. Ниспровержение письма явилось тем ради¬кальным актом, с помощью которого ряд писателей попытался отринуть литературу как мифологическую систему. Каждый из таких бунтов был убийствен для Литературы как значения; каждый требовал сведения
12 Стиль, по крайней мере в моем понимании, не есть форма, он не имеет отношения к семиологическому анализу Литературы. И действи¬тельно, стиль есть субстанция, которая находится под постоянной угрозой формализации. Во-первых, он вполне может деградировать и превратиться в письмо; существует «письмо на манер Мальро», даже в произведениях самого Мальро. Во-вторых, стиль вполне может стать особым языком, таким, которым писатель пользуется для себя и только для себя', тогда стиль становится чем-то вроде соллипсистского мифа, языком, на котором писатель обращается к самому себе; понятно, что при такой степени окостенения стиль требует настоящей дешифровки, глубокого критического анализа. Образцом подобного, совершенно необходимого анализа стилей являются работы Ж. П. Ришара.
[102]
литературного дискурса к обычной семиологической системе, а в случае с поэзией—даже ,к досемиологической системе. Это была задача огромного масштаба, которая требовала радикальных средств; известно, что кое-кто зашел так далеко, что потребовал просто-на¬просто уничтожить дискурс , превратить его в молчание, реальное или транспонированное, которое представля¬лось единственно действенным оружием против главного преимущества мифа: его способности постоянно воз¬рождаться.
Чрезвычайно трудно одолеть миф изнутри, ибо само стремление к избавлению от него немедленно становится в свою очередь его жертвой; в конечном счете миф всегда означает не что иное, как сопротивление, которое ему оказывается. По правде говоря, лучшим оружием против мифа, возможно, является мифологизация его са¬мого, создание искусственного мифа, и этот вторичный миф будет представлять собой самую настоящую мифоло¬гию. Если миф похищает язык, почему бы не похитить миф? Для этого достаточно сделать его отправной точ-кой третьей семиологической системы, превратить его значение в первый элемент вторичного мифа. Литера¬тура дает нам несколько замечательных примеров та¬ких искусственных мифов. Я остановлюсь здесь на ро¬мане Флобера «Бувар и Пекюше». Его можно назвать экспериментальным мифом, мифом второй степени. Бу¬вар и его друг Пекюше воплощают определенный тип буржуа (который, впрочем, находится в состоянии конф¬ликта с другими слоями буржуазии). Их дискурс уже представляет собой мифическое слово; оно, конечно, имеет свой собственный смысл, но этот смысл есть не что иное, как полая форма для означаемого-концепта, в данном случае—своего рода технологической нена¬сытности. Соединение смысла с концептом образует значение этой первой мифологической системы, риторику Бувара и Пекюше. Тут-то и вмешивается Флобер (такое расчленение я делаю лишь в целях анализа): на первую мифологическую систему, являющуюся второй семиологической системой, он накладывает третью семиологическую цепь, первым звеном которой выступает значение, то есть результирующий элемент первого мифа. Риторика Бувара и Пекюше становится формой новой сис-
[103]
темы; концепт в этой системе создает сам Флобер на основе своего отношения к мифу, порожденному Буваром и Пекюше; в этот концепт входит их неутоленная жажда деятельности, их лихорадочные метания от од¬ного занятия к другому, короче, то, что я решился бы назвать (хотя и вижу, как грозовые тучи сгущаются у меня над головой) бувар-и-пекюшейщиной. Что каса¬ется результирующего значения, то для нас это и есть сам роман «Бувар и Пекюше». Сила второго мифа заклю¬чается в том, что он преподносит первый как наивность, являющуюся объектом созерцания. Флобер предпринял настоящую археологическую реставрацию мифического слова, и его можно назвать Виолле-ле-Дюком буржуаз¬ной идеологии определенного типа. Однако, будучи не столь наивным, как Виолле-ле-Дюк, Флобер прибег при воссоздании мифа к некоторой дополнительной орна¬ментации, которая служит целям его демистификации. Эта орнаментация (являющаяся формой второго мифа) характеризуется сослагательностью; между воссозда¬нием речи Бувара и Пекюше в сослагательном наклоне¬нии и тщетностью их усилий имеется семиологическая эквивалентность 13.
Заслуга Флобера (и всех создателей искусственных мифов, замечательные образцы которых можно найти в творчестве Сартра) заключается в том, что он дал сугубо семиологическое решение проблемы реализма в литературе. Конечно, заслуга Флобера — не полная, потому что его идеология, согласно которой буржуа есть всего лишь эстетический урод, совершенно нереалисти¬чна. Однако он по крайней мере избежал главного греха в литературе—смешения реальности идеологической и реальности семиологической. Как идеология реализм в литературе никоим образом не зависит от особенностей языка, на котором говорит писатель. Язык есть форма, он не может быть реалистическим или ирреалистическим. Он может быть только мифическим либо немифи¬ческим или же, как в романе «Бувар и Пекюше», анти¬мифическим. Однако, к сожалению, реализм и миф не
13 Мы говорим о сослагательной форме, потому что именно с по¬мощью сослагательного наклонения в латыни передавалась «косвенная речь»; это прекрасное средство демистификации.
[104]
испытывают друг к другу никакой антипатии. Известно, до какой степени мифологична наша так называемая «реалистическая» литература (включая аляповатые мифы о реализме) и как часто наша «нереалистическая» литература имеет по крайней мере то достоинство, что она минимально мифологична. Очевидно, разумнее всего подходить к реализму того или иного писателя как к сугубо идеологической проблеме. Конечно, неверно было бы утверждать, что форма не несет никакой ответствен¬ности по отношению к реальности. Но степень этой от¬ветственности можно определить только в терминах се¬миологии. Та или иная форма может быть судима (коль скоро дело доходит до суда) только в качестве значения, а не средства репрезентации. Язык писателя должен не репрезентировать реальность, а лишь означивать ее. Это обстоятельство должно было бы заставить литера¬турных критиков использовать два совершенно различ¬ных метода: реализм писателя надо рассматривать либо как идеологическую субстанцию (такова, например, марксистская тематика в творчестве Брехта), либо как семиологическую значимость (реквизит, актеры, музыка, цвет в драматургии Брехта). Идеалом было бы, очевид¬но, сочетание этих двух типов критики; однако постоян¬ной ошибкой является их смешение, хотя у идеологии свои методы, а у семиологии — свои.
Буржуазия как анонимное общество.
Миф связан с историей двояким образом: через свою лишь относи¬тельно мотивированную форму и через концепт, который историчен по самой своей природе. Диахроническое изу¬чение мифов может быть ретроспективным (в этом слу¬чае мы создаем историческую мифологию) или же мож¬но проследить развитие старых мифов до их теперешнего состояния (тогда это будет проспективная мифология). В данном очерке я ограничиваюсь синхронным описани¬ем современных мифов и делаю это по объективной причине: наше общество является привилегированной областью существования мифических значений. Теперь объясним, почему это так.
Несмотря на всякие случайные обстоятельства, ком-промиссы, уступки и политические авантюры, несмотря
[105]
на всевозможные изменения технического, экономиче¬ского и даже социального порядка, имевшие место в ис¬тории Франции, наше общество по-прежнему является буржуазным. Мне известно, что начиная с 1789 г. во Франции к власти последовательно приходили различные слои буржуазии, однако глубинные основы общества остаются неизменными, сохраняется определенный тип отношений собственности, общественного строя, идеоло¬гии. Однако при обозначении этого строя происходит любопытное явление: когда речь идет об экономике, бур¬жуазия именуется как таковая без особого труда: в этом случае капитализм не скрывает своей сущности14; когда же речь заходит о политике, существование буржуазии признается уже с трудом; так, в Палате депутатов нет «буржуазной» партии. В сфере идеологии буржуазия ис¬чезает вовсе, она вычеркивает свое имя при переходе от реальности к ее репрезентации, от экономического чело¬века к человеку размышляющему. Буржуазия довольст¬вуется миром вещей, но не хочет иметь дело с миром ценностей; ее статус подвергается подлинной операции вычеркивания имени; буржуазию можно определить поэтому как общественный класс, который не желает быть названным. Такие слова, как «буржуа», «мелкий буржуа», «капитализм»15, «пролетариат»16, постоянно страдают кровотечением, смысл постепенно вытекает из них, так что эти названия становятся совершенно бес¬смысленными.
Явление вычеркивания имени очень важно, оно за¬служивает более подробного рассмотрения. В политиче¬ском аспекте вытекание смысла из слова «буржуа» про-
14 «Капитализм обречен на то, чтобы обогащать рабочих»,— заявляет «Пари-Матч».
15 Слово «капитализм» вовсе не табуировано в экономическом смысле, оно табуировано только в идеологическом смысле и поэтому отсутствует в словаре буржуазных способов репрезентации действи¬тельности. Лишь в Египте во времена правления короля Фарука один обвиняемый был осужден буквально за «антикапиталистические происки».
16 Буржуазия никогда не употребляет слово «Пролетариат», кото¬рое считается принадлежностью левой мифологии; исключение пред¬ставляет случай, когда необходимо изобразить Пролетариев как рабочих, сбившихся с истинного пути под влиянием Коммунисти¬ческой партии.
[106]
исходит через идею нации. В свое время это была про-грессивная идея, она помогла обществу избавиться от аристократии; современная же буржуазия растворяет се¬бя в нации и при этом считает себя вправе исключить из нее тех ее членов, которых она объявляет чужеродными (коммунисты). Этот целенаправленный синкретизм поз¬воляет буржуазии заручиться поддержкой большого чис¬ла временных союзников, всех промежуточных и, сле¬довательно, «бесформенных» социальных слоев. Несмот¬ря на то, что слово нация давно уже в ходу, оно не смог¬ло деполитизироваться окончательно; его политический субстрат лежит совсем близко к поверхности и при оп¬ределенных обстоятельствах проявляется совершенно неожиданно: в Палате депутатов представлены лишь «национальные» партии, и номинативный синкретизм афиширует здесь именно то, что пытался скрыть: несо¬ответствие наименования сущности. Мы видим, таким образом, что политический словарь буржуазии посту¬лирует существование универсальных сущностей; для буржуазии политика уже есть репрезентация, фрагмент идеологии.
В политическом отношении буржуазия, независимо от притязаний ее словаря на универсальность, в конце концов наталкивается на сопротивление, ядром которого, по определению, является революционная партия. Но у такой партии в запасе может быть лишь политический багаж; ведь в буржуазном обществе нет ни особой про¬летарской культуры, ни пролетарской морали, ни искус¬ства; в идеологической сфере все те, кто не принадлежит к классу буржуазии, вынуждены брать взаймы у нее. Поэтому буржуазная идеология способна подчинить себе все, не опасаясь потерять собственное имя; если она и потеряет его, то никто не станет возвращать его ей; без всякого сопротивления она может подменять театр, искусство, человека-буржуа их вневременными анало¬гами. Одним словом, коль скоро постулируется единая и неизменная человеческая природа, это дает буржуа¬зии возможность беспрепятственно избавиться от своего имени; происходит полное отречение от имени «буржу¬азия».
Разумеется, против буржуазной идеологии время от времени вспыхивают бунты. Их обычно называют аван-
[107]
гардом. Однако такие бунты ограничены в социальном от-ношении и легко подавляются. Во-первых, потому что сопротивление исходит от небольшой части той же бур¬жуазии, от миноритарной группы художников и интел¬лектуалов; у них нет иной публики, кроме той же бур¬жуазии; которой они бросают вызов и в деньгах которой нуждаются, чтобы иметь возможность выразить себя. Во-вторых, в основе этих бунтов лежит четкое разгра¬ничение буржуазной этики и буржуазной политики; аван¬гард бросает вызов буржуазии только в области искусст¬ва и морали; как в лучшие времена романтизма, он опол-чается на лавочников, филистеров, но о политических выступлениях не может быть и речи 17. Авангард испыты¬вает отвращение к языку буржуазии, но не к ее статусу. Нельзя сказать, что он прямо одобряет этот статус, ско¬рее он заключает его в скобки: какова бы ни была сила вызова, бросаемого авангардом, в конце концов предмет его забот — затерянный, а не отчужденный человек, а за¬терянный человек — это все тот же Вечный Человек 18.
Анонимность буржуазии еще более усугубляется, когда мы переходим от собственно буржуазной культу¬ры к ее производным, вульгаризированным формам, используемым в своего рода публичной философии, ко¬торая питает обыденную мораль, церемониалы, светские ритуалы, одним словом, неписаные нормы общежития в буржуазном обществе. Невозможно свести господ¬ствующую культуру к ее творческому ядру; существует буржуазная культура, которая заключается в чистом потребительстве. Вся Франция погружена в эту аноним-ную идеологию; наша пресса, кино, театр, бульварная литература, наши церемониалы, Правосудие, дипломатия, светские разговоры, погода, уголовные дела, рассматри-
17 Примечательно, что противники буржуазии в этике (или в эсте¬тике) оказываются в большинстве случаев равнодушными к ее поли¬тическим установкам, а иногда даже связанными с ними. Напротив, политические противники буржуазии не уделяют должного внимания осуждению ее репрезентаций, часто они даже пользуются ими сами. Это различие в нападках противников выгодно буржуазии, оно позволяет ей скрывать свое имя. Буржуазию следовало бы понимать только как со-вокупность ее установок и репрезентаций.
18 Образы затерянного человека могут представать в совершенно «беспорядочном» виде (у Ионеско, например). Это никоим образом не затрагивает безопасности Сущностей.
[108]
ваемые в суде, волнующие переспективы женитьбы, кухня, о которой мы мечтаем, одежда, которую мы носим, все в нашей обыденной жизни связано с тем представле¬нием об отношениях между человеком и миром, которое буржуазия вырабатывает для себя и для нас. Эти «норма¬лизованные» формы мало привлекают внимание в силу своей распространенности, которая затушевывает их происхождение; они занимают некое промежуточное положение; не будучи ни явно политическими, ни явно идеологическими, эти формы мирно уживаются с деятель¬ностью партийных активистов и дискуссиями интеллек-туалов; не представляя почти никакого интереса ни для первых, ни для вторых, они вливаются в ту необозримую совокупность недифференцированных, незначащих фак¬тов, которую можно назвать одним словом: природа. Однако именно буржуазная этика пронизывает все французское общество; буржуазные нормы, применяемые в национальном масштабе, воспринимаются как само собой разумеющиеся законы естественного порядка; чем шире распространяет буржуазия свои репрезентации, тем более они натурализуются. Факт существования буржуазии поглощается неким аморфным миром, един¬ственным обитателем которого является Вечный Чело¬век — ни пролетарий, ни буржуа.
Итак, буржуазная идеология легче всего лишается своего имени, проникая в промежуточные слои общества. Мелкобуржуазные нормы представляют собой отбросы буржуазной культуры, это деградировавшие буржуазные истины, пущенные в коммерческий оборот, обедненные, несколько архаичные, или, если угодно, старомодные. Политический альянс крупной и мелкой буржуазии уже более века определяет судьбы Франции; если он когда-либо нарушался, то лишь на короткое время (1848, 1871, 1936 гг.). Со временем этот альянс становится все теснее, постепенно превращаясь в симбиоз, иногда клас¬совое сознание ненадолго пробуждается, но общая иде¬ология никогда не ставится под сомнение; все «нацио¬нальные» репрезентации покрыты одним и тем же «есте¬ственным» глянцем: пышный свадебный обряд, типично буржуазный ритуал (выставление напоказ и потребление богатства) никак не вяжется с экономическим статусом мелкой буржуазии, но для мелкобуржуазной четы он
[109]
становится при помощи прессы, хроники, литературы нормой, если не реальной, то по крайней мере вообра¬жаемой. Буржуазная идеология постоянно внедряется в сознание целого разряда людей, которые лишены устой¬чивого социального статуса и лишь мечтают о нем, тем самым обездвиживая и обедняя свое сознание19. Распространяя свои представления посредством целого набора коллективных образов, предназначенных для мел¬кобуржуазного пользования, буржуазия освящает мни¬мое отсутствие дифференциации общественных классов: в тот самый момент, когда машинистка, зарабатываю¬щая 25 тысяч франков в месяц, узнает себя в участнице пышной церемонии буржуазного бракосочетания, отре¬чение буржуазии от своего имени полностью достигает своей цели.
Таким образом, отречение буржуазии от своего имени не является иллюзорным, случайным, побочным, есте¬ственным или ничего не значащим фактом; оно состав¬ляет сущность буржуазной идеологии, акт, при помощи которого буржуазия трансформирует реальный мир в его образ, Историю в Природу. Этот образ интересен также и тем, что он перевернут20. Статус буржуазии совер¬шенно конкретен, историчен; тем не менее она создает образ универсального, вечного человека; буржуазия как класс добилась гоподства, основываясь на достижениях научно-технического прогресса, позволяющих непрерыв¬но преобразовывать природу; буржуазная же идеология восстанавливает природу в ее первозданности; первые буржуазные философы наделяли мир массой значений, давали любым вещам рациональное объяснение, под¬черкивая их предназначенность для человека; буржу¬азная же идеология независимо от того, является ли она сциентистской или интуитивистской, констатирует ли
19 Провоцирование коллективной мечты всегда есть не очень гуманное предприятие не только потому, что мечта превращает жизнь в судьбу, но также и потому, что мечта всегда небогата содержанием и является верным подтверждением отсутствия чего-либо в реальной жизни.
20 «Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни...». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 25).
[110]
факты или обнаруживает значимости, в любом случае отказывается от объяснений; мировой порядок может считаться самодостаточным или неизъяснимым, но ни¬когда значимым. Наконец, первоначальное представление об изменчивости мира, о его способности к совершен¬ствованию приводит к созданию перевернутого образа человечества, которое предстает неподвижным, вечно тождественным самому себе. Одним словом, в современ¬ном буржуазном обществе переход от реальности к иде¬ологии можно определить как переход от антифизиса к псевдофизису.
Миф как деполитизированное слово.
И вот мы сно¬ва возвращаемся к мифу. Семиология учит нас, что задача мифа заключается в том, чтобы придать истори¬чески обусловленным интенциям статус природных, воз¬вести исторически преходящие факты в ранг вечных. Но такой способ действий характерен именно для бур¬жуазной идеологии. Если наше общество объективно является привилегированной сферой мифических зна¬чений, то причина этого кроется в том, что миф безуслов¬но является наиболее удобным средством той идеологи-ческой инверсии, которая характерна для нашего об¬щества; на всех уровнях человеческой коммуникации с помощью мифа осуществляется превращение антифизи¬са в псевдофизис.
Внешний мир поставляет мифу некоторую историче¬скую реальность, и, хотя ее возникновение может отно¬ситься к очень давним временам, она определяется тем способом, которым была произведена и использована людьми; миф же придает этой реальности видимость естественности. Подобно тому, как буржуазная идеоло¬гия характеризуется отречением буржуазии от своего имени, так и существо мифа определяется утратой ве-щами своих исторических свойств; в мифе вещи теряют память о своем изготовлении. До мифологизации внеш¬ний мир являет собой диалектическую взаимосвязь раз¬личных видов человеческой деятельности, поступков;
после мифологической обработки он предстает в виде гармонической картины неизменных сущностей. Проде¬лывается некий фокус: реальность опрокидывают, вы-
[111]
тряхивают из нее историю и заполняют природой; в ре-зультате вещи лишаются своего человеческого смысла и начинают означать лишь то, что человек к ним не¬причастен. Функция мифа заключается в опустошении реальности, миф — это буквально непрерывное кровоте¬чение, истекание, или, если угодно, испарение смысла, одним словом, ощутимое его отсутствие.
Теперь можно дополнить семиологическое определе¬ние мифа в буржуазном обществе: миф есть деполитизированное слово. Политику надо понимать, конечно, в глубинном смысле, как совокупность человеческих связей, образующих реальную социальную структуру, способную творить мир. Особенно надо подчеркнуть ак¬тивную значимость префикса де-; с его помощью обоз¬начается некоторый операциональный акт, непрерывно актуализируется своего рода ренегатство. Так, в образе африканского солдата элиминируется, конечно, не концепт «французская империя» (напротив, именно его и должен репрезентировать образ); элиминируется исторический, преходящий характер колониализма, то есть его созданность. Миф не отрицает вещей, наоборот, его функция — говорить о них; но он очищает их, дела¬ет безобидными, находит им обоснование в вечной и не¬изменной природе, придает им ясность, характерную не для объяснения, а для констатации фактов. Если мы констатируем существование французской империи, не объясняя ее, тем самым мы недалеки от того, чтобы считать ее чем-то естественным, само собой разумеющим¬ся; и тогда мы можем чувствовать себя спокойно. При переходе от истории к природе миф действует экономно;
он уничтожает сложность человеческих поступков, при¬дает им простоту сущностей и элиминирует всякую ди¬алектику, пресекает всякие попытки проникнуть по ту сторону непосредственно наблюдаемого; он творит мир без противоречий, потому что в нем нет глубины, и рас¬полагает его перед нашим взором во всей его очевиднос¬ти, безмятежной ясности; кажется, что вещи значат что-то сами по себе 21.
21 К принципу удовольствия фрейдовского человека можно доба¬вить принцип ясности мифологического человечества. В этом заключена вся двойственность мифа: его ясность носит эйфорический характер.
[112]
Однако, если миф всегда представляет собой деполитизированное слово, значит, реальность всегда политизирована? Достаточно ли заговорить о вещи как о части природы, чтобы она мифологизировалась? На это можно ответить вслед за Марксом, что самый естественный предмет содержит в себе хотя бы слабый и нечеткий след политики, в нем присутствует более или менее ясное воспоминание о действиях человека, который произвел этот предмет или приспособил, использовал, подчинил или отбросил его22 Когда мы имеем дело с языком-объектом, на котором высказывают что-то, этот след легко обнаружить; в случае же метаязыка, на котором говорят о чем-то, это сделать гораздо труднее. Но в мифе всегда есть метаязыковое начало; деполитизация, которой он занимается, зачастую происходит на основе уже натурализованной реальности, лишенной политичес¬кого характера, с помощью некоего общего метаязыка, созданного для воспевания вещей, а не для воздействия на них. Разумеется, для того, чтобы деформировать та¬кой предмет, как дерево, мифу потребуется гораздо мень¬ше усилий, чем для деформации образа суданского солдата; в последнем случае политический заряд совер¬шенно очевиден, и необходимо большое количество мни¬мой природы, чтобы нейтрализовать его; в первом же случае политический заряд далеко не очевиден, он нейтрализован вековыми наслоениями метаязыка. Таким образом, следует различать сильные и слабые мифы;
в сильных мифах политический заряд дан непосредствен¬но и деполитизация происходит с большим трудом; в сла¬бых мифах политическое качество предмета поблекло, как старая краска, но достаточно небольших усилий, чтобы оно быстро восстановилось. Что может быть более естественным, чем море? И тем не менее, что может быть более «политическим», чем море, воспеваемое в кино¬фильме «Затерянный континент»? 23
В действительности метаязык для мифа является чем-то вроде хранилища. Отношение между мифом и людьми есть отношение не истинности, а пользы; люди
22 См. пример с вишневым деревом у Маркса (Маркс К. Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 42).
23 См. стр. 69.
[113]
занимаются деполитизацией в зависимости от своих нужд. Существуют мифические объекты, которые в те¬чение какого-то времени находятся в состоянии дремоты и представляют собой всего лишь неясные мифологичес¬кие схемы, политический заряд которых представляется почти нейтральным. Но такое состояние обусловлено осо¬бенностями ситуации, в которой они находятся, а не их структурой. Так обстоит дело с нашим примером из ла¬тинской грамматики. Заметим, что в данном случае ми¬фическое слово имеет дело с материалом, уже давно подвергшимся трансформации: фраза из Эзопа относит¬ся к литературе, она была с самого начала мифологи¬зирована (и, следовательно, сделана безобидной), пос¬кольку представляет собой литературный вымысел. Но достаточно на одно мгновение вернуть начальный эле¬мент семиологической цепи в его первоначальное сос¬тояние языка-объекта, чтобы оценить степень того опу¬стошения, которому миф подвергает реальность: пред¬ставьте себе, какие чувства испытывали бы реальные животные, если бы их преобразовали в пример из грам-матики, в предикатив! Чтобы судить о политическом за¬ряде того или иного предмета и о том опустошении, которое производит в нем миф, надо рассматривать его не с точки зрения значения мифа, а с точки зрения оз¬начающего, то есть похищенной вещи, а в пределах означающего надо встать на точку зрения языка-объек¬та, то есть смысла. Без всякого сомнения, если бы мы обратились к реальному льву, он заявил бы нам, что при¬мер из грамматики есть в высшей степени деполитизированное утверждение, но при этом он квалифицировал бы в качестве абсолютно политического законодатель¬ство, позволяющее ему присваивать добычу по праву сильного; конечно, если бы нам попался лев-буржуа, он непременно мифологизировал бы свою силу, заявив, что действует по велению долга.
Ясно, что в данном случае незначительность мифа в политическом отношении зависит от конкретной ситуа¬ции. Мы знаем, что миф — это значимость; изменяя его контекст, ту общую (и неустойчивую) систему, в пре¬делах которой он функционирует, можно очень точно регулировать его функции. В рассматриваемом случае поле действия мифа ограничено пятым классом фран-
[114]
цузского лицея. Но представьте себе, что какой-нибудь ребенок, увлекшись историей со львом, телкой и коровой, очень живо почувствует в своем воображении реаль¬ность этих животных; тогда он совсем не так равнодуш¬но, как мы, воспримет исчезновение льва и превращение его в предикатив. Этот миф представляется нам незначи¬тельным в политическом отношении только потому, что он предназначен не для нас.
Миф слева.
Если миф — это деполитизированное слово, то ему может быть противопоставлен по крайней мере один тип языка, который сохраняет свой полити¬ческий характер. Здесь необходимо снова обратиться к различению языка-объекта и метаязыка. Если я лесоруб и мне надо назвать дерево, которое я хочу срубить, то независимо от формы своего высказывания я имею дело непосредственно с этим деревом, а не высказываюсь по поводу дерева. Значит мой язык имеет в этом случае операциональный характер, он связан с предметом тран-зитивным отношением: между мной и деревом есть толь¬ко мой труд, то есть действие; это и есть политический язык; он репрезентирует природу лишь в той степени, в какой я ее преобразую; это язык, при помощи которого я воздействую на предмет; дерево для меня не образ, а смысл моего действия. Но если я не лесоруб, то не могу иметь дело непосредственно с этим деревом, я могу только высказываться о дереве, по поводу дерева; мой язык уже не является орудием воздействия на него; наоборот, воспеваемое дерево становится орудием моего языка;
теперь между мной и деревом имеется нетранзитивное отношение; дерево не является более смыслом реальности как объекта человеческого действия, а становится об¬разом, поступающим в мое распоряжение. По отношению к реальному языку лесоруба я создаю вторичный язык, то есть метаязык, с помощью которого манипулирую не вещами, а их именами, и который относится к пер¬вичному языку так, как относится имитирующий жест к реальному действию. Этот вторичный язык не совсем мифичен, но именно в нем и поселяется миф, ибо он может воздействовать только на такие предметы, которые уже были опосредованы первичным языком.
[115]
Итак, существует по крайней мере один тип немифи¬ческой речи, это речь человека-производителя. Везде, где человек говорит для того, чтобы преобразовать реаль¬ность, а не для того, чтобы законсервировать ее в виде того или иного образа, везде, где его речь связана с производством вещей, метаязык совпадает с языком-объектом, и возникновение мифа становится невозмож¬ным. Вот почему истинно революционный язык не может быть мифическим. Революцию можно определить как катартический акт, высвобождающий политический заряд, накопившийся в мире. Революция созидает мир, и ее язык, весь ее язык, функционально вовлечен в этот творческий акт. Миф и Революция исключают друг друга, потому что революционное слово полностью, то есть от начала и до конца,политично, в то время как мифическое слово в исходном пункте представляет собой политическое высказывание, а в конце—натурализо-ванное. Подобно тому, как отречение буржуазии от собственного имени в равной мере определяет и буржу¬азную идеологию и миф, так и называние вещей своими именами означает наличие революционной идеологии и отсутствие всякого мифотворчества. Буржуазия скрывает тот факт, что она буржуазия, и тем самым порождает мифы; революция же открыто заявляет о себе как о рево¬люции и тем самым делает невозможным возникновение мифов.
Меня спрашивают иногда, существуют ли «левые» мифы? Конечно, существуют, в тех случаях, когда левые силы теряют свою революционность. Левые мифы возни¬кают именно в тот момент, когда революция перестает быть революцией и становится «левизной», то есть начи¬нает маскировать себя, скрывать свое имя, вырабатывать невинный метаязык и представлять себя как «Природу». Отбрасывание революцией своего имени может быть обусловлено тактическими или иными причинами, здесь не место обсуждать этот вопрос. Во всяком случае, рано или поздно оно начинает восприниматься как образ действий, наносящий вред революции; поэтому в истории революции ее «уклоны» всегда как-то связаны с мифотворчеством.
Да, существуют левые мифы, но их признаки пол¬ностью отличаются от признаков буржуазных мифов.
[116]
Мифотворчество не является сущностным признаком левых сил. Прежде всего, мифологизации подвергаются очень немногие объекты, лишь некоторые политические понятия, исключая, разумеется, случаи, когда левые мифы прибегают к богатому арсеналу средств буржуаз¬ной мифологии. Они никогда не затрагивают обширной области обычных человеческих отношений, целый слой «незначащей» идеологии. Повседневная жизнь им не¬доступна; в буржуазном обществе нет «левых» мифов, касающихся семейной жизни, приготовления пищи, до-машнего хозяйства, театра, правосудия, морали и т. п. Далее, мифы слева носят случайный характер, они не являются составной частью стратегии подобно буржуаз¬ным мифам, они используются в тактических целях или, на худой конец,характеризуют тот или иной уклон; если такой миф возникает, то по причине удобства, а не по необходимости.
И наконец, надо подчеркнуть, что левые мифы бедны, бедны по своей природе. Они не могут размножаться, поскольку делаются по заказу с ограниченными, вре¬менными целями и создаются с большим трудом. В них нет главного — выдумки. В любом левом мифе есть какая-то натянутость, буквальность, ощущается при¬вкус лозунга; выражаясь сильнее, можно сказать, что такой миф бесплоден. Действительно, что может быть худосочнее, чем сталинский миф? В нем отсутствует ка¬кая бы то ни было изобретательность, использование его поражает своей неуклюжестью; означающее мифа (чья форма, как мы знаем, бесконечно богата в бур¬жуазной мифологии) совершенно не варьируется; все сводится к бесконечно-однообразной литании.
Это несовершенство, по моему мнению, обусловлено природой «левых сил»: несмотря на свою расплывча¬тость, термин «левые силы» всегда определяется по отно¬шению к угнетенным, будь то пролетариат или жители колоний24. Язык же угнетенных всегда беден, монотонен и связан с их непосредственной жизнедеятельностью;
мера их нужды есть мера их языка. У угнетенных есть только один язык — всегда один и тот же — язык их
24Описанные Марксом этические и политические условия жизни пролетариата характерны в наше время именно для населения колоний.
[117]
действии; метаязык для угнетенных — роскошь, он им недоступен. Речь угнетенных реальна, как речь лесоруба;
это транзитивная речь, она почти неспособна лгать; ведь ложь — это богатство, ею можно пользоваться, когда есть запас истин, форм. Такая присущая языку угнетен¬ных бедность ведет к возникновению разреженных, гощих мифов; эти мифы или недолговечны или поражают своей нескромностью: они сами выставляют напоказ свою мифичность, указывая пальцем на собственную маску; и маска эта едва ли является маской псевдофизиса, ведь псевдофизис тоже роскошь, угнетенные могут лишь взять его напрокат; они не способны очи¬щать вещи от их действительного смысла, придавать им пышность пустой формы, готовой заполниться невин¬ностью мнимой Природы. Поэтому можно сказать, что в некотором смысле левые мифы всегда искусственны, вто¬ричны; отсюда их неуклюжесть.
Миф справа.
С количественной точки зрения мифы характерны именно для правых сил, для которых мифо¬творчество является существенным признаком. Мифы справа откормлены, блестящи по форме, экспансивны, болтливы и способны порождать все новые и новые мифы. Они охватывают все сферы жизни: правосудие, мораль, эстетику, дипломатию, домашнее хозяйство, Литературу, зрелища. Их экспансия пропорциональна желанию буржуазии утаить свое имя. Буржуазия хочет оставаться буржуазией, но так, чтобы этого никто не за¬мечал; именно сокрытие буржуазией своей сущности (а всякое сокрытие бесконечно разнообразно в своих прояв-лениях) требует беспрерывного мифотворчества. Угне¬таемый человек — никто, и язык у него один, ибо он может говорить только о своем освобождении. У угне¬тателя есть все: его язык богат, многообразен, гибок, охватывает все возможные уровни коммуникации; ме¬таязык находится в его монопольном владении. Угне¬таемый человек созидает мир, поэтому его речь может быть только активной, транзитивной (то есть полити-ческой); угнетатель стремится сохранить существующий мир, его речь полнокровна, нетранзитивна, подобна пантомиме, театральна; это и есть Миф. Язык одного
[118]
стремится к переделке мира, язык другого — к его увеко-вечению.
Существуют ли какие-нибудь внутренние различия между этими полнокровными мифами Порядка (именно так именует себя буржуазия)? Есть ли, скажем, мифы крупной буржуазии и мифы мелкой буржуазии? Каких-либо фундаментальных различий найти нельзя, ибо независимо от своих потребителей все мифы постули¬руют существование неизменной Природы. Но могут быть различия в степени завершенности или распростра-ненности мифов; для вызревания тех или иных мифов более благоприятна одна социальная среда, а не другая;
мифам тоже требуется особый микроклимат.
Например, миф о Поэте-Ребенке представляет собой продвинутую стадию мифа; он только что покинул сферу творческой культуры (Кокто) и стоит на пороге культу¬ры потребительской («Экспресс»). Части буржуазии такой миф может показаться слишком надуманным, мало мифичным, чтобы претендовать на поддержку с ее сто¬роны (ведь определенная часть буржуазной критики имеет дело только с должным образом мифологизирован¬ным материалом); такой миф еще не обкатан как сле¬дует, в нем еще мало природы; чтобы сделать Поэта-Ребенка персонажем некоего космогонического мифа, следует перестать смотреть на него как на вундеркинда (Моцарт, Рембо и т. п.) и принять новые нормы— нормы психопедагогики, фрейдизма и т. д. Одним словом, это еще незрелый миф.
Итак, у каждого мифа есть своя история и своя география, причем первая является признаком второй, поскольку миф созревает по мере своего распростра¬нения. У меня не было возможности по-настоящему исследовать социальную географию мифов. Однако, если прибегнуть к лингвистической терминологии, вполне можно вычертить изоглоссы мифа, то есть линии, огра¬ничивающие социальную сферу его бытования. Посколь¬ку эта сфера изменчива, лучше говорить о волнах внедре¬ния мифа. Так, миф о Мину Друэ распространялся по крайней мере тремя волнами: 1) «Экспресс»; 2) «Пари-Матч»; «Эль»; 3) «Франс-Суар». Положение некоторых мифов неустойчиво: неясно, смогут ли они проникнуть в большую прессу, в загородные особняки рантье, в
[119]
парикмахерские салоны, в метро. Описание социальной географии мифа будет затруднительно до тех пор, пока у нас не появится социологический анализ прессы25. Тем не менее, можно сказать, что место для такой геогра¬фии уже отведено.
Хотя мы не можем в настоящее время определить диалектные формы буржуазных мифов, все же мы можем описать в общих чертах их риторические формы. Под риторикой в данном случае следует понимать совокуп¬ность застывших, упорядоченных и устойчивых фигур, которые обусловливают разнообразие означающих мифа. Эти фигуры как бы прозрачны, в том смысле, что не нарушают пластичности означающего; однако они уже в достаточной мере концептуализированы и легко приспо-сабливаются к исторической репрезентации внешнего мира (совершенно так же, как классическая риторика обеспечивает аристотелевскую репрезентацию мифа). С помощью риторических средств буржуазные мифы дают общую перспективу псевдофизиса, определяющего мечту современного буржуазного мира. Рассмотрим основные риторические фигуры.
Прививка.
Я уже приводил примеры этой очень распространенной фигуры, которая заключается в том, что признаются второстепенные недостатки какого-либо классового института, чтобы тем самым лучше замаски¬ровать его основной порок. Происходит иммунизация коллективного сознания с помощью небольшой прививки официально признанного недостатка; таким образом предотвращается возникновение и широкое распростра¬нение деятельности, направленной на ниспровержение существующих порядков. Еще сто лет тому назад такой либеральный образ действий был бы невозможен; в то время защитники буржуазного блага не шли ни на какие уступки, занимая жесткую позицию. Однако с тех пор их
25 Данных, о тиражах газет недостаточно. Другие сведения носят случайный характер. В журнале «Пари-Матч» были опубликованы (за¬метим, в целях рекламы) данные об уровне жизни его читателей («Фигаро», 12 июля, 1955 г.): из 100 городских читателей журнала у 53 есть свой автомобиль, у 49 — отдельная ванная комната и т. д., в то время как в среднем автомобиль есть у 22% французов, а ванная комната — у 13%. Уже на основании мифологии этого журнала можно было предвидеть, что покупательная способность его читателей доста¬точно высока.
[120]
позиция стала намного более гибкой; теперь буржуазия уже не колеблясь допускает существование некоторых локальных очагов разрушительной деятельности: аван¬гард, детская иррациональность и т. п.; она установила для себя хорошо сбалансированный экономический поря¬док; как и во всяком порядочном акционерном обществе небольшой пай юридически (но не фактически) прирав¬нивается к большому паю.
2. Лишение Истории.
Миф лишает предмет, о котором он повествует, всякой историчности26. История в мифе испаряется, играя роль некоей идеальной прислуги: она все заранее приготовляет, приносит, раскладывает и тихо исчезает, когда приходит хозяин, которому остается лишь наслаждаться, не спрашивая, откуда взялась вся эта красота. Вернее было бы сказать, что она возникает из вечности, в любое время является готовенькой для потребления человеком-буржуа; так, Испания, если ве¬рить Голубому Гиду, искони была предназначена для туристов, а «туземцы» придумали когда-то свои танцы, дабы доставить экзотическое удовольствие современным буржуа. Понятно, от чего помогает избавиться эта удач¬ная риторическая фигура: от детерминизма и от свободы. Ничто не производится, ничто не выбирается; остается лишь обладать этими новенькими вещами, в которых нет ни малейшего следа их происхождения или отбора. Это чудесное испарение истории есть одна из форм кон¬цепта, общего всем буржуазным мифам — концепта «безответственность человека».
3. Отождествление. Мелкий буржуа — это такой че¬ловек, который не в состоянии вообразить себе Друго¬го27 . Если перед ним возникает другой, буржуа словно слепнет, не замечает или отрицает его или же уподоб¬ляет его себе. В мелкобуржуазном универсуме всякое сопоставление носит характер реверберации, все другое
26 «...историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечении) от нее» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 16).
27 «Представителями мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в состоянии преступить тех границ, которых не пре¬ступает жизнь мелких буржуа...» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 148).
[121]
объявляется тем же самым. Театры, суды, все места, где есть опасность столкнуться с Другим, становятся зеркалами. Ведь Другой — это скандал, угрожающий нашей сущности. Существование таких людей, как Доминичи или Жерар Дюприе , может получить социальное оправдание лишь в том случае, когда предварительно они приведены к состоянию миниатюрных копий предсе¬дателя Суда присяжных или Генерального Прокурора; такова цена, которую им приходится платить, чтобы быть осужденными по всем правилам, ибо Правосудие заклю¬чается в операции взвешивания, но на чаши весов можно класть лишь то, что подобно друг другу. В созна-нии любого мелкого буржуа есть миниатюрные копии хулигана, отцеубийцы, гомосексуалиста и т. д.; судьи периодически извлекают их из своей головы, сажают на скамью подсудимых, делают им внушение и осуж¬дают. Судят всегда только себе подобных, но сбившихся с пути', ведь вопрос заключается в том, какой путь человек выбирает, а не в том, какова его природа, ибо так уж устроен человек. Иногда, хотя и редко, оказы¬вается, что Другого нельзя подвести ни под какую ана¬логию, и не потому, что нас неожиданно начинает мучить совесть, а потому что здравый смысл противится этому: у одного кожа черная, а не белая, другой пьет грушевый сок, а не перно. А как ассимилировать негра, русского? Здесь-то и приходит на помощь еще одна фигура: экзо¬тичность. Другой становится всего лишь вещью, зрели¬щем, гиньолем; его отодвигают на периферию челове¬чества и он уже не может представлять опасности для нашего домашнего очага. Эта фигура особенно характер¬на для мелкобуржуазного сознания, поскольку мелкий буржуа не в состоянии вжиться в Другого, но может по крайней мере отвести ему какое-то место в этом мире. Это и называется либерализмом, который есть не что иное, как своеобразное интеллектуальное хозяйство, где каждой вещи отведено свое место. Мелкая буржуа¬зия не либеральна (именно в ее среде зарождается фашизм, используемый потом крупной буржуазией), она лишь с опозданием следует по тому пути, по которому идет крупная буржуазия.
4. Тавтология.
Знаю, что это слово довольно небла¬гозвучно. Но и сам предмет не менее безобразен. Тавто-
[122]
логия — это такой оборот речи, когда нечто определяется через то же самое («Театр—это театр»). В ней можно видеть один из магических способов действия, описанных Сартром в его «Очерке теории эмоций». Мы спасаемся, укрываемся в тавтологии совершенно так же, как укры¬ваемся в чувстве испуга, негодования или скорби в тех случаях, когда не в состоянии произнести ни слова; эту внезапную нехватку языковых средств мы, однако,— ма¬гическим образом — склонны объяснять природной со¬противляемостью самих предметов. В тавтологии со¬вершается двойное убийство: вы уничтожаете рацио¬нальность, поскольку не можете с ней справиться, и вы убиваете язык, потому что он подводит вас. Тавто¬логия — это потеря памяти в нужный момент, спасительная афазия, это смерть или, если угодно, комедия — «предъ¬явление» возмущенной реальностью своих прав по отношению к языку. Магическая тавтология, разуме¬ется, может опираться лишь на авторитарные аргу¬менты; например, родители, доведенные до отчаяния постоянными расспросами ребенка, могут ответить ему:
«это так, потому что это так» или еще лучше: «потому что потому». Прибегая к магическому действию, они ведут себя постыдным образом, ибо едва начав рациональное объяснение, тут же отказываются от него и думают, что разделались с причинностью, произнеся причинный союз. Тавтология свидетельствует о глубоком недоверии к языку: вы его отбрасываете, потому что не умеете им пользоваться. Но всякий отказ от языка — это смерть. Тавтология создает мертвый, неподвижный язык.
5. Нинизм.
Этим словом я обозначаю риторическую фигуру, которая заключается в том, чтобы, сопоставив две противоположности и уравновесив их, отвергнуть затем и ту и другую. (Мне не надо ни того, ни другого). Эта фигура буржуазного мифа по преимуществу, по¬скольку она восходит к одной из современных форм либерализма. Мы снова сталкиваемся с образом весов: сначала реальность сводят к всевозможным аналогам, затем ее взвешивают, а когда констатируют равенство веса, ее отбрасывают. И в этом случае мы наблюдаем магический способ действия: если выбор представляет затруднение, то сравниваемые величины объявляются разными; неприемлемую реальность отвергают, сводя ее
[123]
к двум противоположностям, которые уравновешивают друг друга только в той мере, в какой они являются формальными, лишенными своего удельного веса. Могут наблюдаться и вырожденные формы нинизма; так, в астрологии вслед за предсказываемым злом следует уравновешивающее его благо; предсказания всегда бла¬горазумно составляются так, чтобы первое компенси¬ровало второе; устанавливаемое равновесие парализует любые ценности, жизнь, судьбу и т. д. Выбирать уже не приходится, остается только расписаться в получении.
6. Квантификация качества.
Эта фигура содержится во всех предыдущих фигурах. Сводя всякое качество к количеству, миф экономит на умственных усилиях, и осмысливание реальности обходится дешевле. Я уже приводил несколько примеров такого механизма, к ко¬торому буржуазная и прежде всего мелкобуржуазная мифология прибегает без всяких колебаний при рассмот¬рении эстетических фактов, связываемых к тому же с не¬материальными сущностями. Буржуазный театр служит хорошим примером этого противоречия. С одной стороны, театр представляется как сущность, не выразимая ни на каком языке и открывающаяся лишь сердцу, интуи¬ции; это качество придает театру легко уязвимое чувство собственного достоинства (говорить о театре по-ученому считается «оскорблением сущности»; иными словами, всякая попытка рационального осмысления театра не-избежно дискредитируется и оценивается как сциентизм или педантизм). С другой стороны, буржуазная драма¬тургия основана на точном подсчете театральных эф¬фектов: с помощью целого ряда заранее рассчитанных ухищрений устанавливается количественное равенство между ценой билета и рыданиями актера или роскошью декораций; то, что у нас называют, например, «естест¬венностью» актерской игры, есть прежде всего хорошо рассчитанное количество внешних эффектов.
7. Констатация факта.
Миф тяготеет к афористич¬ности. Буржуазная идеология доверяет этой фигуре свои основные ценности: универсальность, отказ от объяснений, нерушимая иерархия мира. Однако в этом случае следует четко различать язык-объект и метаязык. Народные по¬словицы, дошедшие до нас из глубины веков, до сих пор являются составной частью практического освоения
[124]
внешнего мира как объекта. Когда крестьянин произно¬сит «сегодня хорошая погода», то его утверждение сохраняет реальную связь с полезностью хорошей пого¬ды; это утверждение имплицитно орудийное; слова, не¬смотря на их общую, абстрактную форму, являются подготовкой к практическим действиям, они включаются в производственный процесс. Сельский житель не бол¬тает о хорошей погоде, а имеет с ней дело, использует ее в своем труде. Таким образом, все наши народные пословицы представляют собой активное слово, которое с течением времени застывает и превращается в рефлек-сивное слово, но рефлексия эта куцая и сводится к обычной констатации фактов, в ней есть какая-то ро¬бость, осторожность, она крепко привязана к повседнев¬ному опыту. Народные пословицы больше предсказы¬вают, чем утверждают, это речь человечества, которое постоянно творит себя, а не просто существует. Буржуаз¬ные же афоризмы принадлежат метаязыку, это вторич¬ная речь по поводу уже готовых вещей. Его класси-ческая форма — это максима. В ней констатация фактов направлена не на творимый мир, наоборот, она должна скрывать уже сотворенный мир, прятать следы его тво¬рения под вневременной маской очевидности; это контр¬объяснение, облагороженный эквивалент тавтологии, того безапелляционного потому, которое родители, испы¬тывающие нехватку знаний, обрушивают на голову детей. Основа афористичности буржуазного мифа — здравый смысл, то есть такая истина, которая застывает по произволу того, кто ее изрекает.
Я не придерживался никакого порядка в описании риторических фигур; могут существовать и другие их типы; одни фигуры изнашиваются, другие нарождаются. Но как таковые, они могут быть четко разделены на две большие группы, которые мы назовем Знаками Зодиака буржуазного универсума: Сущности и Весы. Буржуазная идеология постоянно преобразует продукты истории в неизменные сущности; подобно тому, как каракатица выбрасывает чернильную жидкость в целях защиты, так и буржуазная идеология все время пытается затушевать непрерывный процесс творения мира, превратить миф в застывший объект вечного обладания, инвентаризовать
[125]
свое имущество, забальзамировать его, впрыснуть в реальный мир некую очистительную эссенцию, чтобы остановить его развитие, не дать ему укрыться в других формах существования. Тогда эти богатства, закреплен¬ные и обездвиженные, можно, наконец, подсчитать; бур¬жуазная мораль по существу есть операция взвеши¬вания: сущности кладутся на чаши весов, неподвижным коромыслом которых и является человек-буржуа. Ведь цель мифов — это обездвижение мира; они должны давать внушительную картину вселенского хозяйствен¬ного механизма с раз и навсегда установленной иму-щественной иерархией. Таким образом, мифы настигают человека всегда и повсюду, отсылают его к тому непод¬вижному прототипу, который не позволяет ему жить своей жизнью, не дает свободно вздохнуть, словно паразит, засевший внутри организма, и очерчивает дея¬тельности человека тесные пределы, где ему дозволено мучиться, не пытаясь хоть как-то изменить мир; буржуаз¬ный псевдофизис — это полное запрещение человеку тво¬рить себя. Мифы представляют собой постоянное и назойливое домогательство, коварное и непреклонное требование, чтобы все люди узнавали себя в том вечном и тем не менее датированном образе, который был однажды создан, якобы, на все времена. Ибо Природа, в которой заключают людей под предлогом увековече¬ния, в действительности представляет собой Обычай. Однако каким бы священным ни казался этот Обычай, люди должны взять его в свои руки и изменить.
Необходимость и границы мифологии.
В заключение я хотел бы сказать несколько слов о самом мифологе. В этом термине есть какая-то высокопарность и само-надеянность. Можно предвидеть, однако, что будущий мифолог, коль скоро таковой объявится, столкнется с рядом трудностей если не методологического, то по край¬ней мере эмоционального порядка. Разумеется, ему не трудно будет оправдать свою деятельность. Каковы бы ни были его блуждания, всегда можно утверждать, что и мифология участвует в созидании мира; если считать принципиальным тот факт, что человек в буржуазном обществе ежеминутно погружается в псевдофизис, то
[126]
задача мифолога состоит в том, чтобы вскрыть под без-обидной оболочкой самых простых жизненных отноше¬ний таящееся в их глубине отчуждение, которое эта безобидность должна сделать приемлемым. Следова¬тельно, разоблачение, совершаемое мифологом, является политическим актом; утверждая идею ответственности языка, он тем самым постулирует его свободу. В этом смысле мифология безусловно находится в согласии с миром, но не с таким, каков он есть, а с таким, каким он хочет стать (Брехт употреблял в этом случае слово с удобной двусмысленностью: Einverstandnis 'согласие', букв. 'вникание', которое означает одновременно и по¬нимание мира и согласие с ним).
Это согласие оправдывает существование мифолога, но не достаточно для него; все-таки его глубинный ста¬тус определяется выключенностью из общества.-Вызван¬ный к жизни политической действительностью, он тем не менее далек от нее. Речь мифолога — это метаязык, она ни на что не воздействует, самое большее, она разобла¬чает; но в чьих же глазах? Задача мифолога всегда двусмысленна из-за его этической позиции. Он может участвовать в революционном действии только по дове-ренности, отсюда принужденность в исполнении им своей функции, какая-то натянутость и старательность, эскиз¬ность и чрезмерная упрощенность, характерные для вся¬кой интеллектуальной деятельности, открыто связанной с политикой («неангажированная» литература беско¬нечно более «элегантна», метаязык — это ее естественная среда),
Далее, мифолог исключается из числа потребителей мифов, а это дело нешуточное. Хорошо, если речь идет об ограниченном круге читателей 28. Но если миф усваи¬вается обществом в целом, то, чтобы разоблачить миф, мифологу приходится порывать со всем обществом. Лю-
28 Происходит отдаление мифолога не только от публики, но иногда и от самого предмета мифического слова. Чтобы демистифицировать, например. Поэтическое Детство, мне пришлось некоторым образом проявить недоверие к реальному ребенку — к Мину Друэ. Я должен был игнорировать ее пока еще хрупкие, неразвившиеся человеческие возможности, скрытые под толстым слоем мифа. Ведь высказываться против маленькой девочки всегда нехорошо.
[127]
бой более или менее всеобщий миф в действительности двусмыслен, потому что в нем находят отражение чело¬веческие качества тех, кто, ничего не имея, берет его напрокат. Расшифровать велогонки «Тур де Франс» или превосходное Французское Вино значит отвлечься от тех людей, которые с их помощью развлекаются или по¬догреваются. Мифолог обречен на жизнь в теоретическом социуме; для него быть социальным в лучшем случае значит быть правдивым; его наивысшая социальная ценность заключается в его наивысшей нравственности. Связь мифолога с реальным миром имеет характер сар¬кастический.
Но пойдем еще дальше; в некотором смысле мифолог выключается даже из истории, от имени которой он стремится действовать. Разрушение, которому он подвер¬гает коллективный язык, абсолютно; к этому разруше¬нию, собственно, и сводится вся его задача; он должен жить разрушением без надежды повернуть назад, не претендуя на воздаяние. Ему запрещено представлять себе, чем конкретно станет мир, когда непосредственный предмет его критики исчезнет. Утопия для мифолога непозволительная роскошь; он сильно подозревает, что завтрашние истины окажутся всего лишь изнанкой се-годняшней лжи. В Истории победа одного противника над другим никогда не бывает полной; ход истории при¬водит к совершенно непредвиденным результатам, к непредсказуемым синтезам. Мифолога нельзя даже упо¬добить Моисею , ибо Земля Обетованная от него сокрыта. Для него позитивность завтрашнего дня полностью заслонена негативностью сегодняшнего; вся ценность его предприятия заключается в актах разрушения, одни из которых в точности компенсируют другие, так что все остается на своем месте. Такой субъективный взгляд на историю, при котором мощный зародыш будущего представляется всего лишь всеразрушающим апокалипси¬сом настоящего, Сен-Жюст изложил в следующем ориги¬нальном изречении: «Республика создается путем пол¬ного разрушения всего, что ей противостоит». Думаю, что эти слова нельзя понимать банально: «прежде чем строить, надо как следует расчистить место». Связка имеет здесь всеобъемлющий смысл; для некоторых людей субъективно может наступить такая ночь истории, когда
[128]
будущее становится единственной сущностью, и эта сущ-ность требует тотального разрушения прошлого.
Еще один, последний, тип выключения угрожает мифологу: он постоянно рискует уничтожить реальность, которую сам же намеревался защитить. Самолет ДС-19 без всякого сомнения есть объект с определенными тех¬нологическими параметрами: он может развивать такую-то скорость, у него такие-то аэродинамические харак¬теристики и т. д. И вот о подобной реальности мифолог говорить не может. Механик, инженер, даже пассажир непосредственно говорят о предмете, мифолог же обречен на использование метаязыка. Это выключение уже имеет свое название — идеологизация. Жданов и его последователи сурово осудили идеологизацию (не доказав, однако, что в настоящее время ее можно избе¬жать), проводимую как принцип у раннего Лукача, в лингвистике Марра, в работах Бенишу или Гольдмана, и противопоставили ей реальность, недоступную воздействию идеологии, такую, например, как язык в трактовке Сталина. Верно, что идеологизация разре¬шает противоречия отчужденной реальности с помощью ампутации, а не синтеза (но Жданов вообще их не разре¬шает). Вино объективно превосходно, и в то же время превосходное качество вина есть миф — такова апория. Мифолог выпутывается из нее как может; он занижается превосходным качеством вина, а не самим вином; точно так же историк занимается идеологией Паскаля, а не его «Мыслями» 29.
Мне кажется, что эта трудность характерна для нашей эпохи; сегодня мы можем пока выбирать только из двух одинаково односторонних методов: или постули¬ровать существование абсолютно проницаемой для исто¬рии реальности и заниматься идеологизацией или же, наоборот, постулировать существование реальности, в конечном счете непроницаемой и не поддающейся ника¬кому анализу, и в этом случае заниматься поэтизацией. Одним словом, пока я не вижу возможности синтезиро-
29 Даже в моих мифологиях я иногда лукавил; мучаясь от того, что приходится неустанно выпаривать реальность, я стал слишком уж оплотнять ее, находить в ней удивительную, приятную для меня ком¬пактность; я дал несколько примеров субстанциального психоанализа мифических объектов.
[129]
вать идеологию и поэзию (поэзию я понимаю в очень общем смысле как поиск неотчужденного смысла вещей).
Наши неудачные попытки преодолеть неустойчивость восприятия реальности несомненно свидетельствуют о той степени отчужденности, в какой мы пребываем в настоящее время. Мы беспрестанно мечемся между пред¬метом и его демистификацией, не будучи в состоянии пере¬дать его во всей его целостности, ибо, если мы вникаем в предмет, то освобождаем его, но тут же и разрушаем;
если же мы сохраняем всю его весомость, мы прояв¬ляем к нему должное уважение, но он остается по-преж¬нему мистифицированным. Мне кажется, что в течение какого-то времени мы вынуждены будем всегда слишком много говорить о реальности. Дело в том, что идеологизация и ее противоположность, вероятно, представляют собой все те же магические типы поведения, вызванные слепым страхом, завороженностью перед лицом разор¬ванного социального мира. И тем не менее мы должны добиваться примирения реальности и человека, описания и объяснения, предмета и знания о нем.
Сентябрь 1956 г.
Литература и метаязык.
Перевод С. Н. Зенкина ………..131
Логика учит нас плодотворному разграничению язы¬ка-объекта и метаязыка. Язык-объект — это сам предмет логического исследования, а метаязык — тот неизбеж¬но искусственный язык, на котором такое исследование ведется. Логическое мышление как раз и состоит в том, что отношения и структуру реального языка (языка-объекта) я могу сформулировать на языке символов (метаязыке).
Наши писатели в течение долгих веков не представ¬ляли, чтобы литературу (само это слово появилось не-давно) можно было рассматривать как язык, подлежа¬щий, как и всякий язык, подобному логическому разгра¬ничению. Литература никогда не размышляла о самой себе (порой она задумывалась о своих формах, но не о своей сути), не разделяла себя на созерцающее и созерцаемое; короче, она говорила, но не о себе. Однако в дальнейшем — вероятно, с тех пор, как начало коле¬баться в своих основах буржуазное благомыслие, — литература стала ощущать свою двойственность, видеть в себе одновременно предмет и взгляд на предмет, речь и речь об этой речи, литературу-объект и металитературу. Развитие это прошло, в общих чертах, следующие фазы. Сначала сложилось профессиональное самосо¬знание литературного мастерового, вылившееся в болез¬ненную тщательность, в мучительное стремление к не¬достижимому совершенству (Флобер). Затем была пред¬принята героическая попытка слить воедино литературу и мысль о литературе в одной и той же субстанции письма (Малларме). Потом появилась надежда устра¬нить тавтологичность литературы, бесконечно отклады¬вая самое литературу «на завтра», заверяя вновь и вновь, что письмо еще впереди, и делая литературу из самих этих заверений (Пруст). Далее суду подверглась
131
сама «спокойная совесть» литературы: слову-объекту стали намеренно, систематически приписывать множест¬венные смыслы, умножая их до бесконечности и не оста¬навливаясь окончательно ни на одном фиксированном означаемом (сюрреализм). Наконец, попытались, наобо¬рот, создать смысловой вакуум, дабы обратить литера¬турный язык в чистое здесь-бытие (etre-la), в своего рода «белое» (но отнюдь не непорочное) письмо — я имею в виду творчество Роб-Грийе.
Благодаря всем этим попыткам наш век (последние сто лет), быть может, будет назван веком размышлений о том, что такое литература (Сартр ответил на этот вопрос извне, чем и обусловлена двусмысленность его литературной позиции). Поскольку же такие поиски ве¬дутся не извне, а внутри самой литературы, точнее, на самой ее грани, в той зоне, где она словно стремится к нулю, разрушаясь как язык-объект и сохраняясь лишь в качестве метаязыка, где сами поиски метаязыка в последний момент становятся новым языком-объектом, то оказывается, что литература наша уже сто лет ведет опасную игру со смертью, как бы переживает свою смерть; она подобна расиновской героине (Эрифиле в «Ифигении»), которая умирает, познав себя, а живет поисками своей сущности. Этим, собственно, и опреде¬ляется ее трагизм: наше общество, стоящее ныне как бы в историческом тупике, оставляет литературе лишь ха¬рактерно эдиповский вопрос: кто я?, запрещая ей при этом подлинно диалектическую постановку вопроса: что делать? Истина нашей литературы — не в области дейст¬вия, но она не принадлежит уже и области природы: это маска, указывающая на себя пальцем.
1959, «Phantomas».
132
Писатели и пишущие.
Перевод С. Н. Зенкина 133
Кто говорит? Кто пишет? У нас пока что нет со¬циологии слова. Нам лишь известно, что слово есть форма власти и что особая группа людей (нечто среднее между корпорацией и классом) определяется как раз тем, что более или менее безраздельно владеет языком нации. При этом очень долгое время, едва ли не на всем протяжении классической эры капитализма (с XVI по XIX в.), во Франции бесспорными хозяевами языка являлись писатели, и только они. Если исключить про¬поведников и юристов, не выходивших за пределы своих функциональных языков, то больше никто и не говорил. Интересно, что выработанный языковой монополией жесткий порядок касался не столько производителей, сколько самого производства — структурировалось не профессиональное положение литератора (за три века оно сильно видоизменилось — от поэта-слуги до писа¬теля-дельца), а сама субстанция литературного дискур¬са, который, подчиняясь ситуативным, жанровым и ком¬позиционным правилам, оставался почти неизменным от Маро до Верлена, от Монтеня до Жида (сдвиги проис¬ходили в языке, но не в дискурсе). В отличие от так называемых первобытных обществ, где, как показал Мосс, колдовство всегда воплощено в фигуре колду¬на, — институт литературы (и, в частности, ее основной материал — слово) был намного важнее ее функций. Во Франции институт литературы — это ее язык, полу¬лингвистическая, полуэстетическая система, не лишен¬ная даже мифического измерения — ясности.
С каких же пор писатель во Франции перестал быть единственным, кто говорит? По-видимому, со времен Революции; именно тогда стали появляться люди, ис¬пользующие язык писателей в политических целях (не-давно я убедился в этом, читая один из текстов Бар-
133
нава)1. Институт остается неизменным — это по-преж¬нему великий французский язык, его лексика и эвфония благоговейно сохраняются, несмотря на величайшие в истории Франции потрясения. Меняются, однако, его функции, на протяжении столетия неуклонно растет число работающих с языком; расширению функций ли¬тературы содействуют сами писатели, от Шатобриана или Местра до Гюго или Золя, — оставаясь признан¬ными хозяевами институционализированного слова, они превращают его в орудие для нового типа деятель¬ности; а наряду с писателями как таковыми склады¬вается и развивается новая группа людей, завладева¬ющих публичным языком. Интеллектуалы? Это слово звучит слишком многозначно2, будем лучше назы¬вать их здесь пишущими. И вот, поскольку мы, возмож¬но, переживаем ныне тот исторически неустойчивый момент, когда обе эти функции сосуществуют, мне хо¬телось бы набросать очерк сравнительной типологии писателя и пишущего, сравнить их хотя бы в отношении общего для них материала — слова.
Писатель исполняет функцию, а пишущий занимается деятельностью; это явствует уже из грамматики, где противопоставляются друг другу, с одной стороны, су¬ществительное, а с другой — глагол (переходный) 3. Отсюда не следует, что писатель — чистая сущность; он тоже действует, но его действие имманентно своему объекту, оно парадоксальным образом производится над своим собственным орудием — языком. Писатель — тот, кто обрабатывает (хотя бы даже вдохновенно) свое слово, и его функции полностью поглощаются этой работой. В писательской деятельности есть два вида правил — правила искусства (композиция, жанр, письмо) и ремесла (терпенье и труд, поправки и усо-
1 В а r n a v e. Introduction a la Revolution francaise. Texte presente par F. Rude. — «Cahiers des Annales>, № 15, Armand Colin, 1960.
2 Считается, что в своем нынешнем смысле слово «интеллектуал» появилось во времена дела Дрейфуса — как легко догадаться, антидрейфусары называли так дрейфусаров.
3 Изначально слово «писатель» (ecrivain) означало человека, пи¬шущего вместо других. Современное значение «автор книг» появляет¬ся с XVI в.
134
вершенствования). Парадокс состоит в том что в силу самоцельности своего материала литература, по су-ществу, работает тавтологически, как кибернетиче¬ская машина, созданная для тождества себе (гомеостат Эшби) ; для писателя вопрос почему мир таков? (le pourquoi du monde) полностью поглощается вопро¬сом как о нем писать? Самое удивительное, что на про¬тяжении веков такая нарциссическая деятельность слу-жила постоянным стимулом к вопрошанию мира; за¬мыкаясь в своих заботах о том, «как писать», писатель в итоге неизбежно приходит к самому открытому из вопросов: «отчего мир таков?», «в чем смысл вещей?». В результате труд писателя, обретая самоцельность, одновременно начинает служить и опосредованием; пи-сатель осознает литературу как цель, но отразившись в реальном мире, она вновь превращается в средство; литература беспрестанно обманывает ожидания писате¬ля, и в этой обманчивости она воссоединяется с миром — со странным миром, который предстает в литературе как вопрос, но никогда не как окончательный ответ.
Слово — не орудие, не носитель чего-то другого; нам становится все яснее, что это структура; но только лишь писатель (по определению) в структуре слова теряет свою собственную структуру и структуру мира. Такое слово, подвергаясь (бесконечно) обработке, ста¬новится как бы сверх-словом, действительность служит ему лишь предлогом (для писателя глагол «писать» — непереходный); слово, следовательно, неспособно объяс¬нять мир, а если оно как будто и объясняет его, то лишь затем, чтобы позднее мир вновь предстал неодно¬значным. Всякое объяснение, будучи введено в произ¬ведение (являющееся продуктом работы), тут же стано¬вится двусмысленным, лишь опосредованно связанным с реальностью; в итоге литература всегда нереалистична, но именно эта ее нереалистичность позволяет ей часто задавать миру серьезные вопросы, хотя и не напрямик; так Бальзак, отправляясь от теократического объясне¬ния мира, в конечном счете занимался лишь его вопрошанием. Поэтому писатель (сколь бы обдуманной и искренней ни была его деятельность) в силу экзистен¬циального выбора отказывается от двух типов слова: во-первых, от учительства, ибо по самой сути своего
135
проекта он невольно превращает всякое объяснение мира в театральное представление, неизбежно вводит в него неоднозначность4; во-вторых, от свидетельства, ибо, отдавшись слову, писатель утрачивает наивность. Крик нельзя подвергать обработке — иначе кончится тем, что главным в сообщении станет не сам этот крик, а его обработка; отождествляя себя со словом, писатель утрачивает всякие права на истину, ибо язык — если только он не сугубо транзитивен — это структура, цель которой (по крайней мере со времен греческой софис¬тики) — нейтрализовать различие между истиной и ложью5. Зато писатель, конечно, обретает способность расшатывать устойчивость мира, являя ему головокружи¬тельное зрелище никем не санкционированного праксиса. Нелепо поэтому требовать от писателя ангажированных произведений: «ангажированный» писатель пытается играть сразу «на две структуры», а это невозможно без плутовства, без хитроумных уловок, с помощью которых мэтр Жак служил то поваром, то кучером, но не тем и другим одновременно; стоит ли лишний раз перечислять великих писателей, которые были неанга-жированными или ангажированными «не так», и людей беззаветно ангажированных, которые были плохими писателями? От писателя можно требовать ответствен¬ности, но и здесь надо еще объясниться. Тот факт, что писатель несет ответственность за свои мнения, здесь несуществен; не так важно даже, принимает ли он более или менее осознанно идеологические выводы, вытекающие из его произведения; настоящая ответственность пи¬сателя в том, чтобы переживать литературу как неудав¬шуюся ангажированность, как взгляд Моисея на обето-
4 Писатель может создать систему, но она будет таковой лишь для производителя, а не для потребителя литературы. Я считаю большим писателем Фурье — в силу величественного спектакля, который разы¬грывается передо мной в его описании мира.
5 О том, как трудно добиться совпадения структуры языка и структуры действительности, лучше всего свидетельствует всегдашнее фиаско диалектики, когда она становится дискурсом. Язык недиалекти¬чен; диалектика в речи — лишь благое пожелание, язык может только говорить: «надо быть диалектичным», но сам таковым быть не может. В языке, за исключением писательского, нет перспективной глубины; писатель способен стать диалектичным, но он не может диалектизиро-вать внешний мир.
136
ванную землю действительности (такова, например, ответственность Кафки).
Литература, естественно, не божья благодать, а совокупность проектов и решений, благодаря которым человек осуществляет себя (то есть как бы обретает сущность) непосредственно в речевом акте; писатель тот, кто хочет им быть. Так же естественно, что об¬щество, потребитель писательской продукции, перео-смысляет его проект как призвание, работу над языком — как дар владения слогом, а технические приемы — как искусство. Так родился миф о хорошем слоге: писа¬тель — наемный жрец, полупочтенный, полупотешный хранитель святилища великого Французского слова; сей священный товар (своего рода Национальное иму¬щество) производится, преподается, потребляется и вы¬возится на экспорт в рамках высшей экономики духов¬ных ценностей. Такая сакрализация работы писателя над формой имеет важные и отнюдь не формальные последствия. Благодаря ей (порядочное) общество, если содержание произведения окажется для него неудобным, отстраняется от этого содержания, обращая его в чистое зрелище, о котором уже можно судить с либеральным равнодушием; общество нейтрализует мятежные страсти и разрушительные вылазки своих критиков — одним словом, прибирает писателя к рукам; «ангажирован-ному» писателю остается лишь беспрестанно и бессильно бросать ему вызов. Любой писатель рано или поздно интегрируется социальными институтами литературы — разве что он вообще оставит свое писательское дело, то есть откажется от бытийного самоотождествления со словом; оттого-то так мало кто из писателей прекра¬щает писать, ведь это означает буквально убить себя, умереть в том бытии, которое ты себе избрал; если и случается, что писатель умолкает, то его молчание отзывается громким эхом как необъяснимое отречение от своей веры (Рембо) 6.
Что же касается пишущих, то это люди «транзитив¬ного» типа: они ставят себе некоторую цель (свидетель-
6 Так ставится вопрос в наши дни; напротив того, современников Расина ничуть не удивляло, что он внезапно бросил писать трагедии и сделался королевским чиновником.
137
ствовать, объяснять, учить), и слово служит лишь сред¬ством к ее достижению; для них слово несет в себе дело, но само таковым не является. Тем самым язык вновь сводится к своей природной роли коммуникативного орудия, носителя «мысли». Пусть даже пишущий и уделяет некоторое внимание самому письму, но онто¬логически он этим не озабочен — главный его интерес в другом. Пишущий не производит над словом никакого сущностно важного технического действия; в его распо¬ряжении общее письмо всех пишущих — своего рода койнэ, где различаются, конечно, диалекты (например, марксистский, христианский, экзистенциалистский), но крайне редко — индивидуальные стили. Дело в том, что определяющей чертой пишущего является наивность его коммуникативного проекта: пишущий и мысли не допускает, чтобы написанное им сосредоточилось и зам¬кнулось в себе, чтобы там можно было вычитать между строк нечто иное, нежели он сам имел в виду; разве стерпит пишущий, чтобы его письмо подвергали психо¬анализу? Он полагает, что своим словом проясняет в мире нечто неопределенное, дает ему однозначное (пусть даже и не окончательное) объяснение или сообщает не¬что бесспорное (даже и стараясь лишь скромно излагать чужие знания). Между тем для писателя, как мы ви¬дели, все наоборот: он прекрасно знает, что слово его нетранзитивно (таков его выбор и таков смысл его тру¬да), что даже при всей своей категоричности оно само вносит в мир неопределенность, что оно парадоксально выступает как величественно-многозначительное без¬молвие и что девизом этого слова может стать только глубокое замечание Жака Риго: «И даже в утвержде¬ниях моих — вопросы».
В писателе есть нечто от жреца, в пишущем — от простого клирика: для одного слово составляет само-цельное деяние (то есть в некотором смысле — жест), для другого же — деятельность. Парадокс в том, что общество принимает транзитивное слово гораздо более холодно, чем нетранзитивное; даже в наши дни, при обилии пишущих, их положение в обществе куда слож¬нее, чем писательское. Причиной тут прежде всего ма¬териальные обстоятельства. Товарооборот писательского слова осуществляется по веками сложившимся кана-
138
лам; в обществе имеется специально созданный инсти¬тут литературы, который только этим словом и ведает. Напротив, слово пишущего производится и потребляется лишь под прикрытием таких социальных институтов, ко¬торым изначально была уготована совсем иная функция, чем пускать в оборот язык: это прежде всего Универ¬ситет, а в дополнение к нему — Научные исследования, Политика и т. д. Кроме того, слово пишущего неустой¬чиво еще и по другой причине. Поскольку оно является (или считает себя) простым носителем мысли, то его товарные качества переносятся на проект, орудием которого оно является. Предполагается, что пишущий торгует своей мыслью, не думая ни о каком искусстве, — между тем главный мифический признак «чистой» (точ¬нее сказать, «неприкладной») мысли в том и состоит, что она вырабатывается вне денежного оборота; в отличие от формы, которая, по словам Валери, стоит дорого, мысль ничего не стоит, зато ее и не продают, а вели¬кодушно даруют. Тем самым намечаются по крайней мере еще два различия между писателем и пишущим. Прежде всего, производительная деятельность пишущего всегда свободна, но вместе с тем и чем-то «навязчива»; пишущий предлагает обществу нечто такое, что не обя¬зательно имеет спрос; парадоксальным образом его слово, располагаясь в стороне от общественных инсти¬тутов, от рынка, предстает куда более индивидуальным (во всяком случае, по своим мотивам), чем слово писа¬тельское. Функция пишущего — всегда и всюду без про¬медления высказывать то, что он думает 7, и в этой функции он видит свое достаточное оправдание; отсюда острота и безотлагательность его слова — оно всякий раз как бы знаменует собой конфликт между неудер¬жимостью мысли и косностью общества, не желающего потреблять товар, если он не узаконен никаким особым институтом. Отсюда a contrario * явствует второе раз-
7 Эта функция беспромедлительного высказывания прямо проти¬воположна функции писателя: во-первых, писатель создает накопления, печатается в ином ритме, нежели мыслит; во-вторых, свои мысли он опосредует тщательно обработанной «правильной» формой; в-третьих, он готов к свободному обсуждению своих произведений, он прямо противоположен догматику.
* От противного (лат.). — Прим. перев.
139
личие: социальная функция литературного (писатель¬ского) слова — не что иное, как превращение мысли (или же совести, или же крика души) в товар. В своей жизненной борьбе общество стремится забрать себе во владение, приручить, институционализировать непред¬сказуемость мысли, а средством для этого ему служит язык — модель всех существующих институтов. Пара¬докс в том, что «провоцирующее» слово тоже легко впадает в зависимость от института литературы: вся¬ческие нарушения языковых приличий (от Рембо до Ионеско) быстро и безупречно включаются в систему, а провоцирующей мысли, как бы ее ни пытались не¬посредственно (без опосредования) выразить, остается только бесплодно биться на нейтральной полосе формы; нарушение приличий никогда не бывает полным.
Описанное здесь противоречие в действительности редко проявляется в чистом виде. Ныне каждый из нас более или менее откровенно колеблется между ролью писателя и ролью пишущего; должно быть, так судила история; по ее воле мы родились слишком поздно, чтобы быть писателями, которые со спокойной совестью гор¬дятся своим званием, — и слишком рано(?), чтобы быть пишущими, к которым прислушиваются. Ныне каждый представитель интеллигенции несет в себе обе роли и одну из них более или менее успешно «прячет»; в по¬ведении писателей вдруг появляется нетерпеливость пишущих, а пишущие порой возвышаются до участия в театральном действе языка. Нам хочется написать нечто, и вместе с тем мы просто пишем (в непереход¬ном смысле этого слова). Одним словом, эпоха наша, видимо, породила на свет гибридный тип — писателя-пишущего. Сама его функция по необходимости пара¬доксальна — в ней есть и вызов и заклинание; формаль¬но его слово свободно, неподвластно институту литера¬турного языка, но, будучи замкнуто в этой своей свобо¬де, оно вырабатывает себе правила, принимающие форму «обиходного письма»; выйдя из товарищества литера¬торов, писатель-пишущий попадает в другое — в това-рищество интеллигенции. На общесоциальном уровне это новое сообщество выполняет дополнительную функцию: письмо интеллектуалов служит парадоксальным знаком не-языка, являя обществу сбывшуюся грезу о коммуни-
140
кации вне системы (вне института); писатель-пишущий осуществляет в глазах общества идеал письма без письма, передачи чистой мысли, в ходе которой не вы¬деляются никакие побочные сообщения. С этим идеалом, удаленным и вместе с тем необходимым, общество как бы играет в кошки-мышки — оно признает писателя-пишущего, покупая (понемногу) его произведения, прини¬мая их как факт общественной жизни, и в то же время держит его на безопасном расстоянии, заставляя опи¬раться на второстепенные, подконтрольные обществу институты вроде Университета и постоянно упрекая в высоколобости, то есть, на мифическом языке, в беспло¬дии (упрек, которому не подвергается ни один писатель). Словом, с точки зрения антропологии, писатель-пишу¬щий — это отверженный, включающийся в общество именно в силу своей отверженности, отдаленный наслед¬ник Проклятого. Его функция в социуме в чем-то соот¬носима с той, которую Кл. Леви-Стросс приписывает Колдуну 8, — с функцией дополнительности, ибо и колдун и интеллектуал как бы концентрируют в себе болезнь, необходимую для завершенности здорового общества. И, конечно, нет ничего удивительного в том, что этот кон¬фликт (или, если угодно, контракт) завязывается на уровне языка, ибо вся суть языка в парадоксе — в институционализации субъективности.
1960, «Arguments».
8 Levi-Strauss Cl. Introduction a l'?uvre de Mauss, dans Mauss: Sociologie et Anthropologie, P.: P.U.F.
141
Из книги «О Расине».
Перевод С. Л. Козлова 142
Предисловие
Вот три очерка о Расине: они возникли при различ¬ных обстоятельствах, и я не буду сейчас пытаться при-дать им задним числом некое единство.
Первый очерк («Расиновский человек») был опубли¬кован в собрании пьес Расина, выпущенном в свет Французским Клубом Книги 1. Язык этого очерка вклю¬чает определенные элементы психоаналитической терми¬нологии, но сам подход к теме не имеет ничего общего с психоанализом. Расин уже явился объектом превос¬ходного психоаналитического исследования Шарля Морона2, которому я многим обязан. Что же до моего этюда, он касается отнюдь не Расина, а лишь расиновского героя; я избегал любых умозаключений от произ¬ведения к автору и от автора к произведению. Речь идет о преднамеренно закрытой интерпретации: я по¬местил себя внутрь мира расиновских трагедий и поста¬рался описать обитателей этого мира (всех тех, кого можно обобщить понятием Homo racinianus), описать без каких бы то ни было отсылок к посторонним источ¬никам (например, историческим или биографическим). То, что я попытался воссоздать, — это своего рода расиновская антропология, одновременно и структурная, и аналитическая: структурная по содержанию, ибо тра¬гедия рассматривается здесь как система единиц («фи¬гур») и функций 3; аналитическая по форме, ибо для
1 «Theatre Classique francais», t. XI, t. XII. P.: Club Francais du Livre, 1960.
2 M a u r o n Ch. L'Inconscient dans l'?uvre et la vie de Racine. Gap: Ophrys, 1957.
3 Этот первый очерк состоит из двух частей. В первой части, выражаясь структуралистскими терминами, рассматривается парадиг¬матика (анализируются фигуры и функции), а во второй — синтагма¬тика (подробно анализируется сочетание элементов системы на уровне каждого произведения).
142
разговора о запертом человеке подходит, как мне пред¬ставлялось, лишь язык, который готов вобрать в себя человеческий страх перед миром: таким языком явля¬ется, по моему мнению, психоанализ.
Второй очерк («Расин на сцене») представляет собой рецензию на постановку Расина в Национальном На-родном театре4. Непосредственный повод ныне устарел, но мне кажется, что по-прежнему актуальной остается общая задача: сопоставить игру психологическую и игру трагедийную, определив таким образом, можно ли сегодня еще играть Расина. К тому же, хотя работа посвящена театральным проблемам, расиновский испол¬нитель оценивается в ней положительно лишь постольку, поскольку он отказывается от традиционно чтимой идеи персонажа и приходит к идее фигуры, то есть формы трагедийной функции, как она была описана в первом очерке.
Что касается третьего очерка («История или лите¬ратура?»), в нем на расиновском материале рассматри-вается некая общая проблема литературной критики. Текст был впервые напечатан в полемической рубрике журнала «Анналы»5; он обращен к подразумеваемому собеседнику: историку литературы университетской фор¬мации. Этому литературоведу здесь предъявляется тре¬бование: либо заняться настоящей историей литератур¬ной институции (если он хочет быть историком), либо открыто признать ту психологию, на которую он ориен¬тируется (если он хочет быть критиком).
Остается сказать несколько слов об актуальности Расина (зачем говорить о Расине сегодня?). Актуаль¬ность эта, как мы знаем, проявляется очень интенсивно. Творчество Расина было вовлечено во все сколько-ни¬будь существенные литературно-критические начинания, имевшие место во Франции за последние лет десять: к Расину обращалась социологическая критика в лице Люсьена Гольдмана, психоаналитическая — в лице Шарля Морона, биографическая — в лице Жана Помье и Реймона Пикара, глубинная психология — в лице
4 Опубликована в: «Theatre populaire», 1958, № 29, mars.
5 «Annales», I960, № 3, mai — juin.
143
Жоржа Пуле и Жана Старобинского; в итоге именно тот французский писатель, с которым наиболее связана идея классической ясности, парадоксальным образом оказался единственным, на ком сошлись все новые языки нашего века.
Дело здесь в том, что ясность — вещь двусмыслен¬ная. Ясность — это то, о чем, с одной стороны, нечего сказать, а с другой — можно говорить до бесконечности. Поэтому в действительности именно ясность и преврати¬ла Расина в настоящее общее место нашей литературы, в своеобразную нулевую степень критического объекта, в некое пустое пространство, неизменно открытое зна¬чению. Литература, как мне кажется, по сути своей есть одновременно и утверждение и отрицание смысла. Если это так, тогда Расин, без сомнения, самый великий из французских писателей; тогда его гений заключается не в каком-то одном из тех моральных качеств, кото¬рые попеременно выдвигались на передний план разны¬ми поколениями читателей (ведь этическая дефиниция Расина непрерывно менялась и меняется), но, скорее, в непревзойденном искусстве открытости, которое позво¬ляет Расину неизменно сохранять за собой место в поле любого литературно-критического языка.
Эта открытость — не какое-то второстепенное досто¬инство; напротив, она есть самое существо литературы, доведенное до высочайшей концентрации. Писать — значит расшатывать смысл мира, ставить смысл мира под косвенный вопрос, на который писатель не дает последнего ответа. Ответы дает каждый из нас, привнося в них свою собственную историю, свой собственный язык, свою собственную свободу; но, поскольку исто¬рия, язык и свобода бесконечно изменчивы, бесконечным будет и ответ мира писателю; мы никогда не переста¬нем отвечать на то, что было написано вне всякого ответа: смыслы утверждаются, соперничают, сменяют друг друга; смыслы приходят и уходят, а вопрос оста¬ется.
Несомненно, этим и объясняется возможность транс¬исторического бытия литературы: это бытие представ-ляет собой функциональную систему, один элемент ко¬торой—величина постоянная (произведение), а дру-гой — величина переменная (мир, эпоха, которые по-
144
требляют произведение). Но чтобы игра состоялась, чтобы и сегодня можно было наново говорить о Расине, должны быть соблюдены некоторые правила. Надо, с одной стороны, чтобы произведение было подлинной формой, чтобы оно действительно выражало колеблю¬щийся смысл, а не закрытый смысл; а с другой стороны (ибо не меньшая ответственность лежит и на нас), надо, чтобы мир ответил на вопрос произведения неким одно¬значным утверждением, чтобы мир честно наполнил своим веществом предлагаемое пространство смысла; короче, надо, чтобы роковой двойственности писателя, который вопрошает под видом утверждения, соответ¬ствовала двойственность критика, который дает ответ под видом вопроса.
Намек и утверждение, молчание говорящего произ¬ведения и слово слушающего человека — таково мерное дыхание литературы в мире и в истории. И именно потому, что Расин до конца остался верен намеку как принципу литературного творчества, на нас ложится обязанность до конца сыграть нашу роль утвердителей. Будем же смело утверждать — каждый на свой страх и риск, за счет своей собственной истории и своей соб¬ственной свободы — правду Расина: правду историче¬скую или психологическую, психоаналитическую или по¬этическую. Испытаем на Расине, именно в силу его мол¬чания, все языки, которые нам предлагает наш век. Наш ответ всегда будет преходящим, и только поэтому он может быть целостным. Сохраняя догматическую твердость и вместе с тем ответственность, мы не должны прикрывать наше слово вывеской «последней правды» о Расине, открыть которую смогла якобы лишь наша эпоха (благодаря какой самонадеянности?). Довольно будет того, что за наш ответ Расину ручаемся не только мы сами, но и, через нас, весь тот язык, посредством которого говорит с собой наш мир, — язык, составля¬ющий важнейшую часть истории, которую наш мир творит для себя.
Р. Б.
I. Расиновский человек *
1. Структура
У Расина есть три Средиземноморья: античное, иудейское и византийское. Но в поэтическом плане эти три пространства образуют единый комплекс воды, пыли и огня. Великие трагедийные места — это иссушенные земли, зажатые между морем и пустыней, тень и солнце в абсолютном выражении. Достаточно посетить сего¬дняшнюю Грецию, чтобы понять жестокую силу малых пространств и осознать, насколько расиновская траге¬дия в своей идее «стесненности» соответствует этим местам, которых Расин никогда не видел. Фивы, Бут-рот, Трезен — все эти трагедийные столицы на самом деле крошечные селенья. Трезен, где погибает Федра, — это выжженный солнцем курган с укреплениями из щебня. Окружающее пространство становится от паля¬щего солнца совершенно безлюдным и резко выделен¬ным; вся жизнь сосредоточена в тени; тень—это и покой, и тайна, и обмен, и вина. Вне дома все безды¬ханно: вокруг заросли, пустыня, неорганизованное пространство. Расиновская популяция знает лишь одну возможность бегства: море, корабли; в «Ифигении» целый народ томится в плену трагедии, потому что на море нет ветра.
* Цитаты из Расина даются, как правило, в существующих рус¬ских переводах по изданию: Расин. Соч. в 2-х т. М.: Искусство, 1984. В дальнейшем ссылки на это издание не даются; единичные случаи цитирования по другим изданиям оговорены особо. В случаях, когда перевод не сохранял особенностей расиновского текста, инте¬ресующих Р. Барта, в существующий перевод вносились при возмож¬ности мелкие изменения (все эти случаи оговорены особо). В случаях, когда мелкие изменения оказывались недостаточны, переводы цитат выполнялись заново: частично — E. Костюкович, частично — перевод¬чиком настоящей работы. Во всех случаях, когда имя переводчика не указано, перевод цитаты выполнен переводчиком настоящей работы.
146
Покои.
На этой географии основано особое соотно¬шение дома и внешнего мира, расиновского дворца и его окружения. Хотя все действие, согласно правилам, протекает в одной точке, мы можем сказать, что у Ра¬сина есть три трагедийных места. Имеется, во-первых, Покой. Покой ведет свое происхождение от мифологи-ческой Пещеры; это недоступное взору, наводящее страх место, где таится Власть: покой Нерона, дворец Артак¬серкса, Святая Святых, где живет иудейский Бог. Часто эту Пещеру замещает внешняя удаленность Царя (поход, отсутствие). Эта удаленность тревожна, потому что никогда не известно, жив Царь (Мурад, Митридат, Тесей) или нет. Об этом неопределенном месте персо¬нажи говорят с почтением и страхом. Они редко отва¬живаются зайти внутрь. Они в тревоге курсируют перед Покоем. Этот Покой — одновременно и обиталище Власти, и ее сущность, ибо Власть есть не что иное, как тайна: ее функция исчерпывается ее формой — Власть смертоносна потому, что она невидима. В «Баязиде» смерть приносят немые рабы и чернокожий Орхан, своим безмолвием и своей чернотой продолжая страшную не¬подвижность сокрывшейся Власти 6.
Покой граничит со вторым трагедийным местом, ко¬торым является Преддверие, или Передняя. Это неиз-менное пространство всяческой подчиненности, поскольку здесь ждут. Передняя (которая и представляет соб¬ственно сцену) — это промежуточная зона, проводящая среда; она сопричастна и внутреннему и внешнему пространству; и Власти, и Событию; и скрытому, и про¬тяженному. Зажатая между миром (место действования) и Покоем (место безмолвия), Передняя является местом слова: здесь трагический герой, беспомощно блужда¬ющий между буквой и смыслом вещей, выговаривает свои побуждения. Таким образом, трагедийная сцена не
Функция царского Покоя хорошо выражена в следующих сти¬хах из «Есфири»:
Он в глубине дворцов таит свое величье,
Не кажет никому державного обличья,
И каждый, кто ему без зова предстает,
На плаху голову отважную кладет.
(I, 3) (Пер. Б. Лившица)
147
является, строго говоря, потаенным местом 7; скорее, это слепое место, судорожный переход от тайны к излиянию, от непосредственного страха к высказываемому страху. Передняя — это угадываемая ловушка, поэтому траге¬дийный персонаж, вынужденный задержаться в Перед¬ней, почти не стоит на одном месте (в греческой тра¬гедии роль ожидающего в передней берет на себя хор; именно хор смятенно движется по орхестре — в круговом пространстве, находящемся перед Дворцом).
Между Покоем и Передней имеется трагедийный объект, который с некоей угрозой выражает одновре¬менно и смежность, и обмен, соприкосновение охотника и жертвы. Этот объект — Дверь. У Двери караулят, у Двери трепещут; пройти сквозь нее — и искушение, и пре-ступление: вся судьба могущества Агриппины ре-шается перед дверью Нерона. У Двери есть активный заместитель, требующийся в том случае, когда Власть хочет незаметно проследить за Передней или парализо¬вать героя, который находится в Передней. Этот за-меститель — Завеса («Британик», «Есфирь», «Гофолия»). Завеса (или подслушивающая Стена) — не инерт-ная материя, долженствующая нечто скрыть; Завеса — это веко, символ скрытого Взгляда, и, следовательно, Передняя — это место-объект, окруженное со всех сто¬рон пространством-субъектом; таким образом, расиновская сцена представляет спектакль в двояком смысле — зрелище для невидимого и зрелище для зрителя (луч¬ше всего эту трагедийную противоречивость выражает Сераль в «Баязиде»).
Третье трагедийное место — Внешний мир. Между Передней и Внешним миром нет никакого перехода; они соприкасаются так же непосредственно, как Передняя и Покой. Эта смежность выражена в поэтическом плане линеарностью трагедийных границ: стены Дворца спу¬скаются прямо в море, дворцовые лестницы ведут к ко¬раблям, всегда готовым отчалить, крепостные стены представляют собой балкон, нависающий прямо над битвой, а если есть потайные пути, то они уже не при-
7 О замкнутости расиновского пространства см.: Dort В. Huis clos racinien. — In: Dort B. Theatre public: Essais de critique, 1953— 1966. P.: Seuil, 1967, p. 34—40.
148
надлежат трагедийному миру; потайной путь — это уже бегство. Таким образом, линия, отделяющая трагедию от не-трагедии, оказывается крайне тонкой, почти аб¬страктной; это — граница в ритуальном значении тер¬мина; трагедия — это одновременно и тюрьма, и убе¬жище от нечистоты, от всего, что не есть трагедия.
Три внешних пространства: смерть, бегство, событие.
В самом деле, Внешний мир — это уже зона отрицания трагедии. Внешний мир объемлет три пространства: пространство смерти, пространство бегства, простран¬ство События. Физическая смерть никогда не входит в трагедийное пространство 8: это принято объяснять тре¬бованиями приличия, но вопрос в том, что же именно противоречит здесь приличиям. В телесной смерти со¬держится принципиально чуждый трагедии элемент, некая «нечистота», некая плотная реальность, которая оскорбительна, потому что она уже не относится к сфере языка — единственной сфере, которой принадлежит тра¬гедия: в трагедии никогда не умирают, ибо все время говорят. И наоборот: уход со сцены для героя так или иначе равнозначен смерти. Обращение Роксаны к Баязиду: «Немедля уходи!» — означает смертный приговор, и это образец целой серии развязок, при которых па¬лачу достаточно отослать свою жертву с глаз долой, чтобы обречь ее на гибель, как если бы сам воздух наружного мира должен был обратить ее в прах. Сколь¬ко героев умирает у Расина вот так, только потому, что они уходят из-под защиты того самого трагедийного места, в котором они, по их собственным словам, столь тяжко — «смертельно» — страдали (Британик, Баязид, Ипполит). Эту «смерть снаружи»—медленную смерть от недостатка трагедийного воздуха — особенно отчет¬ливо выражает Восток в «Беренике», где герои на протяжении всего действия стоят перед перспективой ухода в не-трагедию. В более общем случае расиновский герой, оказавшись за пределами трагедийного
8 Аталида закалывает себя на сцене, но испускает дух за сценой, это наилучшая иллюстрация того, как в трагедии разъединяются жест и реальность.
149
пространства, начинает тосковать: все реальное про¬странство становится для него непрерывной обузой (Орест, Антиох, Ипполит); тоска, здесь, разумеется, — субститут смерти; всякое поведение, отменяющее язык, ведет к прекращению жизни.
Второе внешнее пространство — пространство бег¬ства. О бегстве говорят только персонажи низшего порядка, входящие в окружение героя: наперстники и второстепенные участники действия (Акомат, Зерешь) неизменно советуют героям бежать на одном из тех бесчисленных кораблей, что курсируют на заднем плане всякой расиновской трагедии, напоминая, сколь близка и легко достижима не-трагедия9 (лишь однажды у Расина встречается корабль-тюрьма: тот, на котором пленная Эрифила влюбляется в своего похитителя). При этом Внешний мир представляет собой ритуально отмеченное пространство, т. e. пространство, закреплен¬ное за всей совокупностью не-трагических персонажей и табуированное для персонажей трагических. Внешний мир подобен инвертированному гетто, поскольку здесь табуируется широта пространства, а сжатость прост¬ранства, наоборот, является привилегией. Из трагедии во Внешний мир уходят и из Внешнего мира в трагедию приходят все эти наперсники, слуги, гонцы, матроны и стражники — представители той касты, которая приз¬вана питать трагедию событиями: их входы и выходы — не знаки и не поступки, а чистое исполнение обязан¬ностей. Если всякая трагедия подобна бесконечному (и бесконечно бесплодному) конклаву, то указанные пер¬сонажи являются услужливыми секретарями при этом конклаве: они предохраняют героя от профанирующего контакта с действительностью, избавляют его, так ска¬зать, от пошлой кухни действования и передают ему событие в очищенном виде, в качестве чистой причины. Это третья функция внешнего пространства: содержать действование в своеобразном карантине, нарушать который позволено лишь нейтральным лицам, чья функ-
9 Готовы корабли. Благоприятен ветер. («Андромаха», III, 1), (пер. И. Шафаренко и В. Шора). Да, корабли твои к отплытию го¬товы... («Береника», I, 3), (пер. Н. Рыковой). И на корабль взошел, что ждал в порту меня... («Баязид», III, 2), (пер. Л. Цывьяна).
150
ция — сортировать события, извлекать из каждого со¬бытия трагическую сущность и передавать на сцену лишь отдельные очищенные и облагороженные фраг¬менты внешней реальности — в форме новостей или рассказов (битвы, самоубийства, приезды, убийства, пиры, чудеса). Ибо в том чисто языковом мире, каким является трагедия, действование предстает крайним воплощением нечистоты.
Физическую разобщенность двух пространств — внутреннего и внешнего — лучше всего показывает лю-бопытный феномен временного искривления, вырази¬тельно описанный Расином в «Баязиде»: между време-нем Внешнего мира и временем Преддверия вклинива¬ется время Сообщения, поэтому никогда нет уверенности в том, совпадает ли событие воспринимаемое с событием совершившимся. По сути дела, внешнее событие никогда не завершено, превращение его в чистую причину ни¬когда не доведено до конца. Запертый в Передней, вынужденный довольствоваться тем питанием извне, которое приносит ему наперсник, герой живет в неизле¬чимой неуверенности: он испытывает нехватку события; ему мешает вклинивающееся время, время самого пространства. Эта вполне эйнштейновская проблема воз¬никает в большинстве трагедийных сюжетов 10. В ко¬нечном счете, строение расиновского мира — центро-стремительное: все сходится к трагедийному месту и все вязнет в трагедийном месте. Трагедийное место — место парализованное, зажатое между двумя страхами, двумя фантазмами: страхом протяженности и страхом глубины.
10 Однако же в Стамбул неблизкая дорога.
Хоть торопился я, но дней потратил много.
Бог весть, что в лагере могло произойти
За долгий этот срок, пока я был в пути.
(«Баязид», I,1) (Пер. Л. Цывьяна)
Да, наши участи решит исход сраженья,
Но действовать и мы должны без промедленья.
Пусть от врагов Мурад спасается сейчас,
Пусть победитель он — что сдерживает нас?
(«Баязид», I, 2) (Пер. Л. Цывьяна)
151
Орда.
Итак, вот первое определение трагического героя: это запертый человек. Он не может выйти: если он выйдет, он умрет. Закрытая граница — его привиле¬гия; состояние заключенности — знак избранности. Че-лядь в трагедии парадоксальным образом определяется именно своей свободой. Если вычесть челядь, в траге¬дийном месте остается только высшая каста; ее возвы¬шенность прямо пропорциональна ее неподвижности. Откуда взялась эта каста?
Некоторые авторы 11 утверждают, что в древнейшие времена нашей истории люди жили дикими ордами; каждая орда подчинялась самому сильному самцу, ко¬торый безраздельно владел женщинами, детьми и веща¬ми. Сыновья же не владели ничем; сила отца мешала им получить тех женщин — сестер или матерей, — кото¬рых они желали. Если они имели несчастье вызвать ревность отца, их убивали, кастрировали или изгоняли. И в конечном счете, по мнению этих авторов, сыновья объединились, чтобы убить отца и занять его место. После отцеубийства между сыновьями начался раздор, они яростно боролись друг с другом за право насле¬дования; и лишь после длительной братоубийственной борьбы они пришли к разумному соглашению: каждый отказался от прав на свою мать и на своих сестер. Так возник запрет на инцест.
Даже если эта история — не более, чем роман, она идеально выражает суть расиновского театра. Сведем все одиннадцать трагедий Расина к одной общей траге¬дии; расположим в едином порядке те пять десятков персонажей, которые составляют племя, населяющее расиновскую трагедию, — и мы увидим фигуры и дейст¬вия первобытной орды: отец, безраздельно владеющий жизнью сыновей (Мурад, Митридат, Агамемнон, Тесей, Мардохей, Иодай и даже Агриппина); женщины — одновременно и матери, и сестры, и возлюбленные — всегда желаемые, но редко получаемые (Андромаха, Юния, Аталида, Монима); братья, всегда враждующие из-за отцовского наследства, при том, что отец оказы-
11 Дарвин, Аткинсон и вслед за ними — Фрейд («Моисей и моно¬теизм») (Freud S. Der Mann Moses und die monoteistische Religion. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1970, S. 168.)
152
вается еще не умершим и возвращается, чтобы их покарать (Этеокл и Полиник, Нерон и Британик, Фарнак и Кифарес); наконец, сын, которого раздирают страх перед отцом и необходимость уничтожить отца (Пирр, Нерон, Тит, Фарнак, Гофолия). Кровосмешение, соперничество братьев, отцеубийство, ниспровержение сыновей — вот первоосновные коллизии расиновской драматургии.
Мы мало что знаем о происхождении этого комп¬лекса мотивов. Относятся ли они, как предполагал Дар¬вин, к древнейшему фольклорному фонду, к почти досоциальному состоянию человечества? Выражают ли они, как думал Фрейд, начальную стадию психического раз¬вития, воспроизводимую в детстве каждого из нас? Я могу лишь констатировать, что внутренняя целостность расиновского театра обнаруживается только на уровне этой древней фабулы, уходящей в самую глубь челове¬ческой истории либо человеческой души 12. Чистота языка, красоты александрийского стиха, пресловутая «психологическая точность», конформистская метафи¬зика — все это лишь очень тонкие защитные слои; архаический пласт почти просвечивает, он совсем близ¬ко. Это первобытное действо разыгрывают не персонажи в современном значении слова; эпоха Расина называла их куда точнее: действователи (acteurs). Перед нами, в сущности, маски: фигуры, чьи отличительные призна¬ки вытекают не из их гражданского состояния, а из их места в общей ситуации, в которой они заперты. Иногда они определяются функцией (например, отец противостоит сыну); иногда — степенью независимости в сравнении с крайним представителем той же породы (Пирр независимее Нерона, Фарнак независимее Кифареса, Тит независимее Антиоха, верность Андромахи гибче, нежели верность Гермионы). Поэтому расиновский дискурс оперирует большими и нерасчлененными ре-чевыми массами, как если бы все высказывания при-
12 «Расин изображает человека не таким, каков он есть; он изо¬бражает человека в таком состоянии, когда человек оказывается не¬сколько ниже самого себя и вне себя. Он берет человека в тот мо¬мент, когда родственники, врачи и стражи порядка стали бы уже беспокоиться, если бы речь шла не о театре» (М a u r o n Ch. L'In¬conscient dans l'oeuvre et la vie da Racine. Gap: Ophrys, 1957, p. 262).
153
надлежали одному и тому же лицу; по отношению к этому глубинному слову исключительно четкая шлифов¬ка словесной оболочки выступает как подлинный зов; язык Расина — афористический, а не реалистический, он явно предназначен для цитирования.
Два Эроса.
Таким образом, трагедийная единица — это не индивид, а фигура, или, еще точнее, функция, которая определяет фигуру. В первобытной орде все человеческие отношения распадаются на два основных типа: отношения вожделения и отношения власти. Именно эти типы отношений настойчиво повторяются у Расина.
У Расина есть два Эроса. Первый Эрос — тот, кото¬рый возникает между влюбленными из очень давней общности существования: влюбленные вместе росли, они любят друг друга (или он любит ее) с детства (Британик и Юния, Антиох и Береника, Баязид и Аталида); зарождение любви связано здесь с длительностью, с незаметным вызреванием; отношения влюбленных здесь так или иначе опосредованы — опосредованы временем, Прошлым, короче, некоей законностью: сами родители заложили основу для этой любви; возлюбленная здесь подобна сестре, вожделение к которой санкционировано свыше и потому умиротворено. Эту любовь можно назвать «сестринский Эрос». Такая любовь сама по себе пред¬полагает безоблачное будущее; угроза для нее может родиться лишь из враждебных внешних обстоятельств. Кажется, что ее благополучие коренится в самом ее происхождении: эта любовь согласилась возникнуть через опосредование, и потому она не обречена на гибель.
Другой же Эрос — это, напротив, непосредственная любовь. Она рождается резко и внезапно; она не терпит никакого скрытого вызревания; она является на свет как некое законченное событие, что обычно выражается в жестких формах определенного прошедшего времени passe defini (je le vis*, elle me plut** и т. д.). Такой Эрос-Событие привязывает Нерона к Юнии, Беренику к
* Я увидела его (фр.). — Прим. перев. ** Она мне приглянулась (фр.). — Прим, перев.
154
Титу, Роксану к Баязиду, Эрифилу к Ахиллу, Федру к Ипполиту. Герой захвачен врасплох этой любовью, связан ею как при насильственном похищении, при¬чем, эта захваченность всегда имеет визуальное про-исхождение (мы еще вернемся к этому): полюбить — значит увидеть. Два эти Эроса несовместимы друг с другом, человек не может перейти от одного Эроса к другому, от любви как вос-хищения (любви, всегда обреченной) к любви-длительности (любви, всегда ча¬емой). В этом состоит одна из основных форм пораже-ния для расиновского человека. Разумеется, неудач¬ливый любовник (тот, который не мог вос-хитить) всег-да может попытаться заменить непосредственный Эрос каким-то суррогатом сестринского Эроса; он может, например, перечислить все основания быть любимым 13, может попробовать ввести в неудавшиеся отношения какое-то опосредование, апеллировать к какой-то при¬чине; он может тешить себя надеждой, что длительное сосуществование бок о бок — основа сестринской люб¬ви — заставит и его возлюбленную полюбить его сест¬ринской любовью. Но все это — именно доводы, то есть язык, имеющий целью скрыть неизбежность поражения. Сестринская любовь дана скорее как утопия, как дале¬кое прошлое или далекое будущее (институциональным выражением которого является брак, имеющий такую важность для Расина). Реальный же Эрос, Эрос изобра¬женный (то есть неподвижно пребывающий на трагиче¬ской картине) — это непосредственный Эрос. И именно потому, что это Эрос-похититель, он предполагает фи¬зическую конкретность образов, оптику в изначальном смысле слова.
Мы ничего не знаем ни о возрасте, ни о красоте расиновских влюбленных. Время от времени вспыхи-
13 Открой свои глаза, сочти и разумей,
Сколь много есть причин ей стать женой твоей.
(«Береника», III, 2) (Пер. E. Костюкович)
Ужель его слова, упорные старанья
Понравиться тебе, твои благодеянья,
Великодушие и прелести твои
Не могут послужить порукою любви?
(«Баязид», I, 3) (Пер. Л. Цывьяна)
155
вают баталии из-за вопросов о том, очень ли молода Федра, насколько юн Нерон, зрелая ли женщина Береника и сохраняет ли еще Митридат мужскую при¬тягательность. Конечно, нам известны нормы эпохи; мы знаем, что «можно было объясниться в любви че¬тырнадцатилетней барышне, не нанося ей тем самым никакого оскорбления», и что «уродлива женщина, которой минуло тридцать». Но все это не так уж важно: красота у Расина абстрактна в том отношении, что она называется, а не показывается. Расин говорит: Баязид пригож, у Береники красивые руки; понятие здесь как бы делает ненужным сам предмет 14. Можно сказать, что красота здесь — норма приличия, классовый при¬знак, а не анатомический факт. Расину совершенно не важна, так сказать, телесная адъективность.
Однако Эрос у Расина (по крайней мере, непосред¬ственный Эрос, о котором и идет далее речь) никогда не сублимируется; явившись в полном вооружении из сферы чистого видения, он замирает под непрерывным гипнотическим воздействием чужого тела, бесконечно воспроизводя породившую его первоначальную ситуа¬цию (Береника, Федра, Эрифила, Нерон заново пере¬живают рождение своей любви 15). Рассказ о зарожде¬нии любви, который эти герои доверяют своим напер¬сникам, — не просто уведомление о случившемся, а сви¬детельство одержимости. Любовь у Расина — чистая завороженность; именно поэтому она так мало отлича-
14 Например:
Царевна грудь свою прекрасную пронзила...
И холод оковал прекраснейшее тело...
(«Фиваида», V, 5) (Пер. А. Косс, с изменениями)
И красота руки, и царственная стать
Позволили бы ей правительницей стать
(«Береника», II, 2) (Пер. E. Костюкович)
Царевич ведь пригож...
(«Баязид», I, I) (Пер. Л. Цывьяна)
15 Вообще говоря, рассказы отнюдь не являются мертвой частью трагедии. Наоборот, это ее фантазматическая часть, то есть в извест¬ном смысле самая глубокая.
156
ется от ненависти. Ненависть у Расина — откровенно физическая ненависть; это острое восприятие чужого тела; как и любовь, ненависть рождается из зритель¬ных ощущений, питается зрением; как и любовь, не-нависть вызывает прилив радости. Теорию этой телес¬ной ненависти Расин прекрасно изложил в своей пер-вой пьесе «Фиваида» 16.
Таким образом, фактически Расин рисует нам не же¬лание, а отчуждение. Это становится очевидным, если рассмотреть сферу сексуальности у Расина. Сексуаль¬ность расиновских героев определяется не столько при¬родой, сколько ситуацией. Сам пол персонажей под¬чинен центральной трагедийной ситуации, в основе которой лежат отношения силы. В расиновском театре нет характеров (поэтому совершенно бесплодны споры об индивидуальности персонажей, о том, кокетка ли Андромаха и настоящий ли мужчина Баязид). Есть только ситуации в самом строгом смысле слова — то есть положения. Сущность каждой фигуры всецело вы¬текает из ее места в общей расстановке сил. Разде¬ление расиновского мира на сильных и слабых, на ти¬ранов и пленников перекрывает разницу пола: то или иное положение в общем балансе сил придает муже¬ственность одним и женственность другим, безотноси¬тельно к их биологическому полу. Есть мужеподобные женщины (те, что причастны Власти: Аксиана, Агрип¬пина, Роксана, Гофолия). Есть женоподобные муж¬чины — женоподобные не по характеру, а по ситуации: Таксил, трусость которого не что иное, как мягкость, податливость силе Александра; Баязид, одновременно и пленник, и предмет вожделения, обреченный либо на смерть, либо на изнасилование (типично расиновская альтернатива); Ипполит, находящийся во власти Федры и возбуждающий ее желание, да еще к тому же дев¬ственник (Расин попытался «дефеминизировать» Ип¬полита, снабдив его возлюбленной — Арикией — но,
Теория физической ненависти изложена в «Фиваиде», IV, 1. Феодальная культура сублимировала Эрос соперников, введя их физи¬ческое столкновение в рамки рыцарского ритуала. След этой сублима¬ции мы находим в «Александре Великом» (конфликт между Александром и Пором): Александр рыцарствен — но он-то как раз и стоит вне тра¬гедии.
157
как показывают свидетельства современников, безу¬спешно: воздействие исходной ситуации было слишком сильным); наконец, Британик, которого ненавидит Нерон, тем не менее находится с Нероном в опреде-ленных эротических отношениях, наподобие любимой и истязаемой жены ''. Здесь уже перед нами намечаются очертания расиновского рока: простые отношения, воз¬никающие из чисто внешних обстоятельств (плен или тирания) обращаются в настоящие биологические ха¬рактеристики, ситуация обращается в секс, случайность — в сущность.
Расстановка сил редко меняется в трагедии, и сек¬суальные характеристики в ней, как правило, устойчивы. Но если, в порядке исключения, отношения силы на¬рушаются, если тирания слабеет, то и сексуальные характеристики начинают смещаться, меняться на противоположные. Стоит Гофолии, самой мужеподобной из всех расиновских женщин, ослабить бразды власти, поддавшись «обаянию» Иоаса, как ее сексуальность начинает волноваться; как только возникает видимость новой расстановки сил, тут же происходит и перерас¬пределение полов; Гофолия становится женщиной 18. С другой же стороны, те персонажи, которые по своему статусу находятся вне поля действия отношений силы (то есть вне трагедии), вообще не имеют пола. На¬персники, слуги, советники (например, Бурр, которому, как презрительно подчеркивает Нерон, вообще недо¬ступен Эрос 19) никогда не удостоены сексуального существования. И, разумеется, именно в самых бес-
17 Об эротических отношениях между Нероном и Британиком прямо сказано у Тацита. Что касается Ипполита, Расин сделал его влюбленным в Арикию, дабы зритель не заподозрил в Ипполите гомо¬сексуалиста.
18 Я третий день ее не узнаю, мой друг.
Она теперь не та владычица былая,
Что, слабость женскую рассудком подавляя,
Умела в нужный час опередить врага (...)
Решимость прежнюю свели на нет сомненья,
И — снова женщина — она лишилась сил.
(«Гофолия», 111, 3) (Пер. Ю. Корнеева)
19 Но о любви судить — твое ли это дело?
(«Британик», III, 1) (Пер. Э. Линецкой)
158
полых существах — в матроне (Энона) и в евнухе (Акомат) — проявляется наиболее противный трагедии дух, дух жизнелюбия и жизнестойкости: только отсут¬ствие пола позволяет рассматривать жизнь не как кри-тическое соотношение сил, но как длительность, а эту длительность — как самостоятельную ценность. Пол представляет трагедийную привилегию постольку, по¬скольку он является первым атрибутом изначального конфликта: не конфликт определяется половыми раз¬личиями, а, напротив, половые различия определяются конфликтом.
Смятение.
Итак, в основе расиновского Эроса лежит отчуждение. Отсюда следует, что расиновский подход к человеческому телу — не пластический, а магический. Как мы видели, ни возраст, ни красота не обладают у Расина плотностью: тело никогда не дается как аполлонический объект (аполлонизм для Расина неотделим от смерти; смерть делает из тела статую, то есть обла¬гороженное и приведенное в порядок Прошлое). Расиновское тело есть прежде всего волнение, смятение, беспорядок. Одежда, как мы знаем, имеет двойствен¬ную функцию: она и скрывает тело, и выставляет его напоказ. У Расина одежда призвана наглядно выявлять состояние тела: когда персонаж виновен, одежда тя¬готит его тело, когда он в смятении — одежда раз¬летается, распадается; подразумеваемый смысл этих образов — обнажение тела (Федра, Береника, Юния20),
20 Был прерван сон ее в глухой полночный час,
И как она была красива без прикрас!..
Меж грубых воинов она, полуодета...
(«Британик», II, 2) (Пер. Э. Линецкой)
Позволь мне, грудь твою и плечи я прикрою,
И волосы тебе поправлю, подниму.
(«Береника», IV, 2) (Пер. Н. Рыковой)
Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!
(«Федра», I, 3) (Пер. О. Мандельштама)
(Мандельштам О. Стихотворения. Л.: Советский писа¬тель, 1973, с. 95).
159
выставление напоказ одновременно и чьей-то (своей или чужой) вины, и собственной соблазнительности, потому что у Расина телесный беспорядок всегда таит в себе шантаж, попытку разжалобить созерцателя (иногда граничащую с разжиганием садистского инстинкта) 21. Такова скрытая функция всех телесных реакций, столь щедро упоминаемых Расином: заливающая лицо краска, побледнение, резкое чередование того и другого, уча¬щенное дыхание, наконец, слезы, эротическое воздействие которых известно; все это — двусмысленные реальности, совмещающие выражение и действие, поиск защиты и шантаж. Короче, расиновское смятение — это прежде всего знак, то есть сигнал и предупреждение.
Самое эффектное (то есть самое подходящее для тра¬гедии) волнение—то, которое затрагивает главный жизненный центр расиновского человека: его язык 22. Лишение дара речи (вообще имеющее, по предположе¬ниям некоторых авторов, сексуальную основу) — очень частый случай в расиновском мире: оно прекрасно вы¬ражает стерильность эротических отношений, их статич¬ность. Желая порвать с Береникой, Тит превращается в афатика: тем самым он одновременно и отходит от Береники и извиняется перед ней; один знак здесь эко¬номно передает два противоположных сообщения — «я слишком люблю Вас» и «я недостаточно люблю Вас». Расстаться с речью — значит расстаться с отношениями силы, расстаться с трагедией: достичь этой границы могут лишь герои крайнего типа (Нерон, Тит, Федра),
21 Оставь! Вина его — так пусть же насладится
Он этим зрелищем...
(«Береника», IV, 1) (Пер. Н. Рыковой)
22 Например:
Хотел заговорить — мне голос изменил.
(«Британии», II, 2)
(Пер. Э. Линецкой)
Но с самых первых слов — о, пытка роковая! —
Язык мой путался, немея, застывая.
(«Береника», II, 1) (Пер. Н. Рыковой)
Покинули меня и зрение, и речь...
(«Федра», I, 3) (Пер. М. Донского, с изменением)
160
причем трагедийные партнеры этих героев спешат вер¬нуть их с этой границы назад, так или иначе вынуждая их вновь обрести дар речи (Агриппина, Береника, Энона). У немоты есть мимический аналог: обморок или, по мень¬шей мере, облагороженная разновидность обморока — упадок сил. В любом случае перед нами всегда двуязыч¬ный акт: паралич-бегство стремится к отрицанию тра¬гедийного порядка, паралич-шантаж продолжает участ¬вовать в отношениях силы. Поэтому всякий раз, когда расиновский герой выказывает телесное смяте¬ние, он выказывает скрытую нелояльность по отношению к трагедии: герой лукавит с трагедией. Все эти формы поведения на самом деле стремятся обмануть трагедий¬ную реальность, они представляют собой дезертирство (впрочем, довольно двусмысленное дезертирство, по-скольку дезертировать из трагедии — возможно, означает вернуться в мир), симуляцию смерти; они представляют собой парадоксальную смерть, удобную смерть, такую смерть, из которой есть возврат. Разумеется, смятение — привилегия трагического героя, ведь только он вовлечен в отношения силы. Наперсники могут сочувствовать волнению господина, а чаще всего они стараются его успокоить; но они никогда сами не владеют ритуальным языком волнения: служанка не может упасть в обморок. Например: трагический герой не может спать (разве что он чудовище, как Нерон, спящий беспокойным сном). Аркас спит — Агамемнон бодрствует или, точнее, пре¬дается тяжелым думам, что еще более показательно (особая форма отдыха, благородная в силу своей тя¬гостности) .
В общем, расиновский Эрос сводит тела вместе только затем, чтобы их исказить. От созерцания чужого тела на¬рушается речь 23: либо она односторонне деформируется
23 Разумеется, гипнотическое воздействие чужого тела имеет место и в случаях ненависти. Вот как Нерон описывает свое отно¬шение к Агриппине:
Я с радостью иду, куда влекут желанья, (...)
Грожу и требую — когда ее здесь нет.
Я весь перед тобой, Нарцисс, как на ладони:
При ней ни мужества, ни воли нет в Нероне (...)
Так или иначе, бессильный и немой.
Пред гением ее сникает гений мой.
(«Британик», II, 2) (Пер. Э. Линецкой)
161
(становится чрезмерно продуманной), либо персонаж ее вовсе лишается. Для расиновского героя всегда оста¬ется недостижимым верное поведение в присутствии чу¬жого тела: реальный контакт всегда оборачивается по¬ражением. Так что же, расиновский Эрос никогда не бывает счастливым? Нет, бывает — именно тогда, когда он ирреален. Чужое тело — счастье только тогда, когда оно — мысленный образ; счастливые мгновенья в расиновской эротике — это всегда воспоминания.
Эротическая «сцена».
Расиновский Эрос выражается исключительно через рассказ. Воображение обязательно имеет ретроспективную направленность, а воспоминание обладает яркостью образа — вот правила, твердо опре-деляющие взаимообмен реального и ирреального. За¬рождение любви оформляется в воспоминании как на-стоящая «сцена»: воспоминание так строго организовано, что оно всегда под рукой, его можно вызвать по желанию едва ли не в любой момент. Так Нерон вновь и вновь переживает миг, когда его сразила любовь к Юнии, Эрифила — тот миг, когда она влюбилась в Ахилла, Андромаха — миг, когда перед ней впервые предстал ненавистный Пирр (ибо ненависть подчинена тем же правилам, что и любовь), Береника заново переживает триумфальное появление Тита, смятенная Федра прозре¬вает в Ипполите образ Тесея. Это своего рода транс: прошлое становится настоящим, сохраняя, однако, струк¬туру воспоминания — субъект переживает сцену, не сливаясь с ней и не отчуждаясь от нее. Классическая риторика имела в своем распоряжении особую фигуру для выражения подобной имагинации прошлого: такой фигурой была гипотипоза («Figure-toi Pyrrhus, les yeux etincelants» *). Согласно одному из риторических трак¬татов эпохи, в гипотипозе «образ становится на место предмета» 24. Вряд ли можно дать лучшее определение тому, что такое фантазм. Действительно, эти эротические
* Представь себе Пирра, с его сверкающими глазами... (фр.). — Прим. перев.
24 Lamy B. La Rhetorique ou l'Art de parler. 4me ed., revue et augmentee d'un tiers. Amsterdam: Marret, 1699, p. 121.
162
сцены — настоящие фантазмы, вызываемые сознанием для того, чтобы воскресить удовольствие или горечь и протекающие по неизменному сценарию. В расиновском театре встречается, впрочем, еще более выраженная форма эротического фантазма: сновидение. Сон Гофолии в чисто сюжетном плане— предупреждение; в мифоло¬гическом же плане это ретроспекция: Гофолия здесь попросту вновь переживает Эрос, изначально связыва¬ющий ее с отроком (то есть, опять-таки, сцену первого знакомства с Иоасом).
Одним словом, в расиновской эротике реальность постоянно обесценивается, а образ постоянно гиперт-рофируется: факт оказывается сырьем для воспоминания, воспоминание поглощает жизнь, оно захватывает 25. Пре¬имущество такой ситуации состоит в том, что эротический образ может быть выстроен. В расиновском фантазме поражает его красота. Красота эта обусловлена пласти¬ческим аспектом фантазма: похищение Юнии, пленение Эрифилы, нисхождение Федры в Лабиринт, торжество Тита и сон Гофолии — подлинные картины, то есть они намеренно подчинены нормам живописи. Мало того, что перед нами — продуманные композиции, где распо¬ложение всех персонажей и предметов тщательно опре¬делено с учетом общего эффекта. Эти композиции взы¬вают к интеллектуальному сотворчеству зрителя (и чи¬тателя) и, главное, им присуща специфичнейшая ха¬рактеристика живописи: колорит. Расиновский фантазм более всего напоминает, скажем, картину Рембрандта: в обоих случаях материя организована даже в своей имматериальности, воссоздана сама ее поверхность.
Любой расиновский фантазм предполагает — или порождает — некое сочетание света и тени. Первопри-чина тени — плен. Тирану тюрьма предстает как зате¬ненное пространство, погрузившись в которое можно найти отдохновение. Все расиновские пленницы (они есть почти в каждой трагедии) — это девы-заступницы, девы-утешительницы; они даруют мужчине дыхание (или, по крайней мере, этого ждет от них мужчина). Солнцеподобный Александр любит в Клеофиле свою
25 Как я захвачена воспоминаньем чудным!
(«Береника», I, 5)
163
пленницу; блистательный Пирр обретает в Андро¬махе последний мрак — мрак могилы, которая даст влюбленным одно общее упокоение 26; для поджигателя Нерона Юния — одновременно и тень, и вода (слезы) 27; Баязид — теневое существо, заточенное в серале; Митридат отказывается от всех своих военных походов ради одной пленницы, Монимы (этот обмен основан на прямо высказанном расчете); дочь Солнца Федра пылает вож¬делением к Ипполиту, человеку лесной тени; царствен¬ный Артаксеркс избирает робкую Есфирь, взращенную во мраке безвестности; наконец, предметом терзаний Гофолии становится узник храма Элиаким. Всюду и всегда повторяется одно и то же сочетание: беспокойное солнце и благодетельная тень.
Может быть, эта расиновская тень — не столько цвет, сколько субстанция. Тень несет счастье благодаря своей природе, в основе которой лежат однородность и, если так можно выразиться, распростертость. Тень — это гладь, ровно раскинутое покрывало. Поэтому если и возможно помыслить счастливый свет, то лишь при условии, что это будет столь же однородная субстанция. Это может быть лишь дневной свет, свет дня (le jour), но никак не солнце. Солнце смертоносно, потому что солнце — это сияние, это событие, а не среда. Тень в данном случае — не сатурническая тема; тень — это тема развязки, тема излияния; тень — это утопия расиновского героя, для которого главное зло — сжатие. Тень к тому же связана с другой изливающейся субстанцией: со слезами. По¬хититель тени — это также и похититель слез. Для Бри-
26 Могила для троих оказывается даже могилой для четверых, если учесть сцену, не вошедшую в окончательный текст:
Пирр место Гектора отныне как бы занял.
(«Андромаха», V, 3)
27 Верна страданию, в глухой тени сокрыта...
(«Британии», II, 2)
Вам от небес даны сокровища на то ли,
Чтоб вы их погребли в своей земной юдоли?
(«Британик», II, 3) (Пер. E. Костюкович)
Мне, свыкшейся давно с безвестной темной ночью...
(«Британик», II, 3) (Пер. Э. Линецкой)
164
таника, который, будучи пленником, сам принадлежит тени, слезы Юнии — не более чем свидетельство любви, умопостигаемый знак; для солнцеподобного Нерона эти слезы — нечто иное. Они питают его, подобно редкостным диковинным яствам; они уже не знак, но образ, предмет, освобожденный от собственной интенции, который ценен сам по себе, одной своей субстанцией, как некая фантазматическая пища.
Напротив, вина Солнца состоит в его прерывности, дискретности. Ежедневный восход Солнца разрывает естественную среду Ночи 28. Тень может пребывать, то есть длиться, тогда как Солнце обречено на критическое развитие, повторяемое до бесконечности снова и снова (есть природное соответствие между солнечным харак¬тером трагедийного климата и временной структурой вен¬детты, ведь структура эта основана на чистой повторяе¬мости). Рождение Солнца чаще всего совпадает с рожде¬нием самой трагедии (которая длится, как известно, один день), поэтому и Солнце, и трагедия, как правило, ста¬новятся смертоносными одновременно. Пожар, ослеп¬ление, поражение глаз — все это есть сияние: сияние Ца¬рей, Императоров. Конечно, если солнце сможет каким-то образом стать равным себе, умерить себя, устоять, тогда оно может обрести парадоксальное со-стояние: велико¬лепие. Но великолепие не принадлежит к числу собст¬венных свойств света, оно есть состояние материи: су¬ществует и великолепие ночи.
Расиновские «сумерки».
И вот мы в сердцевине ра¬синовского фантазма: в самом соотношении субстанций, составляющих образ, претворена коллизия палача и жертвы, их диалектика. Образ — это конфликт в живо¬писном, театрализованном выражении, он воспроизводит реальность через игру антиномических субстанций. Эро-тическая сцена — это театр в театре. Она стремится
28 О Солнце, светлый бог, дарящий миру день,
Зачем развеял ты сегодня ночи тень?
(«Фиваида», I, 1) (Пер. А. Косc)
Не случайно Расин писал из Юзеса в 1662 г.:
И ночи здешние прекрасней ваших дней.
165
передать самый напряженный, но и самый трудноуло¬вимый момент борьбы — тот момент, когда сияние вот-вот проникнет в тень. Ибо здесь мы наблюдаем настоящую инверсию общеупотребительной метафоры: в расиновском фантазме свет не тонет во мраке, мрак ничего не погло¬щает. Происходит обратное: мрак пронизывается светом, тень разрушается, сопротивляется и капитулирует. Именно эта напряженная неопределенность, этот кро¬хотный миг, когда солнце окружает ночь (тем самым делая ночь видимой), но еще не разрушает ее — этот миг и составляет то, что можно назвать расиновскими сумерками. Светотень — опора распознавания образов 29, дешифровки; расиновские сумерки как раз и представляют собой картину и вместе с тем театр — если угодно, живую картину — то есть застывшее движение, открытое для бесконечно возобновляющихся прочтений. Большие ра¬синовские картины 30 всегда воспроизводят эту великую мифологическую (и театральную) битву тени и света 31: с одной стороны, ночь, тени, прах, слезы, сон, безмолвие, робкая кротость, непрерывное пребывание; с другой сто¬роны — резкость и пронзительность: оружие, орлы, фас¬ции, факелы, знамена, крики, сверкающие одежды, лен, пурпур, золото, сталь, костер, пламя, кровь. Между этими двумя классами субстанций происходит взаимодействие, которое грозит перерасти во взаимообмен, чего, однако, никогда не случается; это взаимодействие можно опре-делить словами «контрастное взаимовыделение»: (Расин употребляет в этом случае именно глагол выделять (re¬lever) 32. Такое взаимовыделение и составляет формо¬образующий акт расиновских сумерек.
29 Kuhn R. Phenomenologie du Masque a travers le test de Rorschach. Bruges: Desclee de Brouwer, 1957.
30 Вот эти картины:
Похищение Юнии («Британик», II, 2).
Торжество Тита («Береника», I, 5).
Преступный Пирр («Андромаха», I, 5).
Пленение Эрифилы («Ифигения», II, 1).
Сновидение Гофолии («Гофолия», II, 5).
31 По-иному эта мифологическая битва обрисована в расинов¬ских морских картинах, изображающих горящие корабли.
32 И взор покорностью столь дивно выделялся...
(«Британик», II, 2)
166
У Расина мы обнаруживаем то, что можно назвать фетишизацией человеческих глаз 33. Понятно, откуда берется такая фетишизация. Глаза по своей природе — это свет, предаваемый тени: глаза, потускневшие в за¬точении, затуманенные слезами. Идеальное обличье расиновских сумерек — залитые слезами глаза, обра¬щенные к небу 34. Этот жест неоднократно воспроизво¬дился в живописи как символ поругаемой невинности. У Расина он, бесспорно, сохраняет указанное значение, но здесь приобретает еще и особый смысл, сугубо суб¬станциальный: свет очищается водой, утрачивает свое направленное сияние, распластывается, становится благодетельным покрывалом. И более того: само восхо¬дящее движение означает здесь, возможно, не столько сублимацию, сколько воспоминание о земле, о темноте, из которой вышли эти глаза; движение тогда оказывает¬ся схваченным во всей своей протяженности, изысканно-парадоксальным образом оно представляет нам обе стороны, участвующие в конфликте — и в удовольствии.
Теперь мы можем понять, почему подобная картина обладает способностью травмировать: как воспомина-ние, она внеположна герою, но она представляет ему конфликт, в который он непосредственно вовлечен на правах объекта. Расиновские сумерки образуют настоя¬щую фотогению — не только потому, что объект здесь очищен от инертных элементов и все в нем блестит или угасает, то есть означает; но еще и потому, что, преподносясь как картина, сумерки раздваивают действовате¬ля-тирана (или действователя-жертву), превращают его в зрителя, позволяют ему до бесконечности возоб¬новлять перед собственными глазами один и тот же садистский (или мазохистский) акт. В этом раздвоении заключается вся расиновская эротика. Нерон, чей Эрос
33 Этой проблемы касаются Ж. Мей (May G. D'Ovide a Racine, P.: P.U.F.; New Haven: Yale University Press, 1949) и Ж. Помье (Pommier J. Aspects de Racine. P.: Nizet, 1954).
34 Взгляд возведя горе, наполненный слезами...
(«Британик», II, 2)
Слезами жаждала умилостивить небо.
(«Есфирь», I, 1)
167
носит чисто имагинативный характер 35, беспрерывно разыгрывает в воображении одну и ту же сцену, участ¬никами которой являются он и Юния. В этой сцене Нерон выступает и действователем, и зрителем. Эта сцена срежиссирована им вплоть до малейших накладок, вплоть до его же собственных упущений, когда, например, он получает удовольствие от того, что запаздывает попросить у Юнии прощения за вызванные им слезы (в реальности невозможно было бы гарантировать столь точно отмеренную задержку) 36. Благодаря воспомина¬нию, Нерон получает в свое распоряжение объект, одно¬временно и вполне подвластный ему и по-прежнему не¬покорный. Если Нерону воображение позволяет свободно регулировать ритм любви, то Эрифила использует вооб¬ражение, чтобы избавить образ возлюбленного от эро¬тически нейтральных элементов: из всего облика Ахилла ей вспоминается (но зато постоянно) лишь окровавленная рука, овладевшая ею; фаллическая природа этой руки, я думаю, достаточно очевидна 37. Таким образом, расиновская картина — это всегда настоящий анамнез: герой все время пытается докопаться до источника своего поражения, но, поскольку этот-то источник и доставляет герою удовольствие, герой замыкается в прошлом. Эрос для героя — ретроспективная сила: образ бесконечно повторяется, но никогда не преодолевается.
Основополагающее отношение.
Итак, мы снова при¬шли к тому человеческому отношению, опосредованием
35 Его мучения воображать мне сладко.
(«Британик», II, 8)
36 ... Потом в своем покое
Тот образ неземной я видел пред собою —
И сколько произнес восторженных речей!
Скажу ли? По душе мне даже слез ручей,
Что льет из-за меня. Хотел просить прощенья,
Но робко умолкал...
(«Британик», II, 2) (Пер. Э. Линецкой)
37 Виновник бед моих, отчизны покоритель,
Чья длань кровавая похитила меня {...}
И в руки жадные свирепому врагу
Попалась я. В тот миг я сразу помертвела,
Затмился свет в глазах, оледенело тело.
Я стала словно труп, недвижный и немой.
Потом очнулась я, и взор туманный мой
Увидел, что рука кровавая злодея
Мой стан сжимает. Я, очей поднять не смея,
Старалась избегать, как смерти, как огня,
Ужасных глаз того, кто полонил меня.
(«Ифигения», II, I) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора, с изменениями)
Ифигения прекрасно угадывает — и это звучит поразительно в устах столь добродетельной девушки — подлинную природу любовной травмы у Эрифилы. Ревность и впрямь обостряет ее интуицию:
О, да, коварная, его вы полюбили!
Картина буйств его, что вами создана,
И длань, которая в крови обагрена,
Те смерти, тот Лесбос, тот пепел и то пламя —
Все в память врезала любовь, играя вами.
(«Ифигения», II, 5) (Пер. E. Костюкович)
168
которого является эротика. Этот конфликт имеет у Ра¬сина основополагающее значение, мы находим его во всех расиновских трагедиях. Речь идет вовсе не о лю¬бовном конфликте, где двое противостоят друг другу потому, что один любит, а другой не любит. Первоосновное отношение — отношение власти, любовь лишь проявляет его. Это отношение настолько обобщенное, настолько строгое, что я смело решаюсь представить его в виде двойного уравнения:
А обладает полной властью над В.
А любит В, но В не любит А.
Но надо еще раз подчеркнуть, что отношения любви покрываются отношениями власти. Любовные отноше-ния куда более текучи: они могут быть замаскирован¬ными (Гофолия и Иоас), проблематичными (нельзя поручиться, что Тит любит Беренику), умиротворенны¬ми (Ифигения любит своего отца) или перевернутыми (Эрифила любит своего властителя). Напротив, отно¬шения власти устойчивы и эксплицитны. Они касаются не только одной человеческой пары на протяжении одной трагедии 38; они могут фрагментарно проявляться
38 Вот главные пары, связанные отношением силы (возможны и Другие, эпизодические дуэты): Креон и Антигона. — Таксил и Ариана. — Пирр и Андромаха. — Нерон и Юния. — Тит и Береника (отношение проблематичное, или разъединенное). — Роксана и Баязид. — Митридат и Монима. — Агамемнон и Ифигения (умиротворенное отношение). — Федра и Ипполит. — Мардохей и Есфирь (умиротворенное отноше¬ние). — Гофолия и Иоас. — Это полноценные пары, предельно индивидуализированные (насколько это допускает сама природа фигуры). Но и когда отношения силы более диффузны,. они сохраняют основопо¬лагающее значение (Греки — Пирр, Агриппина — Нерон, Митридат и его сыновья, боги и Эрифила, Мардохей и Аман, Бог и Гофолия).
169
то там, то здесь; мы находим эти отношения в разно¬образных формах, иногда развернутых, иногда реду-цированных, но всегда опознаваемых. Например, в «Баязиде» отношение власти раздваивается: Мурад обла¬дает полной властью над Роксаной, которая обладает полной властью над Баязидом; в «Беренике», напротив, двойное уравнение разъединяется: Тит обладает полной властью над Береникой (но не любит ее); Береника лю¬бит Тита (но не имеет над ним никакой власти): именно такое разложение ролей на два разных лица и не дает этой пьесе развиться в настоящую трагедию. Таким образом, второй член уравнения выступает функцией первого: театр Расина — не любовный театр; тема Ра¬сина — применение силы в условиях, как правило, лю¬бовной ситуации (но не обязательно в таких условиях: вспомним Амана и Мардохея). Всю эту ситуацию в целом Расин определяет словом насилие (violence) 39. Театр Расина — это театр насилия.
Взаимные чувства А и В не имеют иного основания, кроме исходной ситуации, в которую А и В помещены силою некоей petitio principii *, произволом поэтического акта творения: один властвует, другой подчиняется, один — тиран, другой — пленник. Но эти отношения ничего бы не дали, если бы они не дополнялись настоящей смежностью: и А, и В заперты в одном и том же месте. В конечном счете, трагедию образует трагедийное про¬странство. За вычетом этого установления конфликт всегда остается совершенно не мотивированным: уже в «Фиваиде» Расин уточнил, что видимые пружины кон¬фликта (в данном случае общая жажда власти) иллю¬зорны; все это — апостериорные «рационализации». Чувство к другому направлено на сущность другого, а не на атрибуты: именно своей ненавистью друг к дру¬гу расиновские партнеры утверждают друг перед дру-
39 Насилие — «принуждение, применяемое к кому-либо, дабы за¬ставить его делать то, что он делать не хочет».
* Petitio principii (лат.) — Предвосхищение основания. — Прим. пе¬ре в.
170
гом свое бытие. Этеокл ненавидит не гордыню Полиника, а самого Полиника. Место (смежность или иерар-хия) немедленно обращается в сущность: другой отчуж¬дает меня просто тем, что другой здесь. Для Амана му¬чительно видеть Мардохея неподвижно стоящим у двор¬цовых врат; Нерон не может вынести, чтобы его мать физически находилась на том же троне, что и он. Кстати говоря, именно это здесь-бытие партнера уже чревато убийством: упорно сводимые к состоянию невыносимой пространственной стесненности, человеческие отношения могут быть просветлены только посредством очищения; надо освободить место от того, что его занимает, надо рас¬чистить пространство: другой — это упрямое тело, надо либо овладеть им, либо уничтожить его. Радикальность трагедийной развязки обусловлена простотой исходной проблемы: кажется, вся трагедия заключена в вульгар¬ной фразе на двоих места нет. Трагедийный конфликт — это кризис пространства.
Пространство замкнуто, поэтому отношение статично. Вначале все благоприятствует А, поскольку В оказался в его власти, а именно В ему и нужен. И, в каком-то смысле, большинство трагедий Расина представляют собой неосуществившиеся изнасилования: В ускользает от А только благодаря вмешательству смерти, преступления, несчастного случая или ценой изгнания; когда трагедия приводит к отказу от притязаний («Митридат») или примирению («Есфирь»), этому сопутствует смерть ти¬рана (Митридат) или искупительная жертва (Аман). Совершение убийства оттягивается потому, что перед убийцей возникает затруднительная альтернатива: А должен выбирать между умерщвлением во всей его не-приглядности и невозможным великодушием; в соответ¬ствии с классической сартровской схемой, А хочет на¬сильственно завладеть свободой В; иначе говоря, он стоит перед неразрешимой дилеммой: если он овладеет, он уничтожит — если он признает, он будет фрустрирован; он не в силах выбрать между абсолютной вла¬стью и абсолютной любовью, между изнасилованием и самоотречением. Изображением этой парализованности и является трагедия.
Хороший пример вышеописанной диалектики бесси¬лия дают долговые отношения, связующие большинство
171
расиновских пар. Признательность, витающая сперва в сферах самой возвышенной морали («Я всем обязан Вам», — говорит расиновский подданный своему тирану), оборачивается жестокой мукой и смертельной опасно¬стью. Мы знаем, какую роль в жизни Расина играла неблагодарность (Мольер, Пор-Рояль). Расиновский мир пропитан бухгалтерией; здесь все время подсчи¬тывают услуги и обязательства: например, Нерон, Тит, Баязид обязаны своей жизнью Агриппине, Беренике, Роксане: жизнь В является и фактически, и по праву собственностью А. Но именно потому, что долговые от¬ношения обязательны — поэтому они и нарушаются. Нерон убьет Агриппину именно за то, что он обязан ей троном. Математически выводимая необходимость быть признательным определяет место и время бунта: небла¬годарность — вынужденная форма свободы. Конечно, не всякий герой у Расина смело решается на откры¬тую неблагодарность. Тит обставляет свою неблагодар¬ность массой церемоний. Неблагодарность так трудно дается потому, что она — акт жизненной важности, она затрагивает самую жизнь героя. Дело в том, что про¬образ расиновской неблагодарности — сыновняя не¬благодарность: герой должен быть признателен тирану точно так же, как ребенок должен быть признателен ро¬дителям, давшим ему жизнь. Но, тем самым, быть не¬благодарным — значит родиться заново. Неблагодарность здесь — это настоящие роды (впрочем, неудачные роды). По своей внутренней форме обязательство — это путы, связывающие человека (об-вязательство), то есть, со-гласно Расину, самое невыносимое, что может быть; разорвать эти путы можно только ценой сильного потря¬сения, катастрофического взрыва.
Методы агрессии.
Таково отношение власти: это настоящая функция. Тиран и подданный связаны друг с другом, живут друг другом, они черпают свое бытие из своего положения по отношению к другому. Иначе говоря, это отнюдь не отношение вражды. У Расина никогда нет соперничества в том ритуальном смысле, который это слово могло иметь в феодальном мире или даже еще у Корнеля. Единственный рыцарственный герой расиновского театра — Александр Великий (он сам
172
описывает, с каким гурманством он разыскивает «дос¬тойного врага»40), но Александр — не трагический герой. Некоторые враги договариваются между собой быть врагами, то есть они одновременно и сообщники. Борьба здесь — не открытый бой, а сведение счетов: речь идет об игре на уничтожение.
Все агрессивные действия А имеют целью навязать В небытие. Это попытки превратить жизнь другого в жизнь нулевой величины, заставить существовать, т. e. длиться, отрицание жизни другого. Это стремление непрерывно похищать у В его существо и сделать это обокраденное состояние новым существом В. Например, А целиком создает В, извлекает его из небытия, а затем по своему желанию погружает его обратно в небытие (так поступает Роксана с Баязидом41). Или же А вы¬зывает у В кризис самотождественности: трагедийное давление по преимуществу состоит в том, чтобы вынудить другого задать себе вопрос: кто я? (Эрифила, Иоас). Или же А обрекает В на отраженное существование; известно, что тема зеркала или двойника — это всегда тема фрустрации; эта тема в изобилии присутствует у Расина: Нерон есть отражение Агриппины 42, Антиох —
40 Да, Пора я искал, но что б ни говорили,
Я вовсе не желал обречь его могиле.
Не скрою, был я рад вновь обнажить клинок.
Гром доблестных побед меня сюда привлек.
Молва о том, что Пор прослыл непобедимым,
Оставить не могла меня невозмутимым.
(«Александр Великий», IV, 2)
(Пер. E. Баевской, с изменениями)
41 Забыл, что жизнь твоя в моей пока что власти
И, если бы к тебе я не питала страсти,
Которую теперь отказ твой оскорбил,
Давно бы ты убит и похоронен был?
(«Баязид», II, 1) (Пер. Л. Цывьяна)
Я извлекла тебя из тьмы небытия;
Ступай в нее назад!..
(«Баязид», II, I)
42 Те времена прошли, когда, любимый всеми,
Слагал на плечи мне забот и власти бремя
Мой юный сын Нерон, и этому был рад.
Тогда я во дворец могла призвать сенат,
Тогда, незримая, всем правила умело...
(«Британик», 1,1) (Пер. Э. Линецкой)
173
отражение Тита, Аталида — отражение Роксаны (кроме того, у Расина существует особый предмет, выражающий эту зеркальную зависимость — завеса: А скрывается за завесой, подобно источнику зеркального изображе¬ния, который, как кажется, скрыт за зеркалом). Или же А взламывает оболочку В, действуя как при по¬лицейской акции: Агриппина хочет овладеть секретами сына; Нерон просвечивает Британика насквозь, превра¬щает его в абсолютную прозрачность; даже Арикия хочет вскрыть тайну девственности Ипполита, подобно тому, как вскрывают скорлупу 43.
Как видим, речь все время идет отнюдь не столько о кражах, сколько о фрустрациях (именно здесь можно было бы говорить о расиновском садизме): А дает, чтобы вновь отнять, — вот главный метод агрессии А. А хочет навязать В пытку прерванного наслаждения (или пре¬рванной надежды). Агриппина не дает умирающему Клавдию увидеть слезы сына; Юния ускользает от Не¬рона в тот самый миг, когда он уже считает, что крепко держит ее в своих руках; Гермиона наслаждается тем, что ее присутствие мешает Пирру соединиться с Андро¬махой; Нерон заставляет Юнию отвергнуть Британика и т. д. Расиновскому человеку мешают даже страдать, и это, быть может, главная претензия героя к небесным силам: он не может твердо положиться даже на свое несчастье — именно за это Иокаста горько упрекает богов 44. Этот принцип обманутых ожиданий получает
43 Вот если бы согнуть негнущуюся волю!
Неуязвимый дух пронзить стрелой скорбей!
Навек сковать того, кто не знавал цепей!..
Победа над каким героем знаменитым
Сравнится с торжеством любви над Ипполитом?
(«Федра», II, 1) (Пер. М. Донского)
Федра же любит Ипполита совершенно другой любовью; любов¬ный порыв становится у нее позитивно окрашенным, материнским: она хочет сопровождать Ипполита в Лабиринте, стать вместе с ним (а не вопреки ему) восприемницей тайны.
44 (О Небе:)
Так, вечно гневное, жестокости полно.
Под мнимой кротостью усилит месть оно;
Смягчит гонения, чтоб отягчить сторицей;
Длань отведет на миг, чтоб пуще разъяриться.
(«Фиваида», 111, 3) (Пер. А. Косс)
174
самое полное выражение в сне Гофолии: Гофолия про¬стирает руки к матери, чтобы обнять ее, но в объятиях у нее оказывается лишь отвратительное ничто 45. Фруст¬рация может быть также связана с отвлечением, с кра¬жей, с незаконным присвоением: Антиох, Роксана при¬нимают на свой счет знаки любви, к ним не относящейся.
Универсальное орудие всех этих уничтожающих опе¬раций — Взгляд. Вперить взор в другого — значит дезорганизовать другого и зафиксировать его в этом дезорганизованном состоянии, то есть удержать другого в самом существе его ничтожества, его недействитель¬ности. Ответная реакция В целиком содержится в слове, которое здесь воистину является оружием слабого. Имен¬но выговаривая свое несчастье, подданный пытается поразить тирана. Первый метод агрессии В — жалоба. Подданный пытается утопить тирана в жалобе. Это жалоба не на несчастье, а на несправедливость; расиновская жалоба всегда горделива и требовательна, основана на незапятнанной совести; человек жалуется, чтобы востребовать, но требует, не бунтуя; при этом он скрытым образом призывает в свидетели Небо, то есть тиран превращается в объект под взглядом Божиим. Жалоба Андромахи — образец всех этих расиновских жалоб, усеянных косвенными упреками и скрывающих агрессию под оболочкой причитания.
Второе оружие подданного — угроза погибнуть. Па¬радокс состоит в том, что поражение — организующая идея трагедии, и однако же высшая форма поражения — смерть — никогда не воспринимается участниками траге¬дии всерьез. Смерть здесь — просто имя, часть речи, аргумент в споре. Зачастую смерть — не более чем способ обозначить абсолютное выражение того или иного чувства, сверхпревосходная степень, фанфаронское сло¬вечко. Легкость, с какой персонажи трагедии оперируют понятием смерти (они гораздо чаще возвещают смерть, чем умирают на самом деле), указывает на еще инфан-
45 Простерла руки я, спеша ее обнять,
Но с трепетом узрел мой взор, к ней устремленный,
Лишь ноги, кисти рук и череп оголенный
В пыли, впитавшей кровь и вязкой, словно слизь,
Да псов, которые из-за костей дрались.
(«Гофолия», II, 5) (Пер. Ю. Корнеева)
175
тильную, незрелую стадию человеческого развития; всю эту похоронную риторику следует соотнести с максимой Киркегора: «Чем выше ставится человек, тем страшнее смерть». Трагедийная смерть не страшна, чаще всего это пустая грамматическая категория. Причем она противо¬стоит умиранию: у Расина есть только одна смерть-дли¬тельность — смерть Федры. Все прочие смерти — это, по сути, инструменты шантажа, орудия агрессии.
Имеется, во-первых, гибель, которую ищут. Это как бы стыдливое самоуничтожение, ответственность за кото¬рое перелагается на случай, на внешнюю угрозу, на небесные силы. Такая смерть совмещает привлекательные черты воинского подвига и отсроченного самоубийства. Антиох и Орест годами ищут смерть в битвах и на морях; Аталида угрожает Баязиду, что выдаст себя Роксане; Кифарес хочет искать гибели на поле брани, решив, что ему не суждено соединиться с Монимой, и т. д. Менее явную разновидность «искомой гибели» представ¬ляет собой та несколько таинственная кончина, к кото¬рой, в силу загадочных патологических процессов, приво¬дит нестерпимое страдание. Такая смерть занимает промежуточное место между болезнью и самоубийст¬вом46. На самом деле, трагедия проводит различие между смертью-избавлением и подлинной смертью: герой хочет умереть, чтоб разорвать тягостную ситуацию, и это желание он уже и называет смертью. Поэтому трагедия становится примером странного миропорядка, где о чьей-то смерти говорят во множественном числе47.
Но самая частая трагедийная смерть (потому что самая агрессивная) — разумеется, самоубийство. Само-убийство — это прямой выпад в сторону угнетателя, это самая впечатляющая демонстрация лежащей на угнета¬теле ответственности, это либо шантаж, либо наказа¬ние 48. Теория самоубийства открыто (и еще чуть наивно)
46 Есть долг, и я пойду стезей его отважно,
А выживу иль нет — не так уж это важно.
(«Береника», II, 2) (Пер. Н. Рыковой)
47 Me feront-ils souffrir tant de cruels trepas,
Sans jamais au tombeau precipiter mes pas?
(«Thebaide», III, 2).
48 У самоубийства есть риторический эквивалент: эпитроп. Это ри¬торическая фигура, посредством которой иронически призывают про¬тивника творить зло.
176
изложена Креонтом (в «Фиваиде»): самоубийство есть проба сил, и в этом смысле необходимым продолжением самоубийства является ад; пребывание в аду позволяет пожать плоды самоубийства, позволяет обеспечить продолжение страданий партнера, позволяет вновь пре¬следовать возлюбленную и т. д.49. Ад позволяет значению человека пережить самого человека, а это — важнейшая трагедийная цель. Соответственно этой цели даже подлинная смерть в трагедии никогда не бывает немед¬ленной: герою всегда дается время, чтобы высказать свою смерть; в противоположность киркегоровскому ге¬рою, классический герой никогда не исчезает, не сказав последнего слова (реальная же смерть, смерть внетеатральная, требует, наоборот, неправдоподобно короткого времени). Агрессивная природа самоубийства сполна проявляется в том субституте самоубийства, который находит Юния: становясь весталкой, Юния умирает для Нерона, и только для Нерона — это чисто избирательная смерть, нацеленная только против тирана, несущая фру-страцию ему одному. И, в конечном счете, единственная подлинная смерть в трагедии — это смерть посылаемая, то есть убийство. Когда Гермиона посылает смерть Пирру, Нерон — Британику, Мурад (или Роксана) — Баязиду, Тесей — Ипполиту, смерть перестает быть аб¬стракцией: это уже не слова, возвещающие, воспевающие или заклинающие смерть; это — предметы, реальные, зло¬вещие, витающие в трагедии с самого ее начала: яд Нерона, удавка чернокожего Орхана, царская повязка Монимы, колесница Ипполита; трагедийная смерть всег¬да направлена на другого — необходимый ее признак состоит в том, что ее приносят.
К этим главным средствам нападения (фрустрация, шантаж) следует еще прибавить вербальную агрессию.
49 Но пусть не мил тебе я буду и в аду,
Пусть сохранишь ко мне ты вечную вражду;
Пусть непрощенною останется обида —
Я следом за тобой сойду во мрак Аида,
И вечно там, где ты, пребудет тень моя.
И докучать тебе не перестану я.
Измучат иль смягчат тебя мои моленья,
Но в смерти ты уже не сыщешь избавленья.
(«Фиваида», V, 6) (Пер. А. Косс)
177
Это целое искусство, которым равно владеют и палач, и жертва. Расиновское ранение, разумеется, возможно лишь постольку, поскольку трагедия предполагает безог¬лядное доверие к языку; слово здесь наделено объектив¬ной силой, как в культурах так называемых «примитив¬ных» обществ: слово подобно удару бича. Здесь очевид¬ны два процесса, внешне противонаправленных, но одинаково вызывающих ранение: либо слово обнажает нестерпимую ситуацию, то есть магическим образом делает эту ситуацию существующей; так происходит в тех многочисленных случаях, когда невинное слово наперсника указует на скрытое неблагополучие 50; либо же речь намеренно притворна, произнесена со злым умыслом: возникающая в этом случае дистанция между спокойной вежливостью слова и желанием ранить харак-теризует типично расиновскую жестокость — холодность палача 51. Движущая сила всех этих выпадов — конечно же, воля к унижению партнера; цель всегда одна: разладить другого, расстроить его и тем самым восстано¬вить непререкаемое отношение силы, довести до макси¬мума дистанцию между властью тирана и подчинен¬ностью жертвы. Внешнее выражение этой вновь обретае-
50 Например, Дорида говорит Эрифиле о ее (Эрифилы) сопер¬нице:
Ведь Ифигения безмерно к вам добра,
Она лелеет вас как нежная сестра.
(«Ифигения», II, 1)
(Пер. И. Шафаренко и В. Шора)
Другой пример: столкнувшись с холодностью Агамемнона, решивше¬гося принести дочь в жертву, Ифигения говорит:
...Неужто вы боитесь
Воспомнить хоть на миг о том, что вы — отец?
(«Ифигения», II, 2)
Субстанциальное всемогущество имени (Ипполит) наиболее оче¬видно в «Федре» (I, 3).
51 Например, Клитемнестра говорит Эрифиле, которую она подо¬зревает в соблазнении Ахилла:
Но вас, сударыня, никто не понуждает
За нами следовать. Вас ныне ожидает
Кров, много более приятный, чем у нас...
(«Ифигения», II, 4) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора, с изменениями)
178
мой стабильности власти — триумф. Слово это в данном случае не слишком удалено от своего античного смысла: вознаграждением победителю служит возможность созер¬цать своего партнера разбитым, сведенным к состоянию объекта, вещи, распластанной перед взором, поскольку в расиновской системе категорий зрение — самая могу¬щественная способность человека 52.
Неопределенно-личная конструкция.
Особенность отношения власти — и, может быть, предпосылка наблю¬даемого нами развития расиновской «психологии» в сторону мифа — состоит в том, что это отношение функ¬ционирует в отрыве не только от какого бы то ни было общества, но и от какого бы то ни было общения. Расиновская пара (палач и жертва) ведет свою борьбу в безлюдном, пустынном универсуме. Вероятно, эта-то отвлеченность и способствовала распространению леген¬ды о театре чистой страсти; Наполеон не любил Расина потому, что видел в нем слащавого живописца амурных томлений. Чтобы измерить все одиночество расиновской пары, достаточно вспомнить Корнеля (в который раз обращаясь к этой вечной параллели): у Корнеля мир (понимаемый как более широкая и диффузная реаль¬ность, нежели просто общество) окружает трагедийную пару самым непосредственным и настоятельным обра¬зом: мир есть препятствие или вознаграждение, короче,
52 Смотрел, как я бледна от мук и от скорбей, Чтоб над моей бедой смеяться вместе с ней. («Андромаха», IV, 5)
(Пер. E. Костюкович)
За униженье я себя вознагражу.
Когда сопернице, ликуя, покажу
Ее любимого безжизненное тело,
Увижу, как она от горя помертвела.
Ее отчаянье согреет душу мне... («Баязид», IV, 5)
(Пер. Л. Цывьяна)
Злодея увидать мне хочется самой,
Его смятением упиться и позором. («Баязид», IV, 6)
(Пер. Л. Цывьяна, с изменением)
179
мир есть значимая величина. У Расина же трагедийное отношение не имеет отзвука извне, оно существует в ис¬кусственно созданном вакууме, оно замкнуто само на себя: оно глухое. Каждого из двух касается лишь дру¬гой — то есть он сам. Слепота расиновского героя по отношению к другим почти маниакальна: ему кажется, что все происходящее в мире имеет в виду лично его; все искажается и превращается в нарциссическую пищу: Федра считает, что Ипполит влюблен во всех на свете, кроме нее самой; Аману кажется, что весь мир склонился перед ним, кроме Мардохея; Орест полагает, что Пирр собирается жениться на Гермионе нарочно, чтобы Гермиона не досталась ему, Оресту; Агриппина уверяет себя в том, что Нерон преследует именно тех, кого поддерживает она; Эрифила думает, что боги благоприятствуют Ифигении единственно для того, чтобы мучить ее, Эрифилу.
Таким образом, по отношению к герою мир предстает почти недифференцированной массой: греки, римляне, янычары, предки, Рим, государство, народ, потомки — все эти общности не имеют никакой политической реальности; это некие объекты, предназначение кото¬рых — эпизодически, в зависимости от требований момента, устрашать или оправдывать героя, поддавшего¬ся устрашению. Функция расиновского мира — вынесе¬ние приговоров: мир наблюдает за героем и постоянно грозит герою осуждением, поэтому герой живет в пани¬ческом страхе перед тем, что станут говорить. Почти все уступают этому страху (Тит, Агамемнон, Нерон); и только Пирр, самый независимый из расиновских героев, преодолевает свой страх. Мир для расиновских героев — угроза, страх, мертвый груз, безликая санкция, которая окружает их, фрустрирует их; мир — это нрав¬ственный фантазм, внушающий ужас, что, однако, не мешает использовать его при необходимости в собствен¬ных интересах (так действует Тит, добиваясь отъезда Береники), и, кстати говоря, именно это двуличие сос¬тавляет сущность «нечистой совести» в театре Расина 53.
53 Кажется, и сам Расин всю жизнь (за исключением двух по¬следних лет) ощущал мир как общественное мнение: он сформировал себя под взглядом сильных мира сего и всегда писал с нескрываемой целью обратить на себя этот взгляд.
180
Словом, мир для расиновского героя — это общественное мнение, одновременно и террор, и алиби 54.
Неудивительно, что анонимность мира, его неразличенность, его сугубая усеченность (мир есть голос, и ничего больше) находят наилучшее выражение в неопре¬деленных грамматических конструкциях, во всех этих ни к чему не обязывающих местоимениях (on, ils, chacun)*, которые непрерывно напоминают бесчисленными оттен¬ками, что расиновский герой — это одиночка во враж¬дебном мире, о точном наименовании которого он не желает задумываться; неопределенно-личное местоиме¬ние on обволакивает героя, сдавливает его, но кто эти са¬мые on — неизвестно; on — это грамматическое обозначе¬ние агрессивной силы, которую герой не может или не хочет локализовать. Более того, при помощи местоимения on герой нередко обвиняет своего партнера: аноним¬ность упрека позволяет упрочить позицию героя. В расиновской системе спряжения категория лица наполняет¬ся совершенно особым смыслом: я всегда предельно гипертрофировано, раздуто, готово лопнуть и разлететься на куски (например, в монологе); ты — лицо-агрессор и объект открытого контрнаступления (Коварный!); он — лицо обманутых надежд, лицо дистанцирования, это лицо используется в ту минуту, когда о любимом существе начинают говорить с напускной холодностью, прежде чем прямо идти на него войной (неблагодар¬ный); вы — парадное лицо, лицо признания в чувствах или скрытого нападения (Сударыня); наконец, они или on обозначают, как мы видели, рассредоточенную агрес¬сию 55. В расиновской системе спряжения отсутствует
54 У Корнеля окружающий мир — такой заметный, столь высоко ценимый — никогда не предстает в виде общественного мнения. До¬статочно сравнить тон корнелевского Тита с тоном расиновского Тита:
Быть вашим навсегда — нет чести выше этой (...) И пусть господствует над Римом кто захочет!
(«Тит и Береника», III, 5)
* On — неопределенно-личное местоимение, не имеющее аналога в русском языке; ils 'они', chacun 'каждый'. — Прим. перев.
Обращенная к Гермионе мольба Андромахи (III, 4) позволяет на небольшом пространстве увидеть целую изощренную игру место¬имений:
181
только одно лицо: мы. Расиновский мир необратимо расколот: местоимение-посредник здесь неизвестно.
Раскол.
Здесь надо напомнить, что раскол — осново¬полагающая структура трагедийного универсума. Более того, раскол — это отличительный знак, привилегия трагедии. Внутренне расколотым может быть лишь траги-ческий герой: наперсники и челядь никогда не взвеши¬вают «за» и «против»; они продумывают разнообразные действия, но не альтернативы. Расиновский раскол — это всегда раскол надвое, третьего здесь никогда не дано. Это простейшее разделение, несомненно, воспроизводит христианскую идею56; но, если говорить о Расине как светском писателе, в нем нет манихейства, бинарная оппозиция здесь — чистая форма: важна сама дуальная функция, а не ее члены. Расиновский человек раздираем не между добром и злом: он просто раздираем, и этого достаточно. Его проблема лежит на уровне структуры, а не на уровне личности 57.
Наиболее очевидным образом раскол проявляется в сфере я. Я чувствует, что находится в постоянной борьбе с самим собой. Любовь здесь оказывается катализато-
Сударыня, куда вы?: церемонность и иронический выпад.
Несчастную вдову: Андромаха объективируется, чтобы доставить удовлетворение Гермионе.
Сердце, готовое во власть отдаться ваших чар — превращает Пирра в нейтральный, отдаленный объект, не связанный с Андро¬махой.
Как любим мы детей — тактический прием: апелляция ко всемир¬ной общности матерей.
Когда его отнять и погубить хотят — подразумеваются, но не называются греки, мир (используется неопределенно-личное место¬имение on).
56 См., например, 7-ю главу Послания к Римлянам, переложен¬ную Расином в духовное песнопение:
Во мне сошлись на битву двое.
О, Боже, где найду покой?
(«Духовные песнопения», 3) (Пер. М. Гринберга) Цит. по: Мориак Ф. Жизнь Жана Расина; Нерваль Ж. де. Испо¬ведь Никола; Виньи А. де. Стелло, или Синие демоны. М.: Книга, 1988, с. 94.
Надо ли напоминать что раскол — первая характеристика невротического состояния: «я» всякого невротика раздроблено, и по¬этому его отношения с реальностью ограничены (N u n b e r g H. Princi¬pes de psychanalyse. P.: P.U.F., 1957).
182
ром, который ускоряет кристаллизацию обеих половин. Раскол требует выражения и обретает его в монологе. Расиновский монолог обязательно членится на две проти¬воположные части (Ах, нет... Но что я?.. и т. д.); он представляет собой переживание раскола через слово, а не подлинное размышление58. Дело здесь в том, что герой всегда чувствует, что он движим некоей внепо¬ложной ему потусторонней, далекой и страшной силой, чьей игрушкой он себя ощущает. Эта сила может раско¬лоть даже время его личности, может отнять у него даже память59, и эта сила достаточно могущественна, чтобы вообще перевернуть его существо, например, заставить его перейти от любви к ненависти 60). Следует добавить, что раскол — нормальное состояние раси-новского героя; герой обретает внутреннее единство лишь в моменты экстаза, парадоксальным образом имен¬но тогда, когда он вне себя: гнев сплавляет воедино это разорванное я61.
Естественно, раскол распространяется не только на я, но и на фигуру (в вышеопределенном мифологи-ческом смысле термина); расиновский театр полон двойников, которые постоянно выводят раскол на уровень зрелища: Этеокл и Полиник, Таксил и Клеофила, Гектор и Пирр 62, Бурр и Нарцисс, Тит и Антиох, Кифарес и Фарнак, Нерон и Британик и т. д. Как мы вскоре увидим,
58 Мнимому размышлению расиновского героя следует противопо¬ставить действительное размышление царя Даная в «Просительни¬цах» Эсхила. Не будем, однако, забывать, что Данай должен вы¬бирать между миром и войной, а Эсхил считается архаическим поэтом!
59 Гермиона забывает, что она сама велела Оресту убить Пирра. («Андромаха», V, 5)
60 Например:
Любила слишком я, чтоб не возненавидеть.
(«Андромаха», 11, 1)
61 Вы стали вновь собой; сей благородный пыл
И вам, и Греции вас ныне возвратил.
(«Андромаха», II, 5)
Мой гнев вернулся вновь — и вновь я стал собой.
(«Митридат», IV, 5)
62 Несмотря на существующее пренебрежительное отношение к этой интерпретации, я убежден, что Гектор и Пирр коррелируют в глазах Андромахи.
183
раскол, сколь бы мучителен он ни был, позволяет герою худо-бедно разрешить свою главную проблему: пробле¬му верности. Будучи расколот, расиновский человек оказывается как бы депортирован вдаль от своего личного прошлого к некоему внешнему прошлому, не им прожитому. Болезнь расколотого героя состоит в том, что он не верен себе и слишком верен другому. Можно сказать, что герой принимает внутрь себя тот раскол, который он не осмеливается навязать другому: припаян¬ная к своему палачу, жертва частично отрывается от самой себя. Поэтому раскол одновременно и спасает жизнь жертвы, позволяет ей жить: ценой раскола жертва поддерживает себя; раскол здесь — двусмысленное выра¬жение и болезни, и лекарства.
Отец.
Кто же этот другой, от которого герой не может отделиться? Прежде всего, наиболее очевидным образом, это Отец. Нет трагедии, где бы не присутствовал Отец, — реально или виртуально 63. Определяющий признак От¬ца — не кровь, не пол 64, даже не власть; его опреде¬ляющий признак — предшествование. Что пришло после Отца, то вышло из Отца; здесь неотвратимо возникает проблема верности. Отец — это прошлое. Его сущность лежит гораздо глубже любых его атрибутов (кровь, власть, возраст, пол). Именно поэтому Отец у Расина — всегда и воистину абсолютный Отец: изначальный,
63 Отцы в расиновском театре: «Фиваида»: Эдип (Кровь). — «Александр Великий»: Александр (Отец-бог). — «Андромаха»: греки, Закон (Гермиона, Менелай). — «Британик»: Агриппина. — «Береника»: Рим (Веспасиан).—«Баязид»: Мурад, старший брат (полномо¬чия которого переданы Роксане). — «Митридат»: Митридат. — «Ифигения»: греки, боги. (Агамемнон) — «Есфирь»: Мардохей. — «Гофолия»: Иодай (Бог).
64 И Митридат, и Мардохей (не говоря уже об Агриппине) оли¬цетворяют и отца, и мать одновременно.
Ведь сызмальства я рос, прильнув к его груди.
(«Митридат», IV, 2)
Отца и матери лишилась рано я,
Но он, исполненный любовью нежной к брату,
Решил восполнить мне родителей утрату.
(«Есфирь, I, 1)
(Пер. Б. Лившица)
184
необратимый факт, выходящий за рамки природного порядка. Что было, то и есть — вот закон расиновского времени 65: в этой тождественности и состоит для Расина все несчастье мира, обреченного на неизгладимость, на неискупимость. В этом смысле Отец бессмертен: его бессмертие выражается не столько продолжительностью жизни, сколько возвращением; Митридат, Тесей, Мурад (в обличье чернокожего Орхана) возвращаются из смерти, напоминают сыну (или младшему брату, это одно и то же), что Отца невозможно убить. Сказать, что Отец бессмертен — значит сказать, что Предшество¬вавшее не уходит: когда Отец отсутствует (временно), все распадается; когда он возвращается, все отчуждает¬ся; отсутствие Отца порождает беспорядок; возвращение Отца утверждает вину.
Кровь, играющая столь важную роль в расиновской метафизике, — не что иное, как расширенный субститут Отца. И в том и в другом случае речь идет не о биологи¬ческой реальности, а прежде всего о некоей форме: Кровь — это тоже предшествование, но только более рас¬сеянное, и потому более страшное, чем Отец. Кровь — это транстемпоральное Существо, которое держит и дер¬жится, подобно тому, как держит и держится дерево; то есть оно длится как некий монолит, а при этом оно овладевает, удерживает, связывает. Кровь — это связь и закон, то есть Легальность в буквальном значении слова. Сын не может выпутаться из этих уз, он может только разорвать их. Мы вновь оказываемся перед изначальным тупиком отношений власти, перед катастро¬фической альтернативой расиновского театра: либо сын убьет Отца, либо Отец уничтожит сына; детоубийства не менее часты у Расина, чем отцеубийства 66.
65 О расиновском времени см.: Poulet G. Etudes sur le temps humain, IV. Mesure de l'instant. P.: Plon, 1968, p. 55—78.
66 В XVII в. слово «отцеубийство» (parricide) обозначает покуше¬ние на всякую власть (на Отца, Суверена, Государство, Богов). Что касается детоубийств, они встречаются почти во всех пьесах Расина:
Эдип обрекает сыновей на самоубийственную ненависть.
Гермиона (греки, Прошлое) организует убийство Пирра.
Агриппина не дает дышать Нерону.
Веспасиан (Рим) отнимает у Тита Беренику.
185
Неискупимая борьба между Отцом и сыном — это борьба между Богом и тварью. Впрочем, речь идет о Боге или о богах? Как известно, в расиновском театре сосу¬ществуют две мифологии: античная и иудейская. Но на самом деле языческие боги нужны Расину лишь как гонители и милостивцы. Налагая на чью-то Кровь про¬клятие, боги лишь гарантируют неискупимость прошлого: за множественностью богов скрывается единая функция, точно совпадающая с функцией иудейского Бога: отмще¬ние и воздаяние. Однако у Расина это воздаяние всегда превышает вину 67: расиновскому Богу, так сказать, еще неведом сдерживающий закон «око за око, зуб за зуб». Единственный и истинный расиновский Бог — не гре¬ческий Бог и не христианский. Расиновский Бог — это Бог ветхозаветный, в своем буквальном и как бы эпи¬ческом воплощении: это Яхве. Все расиновские конфлик¬ты строятся по единому образцу. Образец этот задан парой, которую составляют Яхве и его народ. И там и здесь отношение определяется взаимным отчуждением: всемогущее существо лично привязывается к своему под¬данному, защищает и карает его по собственному капризу, удерживает его посредством вновь и вновь повторяющих¬ся ударов в положении избранного члена нерасторжи¬мой пары (богоизбранность и трагедийная избранность равно страшны). В свою очередь, подданный испытыва¬ет к своему властелину паническое чувство привязан¬ности, смешанной с ужасом, что, впрочем, не исключает и готовности схитрить, слукавить. Короче, сын и Отец, раб и властелин, жертва и тиран, возлюбленный и возлюбленная, тварь и божество связаны безысходным диалогом, лишенным какого-либо опосредования. Во всех этих случаях мы имеем дело с непосредственным отноше¬нием, не знающим ни бегства, ни трансцендирования, ни прощения, ни даже победы. Язык, которым раси-
Митридат и его дети.
Агамемнон и Ифигения.
Тесей и Ипполит.
Гофолия и Иоас.
Кроме того, дважды в расиновских пьесах мать шлет проклятие сыну: Агриппина — Нерону (V, 7), Гофолия — Иоасу (V, 6). 67 И гнев его всегда любви его сильней. («Митридат», I, 5)
186
новский герой говорит с небом, — это всегда язык битвы, одинокой битвы; либо это ирония 68, либо препирательст¬во 69, либо кощунство 70. Расиновский Бог существует в меру своей злонамеренности: он — людоед, наподобие самых архаичных божеств 71; его обычные атрибуты — несправедливость, фрустрация 72, противоречие . Но Существо его — Злоба.
Переворот.
Здесь надо напомнить, что движущий принцип трагедийного зрелища тот же, что у всякой про-виденциалистский метафизики: это принцип переворота. Перемена всех вещей в их противоположность — это одновременно и формула божьего промысла, и жанро-
68 Вот справедливость их, всевидящих богов!
(«Фиваида», III, 2) (Пер. А. Косс)
69 Оракул требует ее невинной крови?
Кто толковал его? Калхас? Да разве внове,
Что смысл пророчества бывает искажен?
Кто мне поручится, что верно понят он?
(«Ифигения», IV, 4)
(Пер. И. Шафаренко и В. Шора)
70 Еврейский Бог, ты снова победитель!
(«Гофолия», V, 6) (Пер. Ю. Корнеева)
71 Угодней небесам кровь одного героя,
Чем кровь преступников, текущая рекою.
(«Фиваида», III, 3) (Пер. А. Косс)
Бросался всюду я навстречу верной смерти.
За ней отправился я к скифским племенам,
Что кровью пленников свой освящают храм.
(«Андромаха», II, 2)
(Пер. И. Шафаренко и В. Шора)
Едва лишь возомню, что милость мне дана,
Что небо наконец дарует нам прощенье,
Как новые оно дарует мне мученья.
(«Фиваида», III, 3) (Пер. А. Косс)
73 Вот справедливость их, всевидящих богов!
Они доводят нас до грани преступленья,
Велят свершить его и не дают прощенья!
(«Фиваида», III, 2) (Пер. А. Косс)
187
образующий принцип трагедии 74. В самом деле, пере¬ворот — основополагающая фигура всего расиновского театра, как на уровне отдельных ситуаций, так и на уровне пьесы в целом (например, «Есфири»). Мы стал¬киваемся здесь с навязчивой идеей «двумерного мира»: универсум состоит из чистых противоположностей, лишенных какого бы то ни было опосредования. Бог или низвергает, или возвышает — таков монотонный ход творения. Кажется, что Расин строит весь свой театр по этой форме (которая является в изначальном смысле слова перипетией) и лишь потом, задним числом, насы¬щает пьесу так называемой «психологией». Конечно, речь идет об очень древней теме: пленница, ставшая царицей, или тиран, лишившийся царства, — древнейшие сюжеты; однако у Расина эта тема не превращается в «историю», она лишена эпической плотности; она существует у него именно как форма, как навязчивый образ, который может быть наполнен самым различным содержанием. Объект переворота — не часть, а целое: герою кажется, что все вокруг вовлечено в это непрекращающееся качание коромысла, весь мир дрожит и колеблется под бременем Судьбы, причем это давление Судьбы не есть какое-то формообразующее давление: Судьба давит на мир не для того, чтобы оттиснуть, отштамповать, отчеканить в бес¬форменном материале некую новую форму; наоборот, Судьба всегда устремляется на уже упорядоченную ситу¬ацию, обладающую определенным смыслом, обликом (ли¬цом) 75: переворот обрушивается на мир, уже сотворен-
74 Теория трагедийного переворота восходит к Аристотелю. Один историк недавно попытался выявить социологическое значение этой теории: ощущение переворота (перемена всех вещей в свою проти¬воположность, по выражению Платона) оказывается характеристикой общества, ценности которого дезорганизованы и опрокинуты резким переходом от натурального хозяйства к меркантилизму, т. e. стреми¬тельным возвышением роли денег (Греция V в. до н. э., елизаветин-ская Англия). В своем изначальном виде это объяснение не годится, когда речь идет о французской трагедии. Оно должно быть опосре¬довано идеологическим объяснением, как это сделано у Л. Гольдмана (см.: Thomson G. Marxism and Poetry. L.: Lawrence and Wishart, 1945).
75 Эта монолитность переживаемой ситуации выражается через такие формулы, как: противу меня все, все объединилось; все обернулося ко мне другим лицом и т. д.
188
ный некоей разумной силой. Переворот всегда имеет низвергающую направленность (за исключением траге¬дий на священные сюжеты); он перемещает вещи сверху вниз, его образ — падение 76 (можно предположить, что в расиновском воображаемом заметную роль играют обра¬зы, нисхождения; основания для такого предположения дает хотя бы третье из «духовных песнопений» 77, вспом¬ним также наш анализ расиновских сумерек). Перево¬рот — чистый акт, не имеющий никакой длительности; это точка, миг, проблеск молнии (классицистический язык обозначает его словом удар (coup); можно сказать, что перевороту присуща симультанность 78: герой, пора¬женный ударом Судьбы, совмещает в своем душеразди¬рающем восприятии два состояния — прежнее, которого он лишился, и новое, уготованное ему отныне. По сути дела, и в этом случае, как и в случае с расколом, созна¬ние жизни есть не что иное, как сознание переворота: быть — значит не только быть расколотым, но и быть опрокинутым.
При этом вся специфика трагедийного переворота состоит в его точной выверенности, можно сказать,
76 Теорию падения излагает Зерешь, жена Амана:
Какою ты еще пленился высотой?
Я пропастей страшусь, разверстых предо мной:
Падение должно отныне быть ужасным.
(«Есфирь», III, I) (Пер. Б. Лившица)
(Два человека, составляющих я):
Один, свободный, чуждый тлена,
К высотам горним устремлен,
Но тщетно призывает он
Презреть желанья плоти бренной;
Его не слышу: неизменно
Другим к земле я пригнетен.
(Духовные песнопения, 3) (Пер. М. Гринберга)
Цит. по: Мориак Ф. Жизнь Жана Расина; Нерваль Ж. Де. Испо¬ведь Никола; Виньи А. де. Стелло, или Синие демоны. М.: Книга, 1988, с. 94.
78 Своеобразный вневременной характер переворота резко подчер¬кивается правилом единства времени (это еще раз показывает, до какой степени правила являются живым выражением целостной идео¬логии, а не простыми условностями):
Не странно ли? Меня в один и тот же день... («Британик», II, 3)
189
вычисленности. Основной его принцип — симметрия. Судьба обращает всякую вещь в собственную противо¬положность как бы через зеркало: мир остается тем же, но все его элементы поменяли свой знак на противо¬положный. Осознание этой симметрии и ужасает сражен¬ного героя: герой видит верх (le comble) перемены именно в этой разумности, с которой фортуна переме¬щается с прежнего места на строго противоположное; герой в ужасе видит, что мир управляется по точным законам: трагедия для него—это искусство точного по¬падания, выражаемого словом именно (precisement) (это не что иное, как латинское ipse, обозначающее сущность вещи 79). Короче, мир управляется злой волей, умеющей найти в человеческом благополучии негативную сердце¬вину. Структура трагедийного мира прочерчена таким образом, что этот мир вновь и вновь погружается в не¬подвижность; симметрия — зримое выражение неопосредованности, поражения, смерти, бесплодия 80.
Злоба всегда точна, и расиновскую трагедию мож¬но назвать «искусством злобы». Бог действует по зако-
79 Трагедийное именно выражается союзом когда или конструк¬цией «когда... (высказывание о верхе достигнутого.) — тогда... (выска¬зывание о падении)». Это аналог латинского «cum... tum», выражаю¬щего вместе и противительные, и временные отношения (одновремен¬ность). Имеется огромное количество примеров с использованием и других грамматических форм.
Итак, я приплыла за тридевять земель,
Лишь чтоб убить его и с тем отплыть отсель!
(«Андромаха», V, I) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора, с изменением)
и т. д.
Многочисленны также примеры на уровне целостных ситуаций. Перечислю наугад: Британик доверяется именно Нарциссу; Эрифила должна погибнуть именно тогда, когда она узнает о своем происхож¬дении; Агамемнон обрекает свою дочь на смерть именно тогда, когда она радуется его доброте; Аман низвергается в бездну именно тогда, когда он мнит себя на вершине славы; Аталида губит возлюбленного именно потому, что хочет его спасти, и т. д.
80 Не стремясь проводить далеко идущие параллели между сфе¬рой эстетической или метафизической и сферой биологической, все же позволю себе напомнить, что все живое существует благодаря асимметрии.
«Некоторые элементы симметрии могут сосуществовать с некото¬рыми феноменами, но элементы эти не являются необходимыми. Необходимо другое: чтобы отдельные элементы симметрии отсутст¬вовали. Всякий феномен создается асимметрией» (Пьер Кюри).
190
нам симметрии; именно благодаря этому Бог создает спектакль81. Злая воля Бога имеет эстетическое измере¬ние: Бог дает человеку возможность насладиться велико¬лепным зрелищем — зрелищем собственного падения. Эта реверсивная игра имеет и риторическое выражение: антитезу, и стиховое выражение: удар (la frappe) 82 (со¬вершенно очевидно, что александрийский стих изуми¬тельно поддерживает двучленное строение расиновского мира 83). Бог как организатор трагедийного зрелища обозначается именем «Судьба». Теперь мы понимаем, что такое расиновская Судьба: это не совсем Бог, это посюстороннее обличье Бога, это эвфемизм, позволяю¬щий не указывать на злобность Бога. Слово «Судьба» позволяет трагическому герою частично обманывать себя в том, что касается источника несчастий. Говоря о Судьбе, герой признает неслучайность своего несчастья, указывает на его пластическое содержание, но уклоняется от решения вопроса о чьей-то личной ответственности за это несчастье. Действие стыдливо отъединяется от своей причины. Это парадоксальное абстрагирова¬ние оказывается легко объяснимым, если мы учтем, что герой умеет разъединять реальность Судьбы и сущ¬ность Судьбы. Он предвидит реальность Судьбы, но он
81 Иль боги тешатся, преступников творя
И славу горькую страдальцев им даря?
(«Фиваида», III, 2) (Пер. А. Косс)
И в предисловии к «Есфири»:
«Я(...) надеялся заполнить все мое сочинение лишь теми сцена¬ми, которые, так сказать, уготовил к тому сам Бог». (Пер. Б. Лив¬шица)
82 Клодель о Расине:
«Именно так: ударить, выбить. Подобно тому, как говорят: выбить пробку у шампанского, выбить новую монету, бить не в бровь, а в глаз... то, что я назвал бы выстрелом очевидности» (Claudel P. Con¬versation sur Jean Racine. P.: Gallimard, 1956, p. 31).
83 Антитеза — фигура, старая, как мир; александрийский стих — общее достояние целой цивилизации. Спору нет: количество форм всегда ограничено. Это, однако, не мешает той или иной форме при¬обретать специфический смысл. Критика не может отказаться от по¬исков этого смысла под тем предлогом, что данная форма имеет всеобщий характер. Жаль, что мы до сих пор не располагаем «фило¬софией» александрийского стиха, социологией метафоры или феноме-нологией риторических фигур.
191
не ведает ее сущности. Или, еще точнее, он предвидит самое непредвиденность Судьбы, он переживает Судьбу реально, как форму, как ману 84, он добровольно погру¬жается в эту форму, он ощущает самого себя — чистой и длящейся формой 85, и этот формализм позволяет ему стыдливо отвернуться от Бога, нисколько от Бога не отрекаясь.
Вина.
Таким образом, трагедия по сути своей — это тяжба с Богом, но тяжба бесконечная, тяжба, в ходе которой наступает перерыв и переворот. Весь Расин заключен в той парадоксальной минуте, когда ребенок узнает, что его отец дурен, и однако же отказывается отречься от своего отца. Из этого противоречия имеется лишь один выход (который и есть сама трагедия) : сын должен взять на себя вину Отца, виновность твари должна оправдать божество. Отец несправедливо му¬чает тебя: достаточно будет заслужить его гнев задним числом, и все мученья станут справедливыми. Пере¬носчиком этой «ретроспективной вины» как раз и явля-ется Кровь. Можно сказать, что всякий трагический герой рождается невинным: он делает себя виновным, чтобы спасти Бога 86. Расиновская теология — это ин¬версия искупления: человек здесь искупает Бога. Те-перь становится очевидной функция Крови (или Судь¬бы): она дает человеку право быть виновным. Винов-ность героя — это функциональная необходимость:
84 Судьба — имя силы, воздействующей на настоящее или буду¬щее. По отношению к прошлому мана уже приобрела законченное со¬держание, поэтому здесь применяется другое слово: участь.
85 Ср. характерное расиновское исправление:
Итак, судьбе во власть предавшись беззаветно — вместо первоначального:
Итак, страстям во власть предавшись беззаветно
(«Андромаха», I, I) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора,
с изменениями)
86 Сколь добродетельной я ни держусь дороги,
Меня преследуют безжалостные боги.
А коли так — теперь, отчаянье презрев,
Я стану делать все, чтоб оправдать их гнев.
(«Андромаха», III, 1) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора, с изменениями)
192
если человек чист, значит, нечист Бог, и мир распада¬ется. Поэтому человек должен беречь свою вину, как самое драгоценное достояние; самый же верный способ стать виновным — взять на себя ответственность за то, что было вне тебя, до тебя. Бог, Кровь, Отец, За¬кон — все это есть Предшествование, Предшествование становится обвинительным по своей сущности. Эта форма абсолютной виновности имеет известное сходство с так называемой «объективной виновностью», как она пони¬мается в тоталитарной политике: мир есть трибунал; если подсудимый невиновен, значит, виновен судья; следовательно, подсудимый берет на себя вину судьи 87. Теперь мы видим подлинную природу отношения власти. Дело не просто в том, что А силен, тогда как В слаб. Дело еще и в другом: А виновен, В невиновен. Но поскольку невыносимо, чтобы власть была неправед¬ной, В берет на себя вину А: отношение угнетения пере¬ворачивается и обращается в отношение наказания, что, впрочем, не мешает продолжению того обмена кощунствами, выпадами и примирениями, который не¬прерывно идет между двумя партнерами. Ибо признание В своей виновности — это не великодушное самопо¬жертвование: это боязнь открыть глаза и увидеть ви¬новного Отца 88. Эта механика виновности лежит в осно¬ве всех расиновских конфликтов, в том числе и любов¬ных: у Расина существует лишь одно отношение — от¬ношение Бога и твари.
«Догматизм» расиновского героя.
Этот страшный союз основан на верности. По отношению к Отцу герой испытывает подлинный ужас увязания: герой вязнет в собственном предшествовании, как в густой массе,
87 Феодальные отношения в древнем Китае: «Чужаку отдают пре¬имущество над собой лишь при условии, что он совершит проступок; узы преданности возникают из проступка, который „должен" быть со¬вершен, и из прощения, получение которого является целью проступка» (Granet M. Categories matrimoniales et relations de proximite dans la Chine ancienne. P.: Alcan, 1939, p. 139)
88 По аналогии со знаменитым Эдиповым комплексом, эти отноше¬ния можно было бы назвать Ноевым комплексом: один из сыновей смеется над наготой отца, остальные сыновья отводят глаза и при¬крывают отцовскую наготу.
193
которая засасывает его с головой. Эту массу образуют бесформенные напластования связей 89: супруги, роди¬тели, родина, даже дети — короче, все олицетворения легальности оказываются олицетворениями смерти. Расиновская верность — похоронная, несчастная вер¬ность. Такова, например, верность Тита: пока отец был жив, Тит был свободен; когда отец умер, Тит утратил свободу. Поэтому расиновский герой измеряется прежде всего своей способностью к разрыву; роковым образом он может эмансипироваться только ценой неверности. Самые регрессивные фигуры — те, что остаются при¬кованы к Отцу, окутаны отцовской субстанцией (Гермиона, Кифарес, Ифигения, Есфирь, Иодай): Прошлое — это право, и Отцовская субстанция горделиво воплощает это право Прошлого. Горделиво — значит агрессивно, даже если агрессивность скрыта под лоском учтивости (Кифарес, Ифигения). Некоторые другие фигуры, хотя и сохраняют безусловное повиновение Отцу, все же ощущают эту верность как похоронный порядок и вы-сказывают свое ощущение в косвенной жалобе (Андро¬маха, Орест, Антигона, Юния, Антиох, Монима). На-конец, третьи — они-то и суть подлинные расиновские герои — идут еще дальше, и проблема неверности встает перед ними в полный рост (Гемон, Таксил, Нерон, Тит, Фарнак, Ахилл, Федра, Гофолия и — самый эмансипи¬рованный из всех — Пирр), они знают, что хотят по¬рвать, но не знают, как это сделать, они знают, что не могут перейти от детства к зрелости иначе, как ценой новых родов90, которые обычно означают преступле¬ние — отцеубийство, матереубийство или богоубийство. Отказ от наследования — вот что определяет этих ге¬роев; поэтому к ним можно применить одно из выра-
89 ... О, супруг!
О, Троя! Ах, отец! Кто дух мой успокоит?
О, сын мой! Жизнь твоя недешево мне стоит!
(«Андромаха», 111, 8) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора,
с изменением).
90 Бурр пытается способствовать рождению в Нероне императора из ребенка. Он говорит о других советниках:
Им было б на руку, чтоб твой державный сын
Беспомощным юнцом остался до седин.
(«Британик», I, 2) (Пер. Э. Линецкой)
194
жений Гуссерля и назвать их догматическими героями; расиновский же словарь именует их нетерпеливыми. Они пытаются высвободиться, но их усилию противо¬стоит неисчерпаемая сила Прошлого; эта сила выступа¬ет настоящей Эринией 91, она пресекает любую попыт¬ку основать новый Закон, при котором наконец-то все станет возможным 92.
Такова дилемма. Как выходить из этого положения? И, прежде всего, когда из него выходить? Верность — это паническое состояние; герой ощущает верность как обнесенность глухой стеной; слом этой стены озна-чает страшное потрясение. И все же это потрясение происходит, потому что приходит нестерпимость (расиновское c'en est trop или его варианты: le comble, l'ex¬tremite mortelle*). Претерпевание связи подобно удушью 93, поэтому оно и подталкивает к действию; за¬гнанный в угол, расиновский герой хочет ринуться на¬ружу. Однако трагедия приостанавливает именно это движение; расиновский человек оказывается схвачен в процессе высвобождения. Лозунг расиновского героя — «Что делать?», а не «Что-то делать». Герой взывает к действию, но не совершает действия; он формулирует альтернативы, но не разрешает их; он стоит на грани действия, но не переходит эту грань; он сосредоточен на дилеммах, а не на проблемах; он не столько посту¬пает, сколько отступает (опять-таки, разумеется, за исключением Пирра); действие для него означает лишь одно: перемену. Эта остановленность альтернативы вы¬ражается в бесчисленных расиновских монологах; обыч-
91 Взятая в своей агрессивной, мстительной, «эринической» ипоста¬си, верность предстает как глубоко иудейское понятие: «Но из недр еврейского народа всегда являлись люди, которые оживляли заглохшую было традицию и возобновляли суровые моисеевы упреки и предупреж¬дения, не зная покоя до тех пор, пока утраченные верования не будут восстановлены» (Freud S. Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1970, S. 144).
92 «Один ваш только взгляд - и я на все способен», — говорит Пирр Андромахе (I, 4). Это значит: если вы поможете мне порвать с эринией Гермионой, я получу доступ к новому Закону.
* 'Довольно', 'верх несчастья', 'смертельная крайность’. — Прим. черев.
93 Противоположность страданию есть передышка, возможность вздохнуть: «возможность расслабиться после тяжкого испытания».
195
ная конструкция здесь — «Нет, лучше...», то есть: все что угодно, даже смерть, только бы это не продолжа-лось по-прежнему.
Порыв расиновского человека к освобождению со¬вершенно нетранзитивен, и уже в этой нетранзитивности коренится неизбежность поражения; действие ни к чему не может быть приложено, поскольку мир с самого начала находится в отдалении. Абсолютная расколотость универсума (результат полной замкнутости расиновской пары на самое себя) исключает возможность какого бы то ни было опосредования; расиновский мир — это двучленный мир, его статус — парадоксаль¬ный, а не диалектический: не хватает последнего члена триады. Нагляднее всего эта нетранзитивность, непе¬реходность проявляется в глагольных выражениях лю¬бовного чувства: у Расина любовь — это состояние, не имеющее в грамматическом плане прямого дополнения: я люблю, я любил (а), вы любите, я должен полюбить — кажется, будто у Расина «любить» — глагол по природе своей непереходный; глагол здесь выражает силу, без¬различную к объекту приложения; тем самым глагол выражает и сущность действия, как если бы действие было замкнуто само на себя 94. Любовь с самого нача¬ла обесцелена и тем самым обесценена. Отрезанная от реальности, любовь может лишь самоповторяться, но не развиваться. Поэтому в конечном счете поражение расиновского героя проистекает из неспособности по¬мыслить время иначе, как в категориях повторения: альтернатива всегда приводит к повторению, а повто¬рение — к поражению. Расиновская длительность ни¬когда не связана с вызреванием, она циркулярна: в результате прибавления все возвращается на круги своя, не претерпевая никаких превращений («Береника» — самый чистый пример подобного круговращения, из
94 Например:
Но я любила, друг, хотела быть любимой...
(«Береника», V, 7) (Пер. Н. Рыковой)
Другой замкнутый на себя глагол — бояться:
Чего боитесь вы?
— Сама того не знаю.
Но я боюсь.
(«Британик», V, I)
196
которого не происходит, по точному выражению Ра¬сина, ничего*). Втянутый в это неподвижное время, поступок тяготеет к ритуалу. Поэтому в известном смыс¬ле совершенно иллюзорно понятие трагедийной развяз¬ки: здесь ничто не развязывается, здесь все разрубает¬ся 95. Точно такое же повторяющееся время характерно и для вендетты: бесконечного и как бы неподвижного умно¬жения преступлений. Поражение всех расиновских героев, от «Братьев-соперников» до «Гофолии», определяется тем что они не могут выбраться из циркулярного вре¬мени 96.
Выход из тупика: возможные варианты.
Повторяю¬щееся время — это время Бога. Оно санкционировано свыше, и потому оно становится у Расина временем самой Природы; разрыв с этим временем будет озна¬чать разрыв с Природой, тяготение к некоему анти-физису: таково, например, отрицание семьи, естествен¬ного преемства. У нескольких расиновских героев на¬мечается именно такое движение к освобождению. В этом случае речь может идти только об одном: о включении третьего элемента в конфликт. Для Баязида, напри¬мер, искомым третьим элементом становится время:
* «Им не приходит в голову, что вся-то выдумка и состоит в том, чтобы сделать нечто из ничего (...)» (Предисловие к «Беренике», пер. Н. Рыковой). — Прим. перев.
95 Противоположный пример — эсхиловская трагедия: здесь все развязывается, а не разрубается (финалом «Орестеи» становится при¬говор человеческого суда).
96 Проклятие Агриппины Нерону:
От ярости своей пьянея вновь и вновь.
Ты станешь каждый день вкушать людскую кровь.
(«Британик», V, 6)
Проклятие Гофолии Иоасу:
... его я заверяю:
В свой час закон творца сочтет и он ярмом —
Ахава и моя проснется кровь и в нем.
Тогда опять венца Давидова владетель.
Как дед и как отец, забудет добродетель
И Богу отомстит, алтарь его скверня,
За нас - Иезавель, Ахава и меня.
(«Гофолия, V, 6) (Пер. Ю. Корнеева)
197
Баязид — единственный трагический герой, придержи¬вающийся тактики проволочек, он выжидает, и это его выжидание несет угрозу самой сущности трагедии 97; назад к трагедии, назад к смерти его возвращает Ата-лида, когда отказывается принять какое бы то ни было опосредование своей любви; несмотря на свою нежную кротость, Аталида оказывается Эринией, она настигает Баязида, возвращает его себе. Для Нерона как ученика Бурра искомым третьим элементом становится мир, реальная императорская миссия (этот Нерон прогресси¬вен); для Нерона как ученика Нарцисса третьим эле¬ментом становится преступление, возведенное в систему, тирания как мечта (этот Нерон регрессивен по отно¬шению к первому). Для Агамемнона третьим элементом становится мнимая Ифигения, коварно придуманная Жрецом. Для Пирра третьим элементом становится Астианакс, реальная жизнь ребенка, создание нового, открытого будущего, противостоящего закону вендетты, который воплощает эриния Гермиона. В этом жестоко альтернативном мире надежда всегда сводится к одному: каким-то способом обрести троичный порядок, в котором будет преодолен дуэт палача и жертвы, Отца и сына. Возможно, таков скрытый желательный смысл всех этих любовных трио, которые проходят через трагедию. В них следует видеть не столько классические элементы лю¬бовного треугольника, сколько утопический образ пре¬одоления бесплодных отношений изначальной пары 98.
97 Антитрагические стихи:
Быть может, в будущем смогу шагнуть я дале.
Мы не должны спешить...
(«Баязид», II, 1)
98 Гермиона говорит о Пирре и об Андромахе:
Он мог бы поделить вниманье между нами.
(«Андромаха», V, 3)
Обезумевающий Орест:
И смерть желанная положит пусть конец
Непримиримому раздору трех сердец.
(«Андромаха», V, 5) (Пер. И. Шафаренко и В. Шора)
Юния обращается к Нерону и Британику:
И пусть соединит приязнь обоих вас!
(«Британик», 111, 8) (Пер. Э. Линецкой)
198
Но главный выход, изобретенный самим Расином (а не теми или иными его персонажами), — это нечи¬стая совесть. Герой успокаивается, уклонившись от конфликта, не пытаясь его разрешить. Он спасается под сенью Отца, уподобляя Отца абсолютному Благу: это конформистский выход из положения. Эта нечистая совесть витает во всех расиновских трагедиях, она про¬является то там, то здесь, захватывает того или иного героя, вооружает его нравственным языком; открыто она царит в четырех «счастливых» трагедиях Расина: «Александр», «Митридат», «Ифигения», «Есфирь». Здесь вся трагедия сконцентрирована, как нарыв, в одном черном персонаже. Этот по видимости маргинальный персонаж (Таксил, Фарнак, Эрифила, Аман) служит искупительной жертвой для остальных. Этого носителя трагедии изгоняют как нежелательное лицо; когда он исчезает, остальные могут дышать, жить, покинуть трагедию; никто больше на них не смотрит: они могут вместе лгать, славить Отца как естественное Право, наслаждаться торжеством собственной чистой совести. Но это уклонение от трагедии может на самом деле осу¬ществиться лишь благодаря еще одной уловке: надо раздвоить Отца, извлечь из него трансцендентную фи¬гуру, несущую великодушие и несколько отделенную высокой моральной или социальной функцией от Отца-мстителя. Вот почему во всех этих трагедиях присут¬ствуют одновременно две различные фигуры: Отец и Царь. Александр может быть великодушным, поскольку закон вендетты воплощается в Поре. Митридат двойст¬вен: в качестве Отца он возвращается из смерти, вну¬шает ужас, наказывает; в качестве Царя он умирает и прощает. Агамемнон хочет убить свою дочь, а спа¬сают ее Греки, Церковь (Калхас), Государство (Улисс); Мардохей блюдет суровый Закон, владеет Есфирью — Артаксеркс возвышает ее и осыпает милостями. Быть может, позволительно видеть в этом хитром распределе-
Тит говорит о Беренике, об Антиохе и о себе:
Мы трое сроднены и сердцем и душою.
(«Береника», III, 1)
В этих и в других случаях Расин выступает как своеобразный пред¬шественник Достоевского.
199
нии обязанностей тот же прием, посредством которого Расин неизменно делил свою жизнь между своим Царем (Людовик XIV) и своим Отцом (Пор-Рояль). Пор-Рояль составляет скрытую основу всякой расиновской трагедии, определяя важнейшие ее мотивы: верность и поражение. Но все выходы из трагедийного тупика вдохновлены Людовиком XIV, продиктованы угодли¬востью перед Отцом-Царем: загнивание трагедии начи¬нается с Царя, и, с другой стороны, именно эти «улуч¬шенные» трагедии вызывали особенно горячее одобре¬ние Людовика XIV.
Наперсник.
Между нечистой совестью и поражением есть, однако же, еще один выход: выход диалектический. Такой выход в принципе известен трагедии; но трагедия может допустить его лишь ценой банализации его функ-циональной фигуры. Эта фигура — наперсник. В эпоху Расина эта роль уже постепенно выходит из моды, отчего ее значение, возможно, повышается. Расиновский на¬персник, в соответствии с происхождением этого амплуа, связан с героем, можно сказать, феодальными узами: узами преданности. Эта связь делает его подлинным двойником героя. Предназначение наперсника, вероятно, состоит в том, чтобы взять на себя всю тривиальность конфликта и его разрешения — короче говоря, в том, чтобы удержать нетрагическую часть трагедии в особой боковой зоне, где происходит дискредитация языка, его одомашнивание 99. Как мы знаем, догматизму героя неизменно противостоит эмпиризм наперсника. Здесь надо напомнить то, что было сказано выше по поводу замкнутости трагедийного пространства: для наперсника существует мир; уйдя со сцены, наперсник может войти в реальность, а затем вернуться из нее обратно на сцену: его незначительность гарантирует его вездесущ¬ность. Первый результат этого права на выход заклю-
99 Федра велит Эноне взять на себя весь процесс действования, чтобы ей, Федре, достался лишь трагедийный результат (желание столь же аристократическое, сколь и инфантильное):
Все средства испытай, лишь бы смягчился он. («Федра». III, 1)
200
чается в следующем: для наперсника универсум утра¬чивает непреложную антиномичность 100. Будучи порож¬дено в первую очередь альтернативным строением мира, отчуждение отступает, как только мир становится мно¬говариантным. Герой живет в мире форм, событийных чередований и знаков; наперсник живет в мире содер¬жаний, причинно-следственных связей и случайностей. Разумеется, наперсник — это голос разума (очень глу¬пого разума, но вместе с тем немножко и Разума), противоречащий голосу «страсти»; но это значит прежде всего, что он выражает возможное в противовес не¬возможному; поражение создает героя, оно трансцендентно герою; в глазах же наперсника поражение за¬трагивает героя, оно случайно для героя. Отсюда — диалектический характер решений, предлагаемых (безуспешно) наперсником и всегда сводящихся к опо¬средованию альтернативы.
По отношению к герою наперсник действует поэтап¬но, сначала он стремится раскрыть секрет, выявить суть дилеммы, мучающей героя; он хочет прояснить дело. Его тактика может показаться грубой, но она весьма действенна: он провоцирует героя, наивно выставляя перед ним гипотезу, противоречащую устремлениям героя, короче, «допускает бестактность» 101 (как пра¬вило, герой выдает свое потрясение, но быстро скрывает его в потоке оправдательных речей). Что касается дей¬ствий, которые рекомендует наперсник, все они диалек¬тичны, т. e. подчиняют цель средствам. Вот самые рас¬пространенные из этих действий: бежать (нетрагиче¬ское выражение трагедийной смерти); выжидать (это все равно, что противопоставить времени-повторению время-созревание реальности) 102; жить («живите!» —
100 «... Только в общественном состоянии субъективизм и объекти¬визм, спиритуализм и материализм, деятельность и страдание утрачи¬вают свое противопоставление друг другу...» (Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. — В кн.: М a p к с К., Э н г ел ь с Ф. Соч., т. 42, с. 123).
101 Например, Терамен хочет заставить Ипполита признаться в любви к Арикии:
Возможно ль, чтобы к ней ты ненависть питал? («Федра», I, 1) (Пер. М. Донского)
Царь Александр тебе подарит власть над ней,
А время — лучшее от гордости лекарство:
201
этот призыв всех наперсников прямо определяет тра¬гический догматизм как волю к поражению и смерти; чтобы спастись, герою было бы достаточно отнестись к своей жизни как к ценности). Живучесть, которую проповедует наперсник во всех перечисленных случаях (в последнем случае — открыто и императивно) — это самая антитрагическая ценность, какую можно только вообразить. Но роль наперсника не сводится к тому, что он представляет на сцене живучесть; он еще и призван противопоставить некий внетрагедийный Разум всем тем алиби, посредством которых герой прикрывает свою волю к поражению. Этот внетрагедийный Разум определенным образом разъясняет трагедию: наперсник жалеет героя, иначе говоря, снимает с героя какую-то часть ответственности; он считает, что герой волен спасти себя, но отнюдь не волен совершить зло; что героя вовлекли в поражение, из которого он все-таки может выйти. Сам же герой занимает строго противоположную позицию: он принимает на себя полную ответствен¬ность за деяния предков, которых он не совершал, но провозглашает себя беспомощным, как только речь за¬ходит о преодолении вины предков. Короче, герой тре¬бует для себя свободы быть рабом, но отнюдь не сво¬боды быть свободным. Может быть, в фигуре наперсни¬ка, хотя он и неловок и зачастую очень глуп, уже уга-дываются очертания всех этих своевольных слуг, которые противопоставят психологическому регрессу хозяина и господина гибкое и успешное владение реальностью.
Знакобоязнь.
Герой заперт. Наперсник ходит вокруг него, но не может проникнуть внутрь него: их языки
Она смирит свой гнев, чтоб не утратить царства.
Ты — царь ее судьбы, и ты ей станешь мил.
(«Александр Великий», III, 3)(Пер. E. Баевской)
Зачем ты. господин, терзаешься? Дай срок —
И в берега войдет разлившийся ноток.
(«Береника», III, 4) (Пер. Н. Рыковой)
Весьма сомнительно султанши торжество —
Вам надо подождать...
(«Баязид», III, 3) (Пер. Л. Цывьяна, с изменением)
202
сменяют друг друга, но никогда не совпадают. Дело здесь в том, что закрытость героя — не что иное как страх, одновременно и очень глубокий, и очень непо¬средственный, затрагивающий самую поверхность че-ловеческой коммуникации: герой живет в мире знаков, он знает, что эти знаки касаются лично его, но он не уверен в этих знаках. Мало того, что Судьба никогда их не подтверждает, она еще и увеличивает их запутан¬ность, применяя один и тот же знак к различным реаль¬ностям: стоит герою уверовать в некое значение (это называется льстить себя надеждой), как сразу что-то вмешивается, нарушает коммуникацию и повергает героя в смятение и разочарование; поэтому мир предстает ему разноцветным, а все цвета мира — ловушками. На¬пример, бегство объекта любви (или речевой замести¬тель бегства — молчание) страшно, потому что оно представляет собой двусмысленность второй степени; никогда нельзя быть уверенным, что речь идет о бегстве: как может негативность породить знак, как может ничто означать себя? В аду значений самой страшной пыткой является бегство (ненависть придает герою гораздо большую уверенность именно потому, что ненависть надежна, несомненна).
Поскольку мир сведен к единственному отношению пары, все вопросы непрерывно адресуются к Другому — к Другому во всей его целостности. Герой прикладывает безмерные, мучительные усилия, чтобы прочитать парт¬нера, с которым он связан. Поскольку уста являются местом ложных знаков 103, читающий неизменно устрем¬ляет внимание на лицо: плоть как бы дает надежду на объективное значение. В лице особенно важны чело (как бы гладкое, обнаженное лицо, на котором ясно отпеча-
103 Я одного ждала: чтоб здесь уста твои,
Всегда твердившие, что нет конца любви.
Что не придет для нас минута расставанья,
Мне вечное теперь назначили изгнанье!
(«Береника», IV, 5)(Пер. Н. Рыковой)
Ужель ты думаешь, что, поступившись честью,
Я, не любя ее, слова любви сказал...
(«Баязид», III, 4) (Пер. Л. Цывьяна)
203
тывается полученное сообщение) 104 и, главное, глаза (истина в последней инстанции) 105. Но самый верный знак — это перехваченный знак (например, письмо): уверенность в собственном несчастье становится ра¬достью, которая затопляет героя и наконец-то побуждает его действовать — Расин называет это спокойствием 106. Таково, быть может, последнее состояние трагедий¬ного парадокса: любая знаковая система здесь раздваи¬вается, становясь одновременно объектом бесконечно¬го доверия и объектом бесконечного подозрения. Здесь мы затрагиваем самую сердцевину дезорганизации: язык. Поведение расиновского героя — поведение по преимуществу словесное; но возникает и некое встречное движение: слово героя все время выдает себя за пове¬дение, поэтому речь расиновского человека проникнута непосредственным порывом — она брошена нам в лицо (разумеется, я тщательно различаю язык и письмо). Если, например, переложить расиновскую речь в прозу, безо всякого внимания к интонационной драпировке, перед нами обнаружится бурное движение, состоящее из порывов, восклицаний, провокационных выпадов, контрударов, возмущений — короче, обнаружится язык в своей генетической основе, а не в зрелой форме.
104 Например:
Он сможет наблюдать до самого конца,
С каким челом снесу я взор его отца.
(«Федра», III, 3)
Вопреки всем разговорам об условности классицистического языка, я мало верю в склеротический характер образов, используемых этим языком. Напротив, я считаю, что специфика (и огромная красота) этого языка обусловлена двойственным характером классицистических мета¬фор, которые являют собой одновременно понятие и объект, знак и образ.
105 Но даже если я заставлю лгать свой рот,
Он правду все равно в моих глазах прочтет!
(«Британии», II, 3) (Пер. Э. Линецкой)
Да не обидится царевич непреклонный:
Хоть о любви молчал, глядел он, как влюбленный.
(«Федра», II, 1) (Пер. М. Донского)
106 Весь свой спокойный гнев направлю я на месть.
(«Баязид», IV, 5)(Пер. Л. Цывьяна, с изменением)
204
Расиновский логос никогда не отрывается от самого себя, он экспрессивен, а не транзитивен, он никогда не направлен на манипулирование предметом или на из¬менение реальности; он всегда остается — самоисчерпы¬вающая тавтология — языком языка. Вероятно, его можно было бы свести к ограниченному набору арти¬куляций и клаузул совершенно тривиального свойства — и совсем не потому, что вульгарны «чувства» героев (как с наслаждением полагала вульгарная критика, критика Сарсе и Леметра 107), но потому, что тривиаль¬ность — неотъемлемая форма под-языка, этого логоса, который беспрерывно рождается и никогда не заверша¬ется. Именно в этом, кстати, и состоит удача Расина: его поэтическое письмо было достаточно прозрачным, чтобы мы могли угадать почти базарный характер «сцены»; артикуляционный субстрат настолько близок, что он наполняет расиновский дискурс естественным дыханием, расслабленностью — я бы даже сказал, чуть ли не «свингом».
Логос и Праксис.
В расиновской трагедии заявляет о себе подлинная универсальность языка. Язык здесь в каком-то упоении поглощает все функции, обычно отво¬димые прочим формам поведения; хочется даже назвать этот язык политехническим. Этот язык — орган восприя¬тия, он может заменять зрение, как если бы зрячим стало ухо 108; этот язык — чувство, ибо любить, страдать, умирать — все это здесь значит говорить, и ничего больше; этот язык — субстанция, он защищает (быть в смятении — значит перестать говорить, значит оказать¬ся раскрытым); этот язык — порядок, он позволяет ге¬рою оправдать свои агрессии или свои поражения и извлечь отсюда иллюзию согласия с миром; этот язык — мораль, он позволяет обратить личную страсть в право.
107 По мнению подобных критиков, Расин, например, в «Андромахе» изобразил историю вдовы, которая готовится вступить в повторный брак и колеблется между интересами своего ребенка и памятью о покойном муже (Цит. по: Adam A. Histoire de la litterature francaise au XVIIe siecle, t. IV. P.: Domat, 1954, p. 347).
108 В Серале ухо становится важнейшим органом восприятия («Баязид», I, 1).
205
Быть может, это и есть ключ к расиновским трагедиям: говорить — значит делать, Логос берет на себя функции Праксиса и замещает собою Праксис; все разочарование мира концентрируется и искупается в слове, действование опустошается, язык наполняется. Речь отнюдь не идет о празднословии: театр Расина — не болтливый театр (в известном смысле театр Корнеля куда болтли¬вее); это театр, где речь и действование гонятся друг за другом и соединяются лишь на мгновение, чтобы немедленно вновь бежать друг от друга. Можно было бы сказать, что слово здесь не акция, а реакция. Быть может, это объясняет нам, почему Расин так легко подчинился жесткому правилу единства времени: для него время говорения совпадает безо всякого труда с реальным временем, поскольку реальность — это и есть слово; этим же объясняется, почему он возвел «Беренику» в ранг образца своей драматургии: действие в этой пьесе стремится к нулю, за счет чего гипертрофи¬руется слово .
Итак, в основе трагедии лежит это слово-действие. Его функция очевидна: опосредовать Отношение Силы. В безнадежно расколотом мире трагические герои обща¬ются друг с другом только на языке агрессии: они дей¬ствуют посредством языка, они выговаривают свой рас¬кол, это реальность и граница их статуса. Логос рабо¬тает здесь как своего рода турникет между надеждой и разочарованием: он вводит в исходный конфликт третий элемент (говорение есть длительность) и в эту минуту является настоящим действованием; затем он удаляется, вновь становится языком, отношение силы вновь лишается опосредования, и герой вновь погру¬жается в изначальное поражение, которое его защи¬щает. Этот трагедийный логос являет собой не что иное, как иллюзию диалектики; он дает форму выхода, но только лишь форму, и не более того: это нарисованная дверь, о которую то и дело ударяется герой, дверь, ко¬торая попеременно становится то рисунком, то настоящей дверью.
109 «Герой и героиня (...) которые весьма часто страдают больше всех и действуют меньше всех» (Д'Обиньяк.—Цит. по: Scherer J. La dramaturgie classique en France. P.: Nizet, 1959, p. 29).
206
Этим парадоксом объясняется смятенность расиновского логоса: он одновременно вмещает возбужденность слов и зачарованность молчанием, иллюзию могущества и боязнь остановиться. Заточенные в слове, конфлик¬ты становятся циркулярными, поскольку ничто не ме¬шает другому вновь взять слово. Язык рисует восхити¬тельную и страшную картину мира, в котором беско¬нечно возможны бесконечные перевороты; поэтому у Расина агрессия столь часто превращается в своеобраз¬ный терпеливый «мариводаж»; герой делается преуве¬личенно глупым для того, чтобы не дать кончиться ссо¬ре, чтобы отдалить страшное время молчания. Ибо молчание означает вторжение подлинного действования, крушение всего трагедийного аппарата: положить конец слову значит начать необратимый процесс. Теперь мы видим подлинную утопию расиновской трагедии; это идеал такого мира, в котором слово становится вы¬ходом; но теперь мы видим также и подлинную грани¬цу этой утопии: ее невероятность. Язык никогда не бы¬вает доказательством: расиновский герой никогда не может доказать себя; мы никогда не знаем, кто и с кем говорит 110. Трагедия — это поражение, которое го¬ворит о себе, и не более того.
Итак, конфликт между бытием и действованием раз¬решается здесь через кажимость. Но тем самым закла-дывается основа зрелища как искусства. Несомненно, расиновская трагедия — одна из самых умных, какие были когда-либо предприняты, попыток придать пора¬жению эстетическую глубину, расиновская трагедия — это действительно искусство поражения, это восхити¬тельно хитроумное построение спектакля о невозможном. В этом отношении она, как кажется, противостоит мифу, поскольку миф исходит из противоречий и неуклонно стремится к их опосредованию 111; трагедия же, на¬против, замораживает противоречия, отвергает опосре¬дование, оставляет конфликт открытым; и в самом деле,
110 «Психологически» проблема истинности расиновского героя неразрешима: невозможно определить истинные чувства Тита к Беренике. Тит становится истинным лишь в тот миг, когда он расстается с Береникой, т. e. переходит от логоса к праксису.
111 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983 г., гл. XI.
207
всякий раз как Расин берется за некий миф, чтобы обратить его в трагедию, он в известном смысле отвер¬гает миф, делает из мифа окончательно закрытую фа¬булу. Однако в конечном счете происходит следую¬щее: пройдя через глубокую эстетическую рефлексию, обретя твердую внешнюю форму, подвергнувшись по-следовательной систематизации от пьесы к пьесе, в ре¬зультате чего мы можем говорить о расиновской траге¬дии как об особом и целостном явлении, наконец, став объектом восхищенного внимания потомков — этот отказ от мифа сам становится мифическим: трагедия — это миф о поражении мифа. В конечном счете трагедия стремится к диалектической функции: она верит, что зрелище поражения может стать преодолением пораже¬ния, а страсть к непосредственному может стать опосредо¬ванием. Когда все прочее уже разрушено, трагедия остается спектаклем, то есть согласием с миром.
1960.
III. История или литература?
На французском радио существовала когда-то одна наивная и трогательная передача: трогательная, посколь¬ку она хотела убедить широкую публику в том, что име¬ется не только история музыки, но и некие отношения между историей и музыкой; наивная, поскольку эти отношения она сводила к чистой хронологии. Нам го¬ворили: «1789 год: созыв Генеральных штатов, отставка Неккера, концерт № 490 до минор для струнных Б. Галуп¬пи». Оставалось догадываться, хочет ли автор передачи уверить нас в том, что между отставкой Неккера и кон¬цертом Галуппи наличествует внутреннее подобие, или же он имеет в виду, что оба явления составляют еди¬ный причинно-следственный комплекс, либо, напротив, он хочет обратить наше внимание на пикантность подоб¬ного соседства, чтобы мы как следует прочувствовали всю разницу между революцией и концертом для струн¬ных — если только автор не преследует более ковар¬ную цель: продемонстрировать нам под вывеской исто¬рии хаотичность художественного процесса и несостоя-тельность всеохватных исторических обобщений, пока¬зав на конкретном примере всю смехотворность метода, который сближает сонаты Корелли с морским сражением при Уг, а «Крики мира» Онеггера — с избранием прези¬дента Думера.
Оставим эту передачу: в своей наивности она лишь подводит массовую аудиторию к старой проблеме вза-имоотношений между историей и художественным произ¬ведением — проблеме, которая активно обсуждается с тех самых пор, как возникла философия времени, то есть с начала прошлого века: обсуждения эти бывали то более, то менее успешными, то более, то менее утон¬ченными. Перед нами два континента: с одной сторо¬ны, мир как изобилие политических, социальных, эко-
209
номических, идеологических фактов; с другой стороны, художественное произведение, на вид стоящее особня¬ком, всегда многосмысленное, поскольку оно одновре¬менно открывается нескольким значениям. Идеальной была бы ситуация, при которой эти два удаленных друг от друга континента обладали бы взаимодополняющими формами — так, чтобы при мысленном сближении они совместились и вошли друг в друга, подобно тому, как Вегенер склеил Африку и Америку. К сожалению, это всего лишь мечта: формы сопротивляются или, что еще хуже, изменяются в различном ритме.
По правде сказать, до сих пор эту проблему можно было считать решенной, лишь оставаясь в рамках той или иной законченной философской системы, будь то система Гегеля, Тэна или Маркса. Вне систем мы видим массу сопоставлений, замечательных по эрудиции и остроумию, но — как бы в силу последней стыдливо¬сти — всегда фрагментарных. Историк литературы об¬рывает себя на полуслове, как только он приближает¬ся к настоящей истории. С одного континента на дру¬гой доносятся лишь разрозненные сигналы; становятся видны отдельные сходства между континентами. Но в целом изучение каждого континента идет автономно: два эти раздела географии почти не связаны друг с другом.
Возьмем какую-нибудь историю литературы (все равно, какую: мы не раздаем призы, мы размышляем о правилах игры). От истории здесь осталось одно на¬звание: перед нами ряд монографических очерков, каж-дый из которых обычно посвящен отдельному автору как некоей самоценной величине; история здесь пре-вращается в череду одиноких фигур; короче, это не история, а хроника. Конечно, имеется и порыв дать общую картину — применительно к жанрам или к шко¬лам (порыв все более и более заметный), но этот по-рыв никогда не выходит за рамки литературы как та¬ковой; это поклон, который на ходу отвешивают исто-рической трансценденции; это закуска перед главным блюдом, имя которому — «автор». Таким образом, вся¬кая история литературы сводится к серии замкнутых критических анализов: между историей и критикой ис¬чезает какая бы то ни было разница; мы можем без
210
малейшего методологического сотрясения перейти от эссе Тьерри-Монье о Расине к главе о Расине из «Исто¬рии французской литературы XVII в.» А. Адана: меняет¬ся'лишь язык, но не точка зрения; в обоих случаях все исходит из Расина, хотя устремляется в разных направ¬лениях: в одном случае — к поэтике, в другом — к тра¬гедийной психологии. При самом благожелательном рассмотрении, история литературы оказывается не более чем историей произведений.
Может ли быть иначе? В известной мере — да: воз¬можна история литературы, не затрагивающая произве-дений (я еще к этому вернусь). Но в любом случае упорное нежелание историков литературы переходить от литературы к истории говорит нам о следующем: лите¬ратурное творчество обладает особым статусом; мы не только не можем относиться к литературе как ко всем прочим продуктам истории (никто этого всерьез и не предлагает), но, более того, эта особость произведе¬ния в известной мере противоречит истории; художест¬венное произведение по сути своей парадоксально, оно есть одновременно и знамение истории, и сопротивление ей. Этот-то фундаментальный парадокс и проявляется, с большей или меньшей наглядностью, в наших историях литературы; все прекрасно чувствуют, что произведение от нас ускользает, что оно есть нечто иное, чем история произведения, сумма его источников, влияний или образ-цов; что произведение представляет собою твердое и неразложимое ядро, погруженное в неопределенную массу событий, условий, коллективных ментальностей; вот почему мы до сих пор располагаем не историей литературы, а лишь историей литераторов. В общем, литература проходит сразу по двум ведомствам: по ве¬домству истории, в той мере, в какой литература явля¬ется институцией; и по ведомству психологии, в той мере, в какой литература является творчеством. Сле¬довательно, для изучения литературы требуются две дисциплины, различные и по объекту, и по методам изу¬чения; в первом случае объектом будет литературная институция, а методом будет исторический метод в его самой современной форме; во втором же случае объектом будет литературное творчество, а методом — психоло¬гическое исследование. Надо сразу сказать, что у этих
211
двух дисциплин совершенно различные критерии объек¬тивности; и вся беда наших историков литературы со¬стоит в том, что они смешивают эти критерии, неизмен¬но загромождая литературное творчество мелкими исто¬рическими фактами и одновременно соединяя самую бдительную заботу об исторической точности со слепой верой в психологические постулаты, спорные по опреде¬лению 1. Единственное, чего мы хотим, — это внести некоторый порядок в решение двух названных задач. Не будем требовать от истории больше, чем она может дать: история никогда не скажет нам, что имен¬но происходит внутри автора в тот момент, когда он пишет. Продуктивнее было бы поставить вопрос на¬оборот: что именно сообщает нам произведение о своей эпохе? Давайте рассмотрим произведение именно как документ, как один из следов некоей деятельности, и сосредоточимся сейчас только на коллективном аспекте этой деятельности; короче говоря, задумаемся о том, как могла бы выглядеть не история литературы, а история литературной функции. Для такого подхода у нас есть удобная, хотя и незначительная с виду опора: несколько беглых замечаний Люсьена Февра, изложенных Клодом Пишуа в статье, которая представляет собой вклад в разработку интересующей нас проблемы 2. Достаточно будет сопоставить пункты этой программы исторических исследований с некоторыми литературно-критическими работами последних лет о Расине (напомним еще раз, что применительно к литературе история и критика смешаны сейчас воедино; при этом расиновская критика является одной из самых живых), чтобы выявить основ¬ные лакуны и определить встающие задачи.
1 Уже Марк Блок писал о некоторых историках: «Когда надо удостоверить, имел ли место в действительности тот или иной посту¬пок, их тщательность выше всяких похвал. Когда же они переходят к причинам поступка, их удовлетворяет любая видимость правдоподо¬бия — обычно со ссылкой на одну из истин банальной психологии, ко¬торые верны ровно настолько, насколько и противоположные им» (Пер. E. М. Лысенко: Блок М. Апология истории или Ремесло историка. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1986, с. 111).
2 Pichois С. Les cabinets de lecture a Paris durant la premiere moitie du XIXe siecle.—«Annales», 1959, juillet-septembre p 521 — 534.
212
Первое пожелание Л. Февра сводится к изучению среды. Несмотря на популярность этого выражения у литературной критики, смысл его остается неясным. Если речь идет о ближайшем окружении писателя, ко-торое обычно состоит из очень небольшого числа более или менее известных нам лиц (родственники, друзья, враги), тогда надо признать, что среда Расина была многократно описана, по крайней мере в разрезе внеш¬них обстоятельств — ибо исследования среды зачастую представляли собой не что иное, как пересказ биогра¬фий, анекдотическую историю некоторых взаимоотноше¬ний или даже попросту некоторых «ссор». Но если мы будем рассматривать среду писателя как нечто более органическое и более анонимное: как совокупность мыс¬лительных привычек, имплицитных табу, «естественных» ценностей, материальных интересов, присущую группе людей, реально связанных между собой идентичными или взаимодополняющими функциями, — короче, как часть социального класса — тогда исследования среды окажутся далеко не столь многочисленными. На протя¬жении большей части жизни Расин вращался в трех средах (причем нередко в двух одновременно). Эти среды суть: Пор-Рояль, Двор и Театр. Касательно двух первых сред, а точнее, их пересечения (а оно-то и важ¬но в случае Расина) мы имеем исследование Жана Помье о янсенистской и светской среде графини де Граммон; с другой стороны, мы знаем анализ (одновре-менно и социальный, и идеологический) «правого» кры¬ла янсенизма, данный Люсьеном Гольдманом. О теат¬ральной среде, насколько мне известно, информации гораздо меньше, разве что анекдоты; обобщающих ра¬бот нет почти никаких; здесь более чем где-либо истори¬ческий факт затмевается фактом биографическим: была ли у Дюпарк дочь от Расина? Эта проблема избавляет от необходимости вникать в привычки и установления актерской среды, тем более от необходимости искать историческое значение этих установлений. В количест¬венном отношении итог весьма скромен, но и здесь уже выявляется одна слабость, на которую мы должны сразу обратить внимание: исключительно трудно увидеть общность среды через творчество или через жизнь одно¬го отдельно взятого человека; едва мы начинаем ощу-
213
щать изучаемую группу как нечто плотное — индивид сразу отходит на задний план; потребность в индивиде здесь крайне мала, если только она вообще имеется. В своей книге о Рабле Л. Февр на самом деле стремил¬ся к изучению среды; и что же, разве Рабле стоит в центре этой книги? — отнюдь; Рабле здесь скорее служит исходной точкой полемики (поскольку полемика — сократический демон Л. Февра), эмоциональным пово¬дом к тому, чтобы исправить распространенные пред¬ставления об атеизме XVI в., грешащие чрезмерной модернизацией; Рабле здесь — кристаллизатор и только. Но стоит уделить чуть больше внимания писателю, стоит проявить чуть больше почтительности к гению — и вся среда рассыпается на мелкие кусочки, на анек¬доты, на литературные «прогулки» 3.
Что касается расиновской публики (второй пункт программы Л. Февра), в нашем распоряжении имеется много попутных замечаний на эту тему, разбросанных там и сям, бесспорно ценные статистические данные (в частности, у Пикара), но ни одной современной обобщающей работы; суть проблемы остается совершен-но непроясненной. Кто ходил на спектакли? Если су¬дить по расиновской критике — Корнель (скрывавшийся в ложе) и мадам де Севинье. Но кто еще? Двор, го¬род — что они представляли собой конкретно? Впрочем, социальный состав публики — отнюдь не единственный интересующий нас вопрос; еще интереснее вопрос о функции театра в глазах этой публики: развлечение? мечта? самоотождествление? дистанцирование? снобизм? Какова была дозировка всех этих элементов? Простое сравнение с позднейшими типами публики ставит здесь подлинные исторические проблемы. Нам мимоходом со¬общают, что успех «Береники» был огромен: зрители плакали. Но кто плачет в театре сегодня? Хочется, чтобы рыдания над «Береникой» характеризовали тех, кто проливал слезы, а не только того, кто эти слезы вызывал; хочется прочитать историю слезливости; хо¬чется, чтобы исходя из этого факта и захватывая по-
3 Что бы ни говорили о книге Сент-Бева «Пор-Рояль», по крайней мере одна исключительная заслуга автора бесспорна: Сент-Бев сумел описать в этой книге подлинную среду, где ни одна фигура не выде¬лена за счет остальных.
214
следовательно все иные проявления, нам описали целую аффективную систему эпохи (ритуальную или действи¬тельно физиологическую?) — точно так же, как Гране реконструировал систему выражений траура в классиче¬ской китайской культуре. Тема, тысячекратно указанная, но до сих пор совсем не разработанная — а ведь речь идет о «звездном» веке нашей литературы.
Еще один объект исторического изучения, отме¬ченный Л. Февром: интеллектуальная подготовка этой публики (и ее писателей). Между тем, сегодня нам предлагают лишь отрывочные, разрозненные сведения об образовании в классическую эпоху; они не позволяют реконструировать ту ментальную систему, которую предполагает данная педагогика. Нам говорят — опять-таки мимоходом, — что янсенистское воспитание было революционным, что у янсенистов дети учили древнегре¬ческий, что преподавание велось на французском языке и т. п. Нельзя ли продвинуться дальше — как в под¬робностях (например, повседневный жизненный опыт одного школьного класса), так и во взгляде на систему в целом, на ее отношения с общепринятым воспитанием (ведь расиновская публика не состояла сплошь из ян¬сенистов)? Короче, нельзя ли написать историю обра¬зования во Франции (или хотя бы фрагмент такой истории)? Во всяком случае, указанная лакуна особен¬но ощутима на уровне тех историй литературы, которые как раз и призваны дать нам сведения обо всем, что есть в авторе кроме него самого. Откровенно говоря, критика источников представляет, на наш взгляд, ни¬чтожный интерес по сравнению с изучением подлинно формирующей среды — среды, окружающей подростка.
Быть может, исчерпывающая библиография снабди¬ла бы нас основным материалом по каждому из вы-шеперечисленных пунктов. Я лишь говорю, что настало время для обобщающих работ, но что искомый синтез никогда не сможет осуществиться в нынешних рамках истории литературы. Дело в том, что за всеми этими лакунами скрывается один коренной изъян. Дефектна здесь не информация, используемая исследователем, а исследовательская точка зрения; это, однако, не де¬лает дефект менее существенным. Дефект состоит в том, что писателю отводится привилегированное «цент-
215
ральное» место. Всюду повторяется одно и то же: не история отсылает к Расину, а Расин выводит к чита-телю историю как свою свиту. Причины этого — по крайней мере, материальные причины — ясны: работы о Расине — это в основном университетские работы; следовательно, они не могут перешагнуть (разве что при помощи уловок, дающих ограниченные результаты) через сами рамки высшего образования: с одной сто¬роны — философия, с другой — история, еще дальше — литература; между этими дисциплинами идет взаимооб¬мен, все более и более широкий, все охотнее и охотнее признаваемый; но сам объект исследования остается предопределен устаревшими рамками, все более и более противоречащими тем представлениям о человеке, на которых основываются сегодняшние гуманитарные науки4. Последствия оказываются тяжелы: угнездив¬шись на авторе, превратив литературного «гения» в центр наблюдения, мы вытесняем на периферию, в зону каких-то далеких туманностей, собственно истори¬ческие объекты; мы касаемся их лишь нечаянно, ми¬моходом, в лучшем случае мы указываем на их сущест¬вование, оставляя другим заботу по их изучению в не¬определенном будущем; самое главное в истории ли¬тературы становится выморочным имуществом, от кото¬рого отказались одновременно и историк, и критик. Можно сказать, что место человека, писателя, в нашей истории литературы аналогично месту события в историзирующей истории: обладая первостепенной важностью в ином плане, здесь он загораживает всю перспективу; истинный сам по себе, он приводит к созданию ложной картины.
4 Совершенно очевидно, что рамки высшего образования сдви¬гаются с ходом времени под влиянием идеологических изменений, но эти сдвиги могут происходить с большим или меньшим запозданием. Когда Мишле начал читать свой курс в «Коллеж де Франс», раз¬граничение, или, скорее, смешение дисциплин (в частности, истории и философии) вполне совпадало с господствовавшей романтической идеологией. А что мы видим сегодня? Рамки начинают ломаться, это заметно по некоторым признакам; например, присоединение «гума¬нитарных наук» к «литературе» в названии новообразованного фа¬культета, система преподавания в «Эколь де от этюд» (Практической школе высших знаний).
216
Не будем больше говорить о бескрайней целине невспаханных тем, ждущих своего исследования; возьмем тему, уже превосходно разработанную Пикаром: поло¬жение литератора во второй половине XVII в. Идя от Расина и будучи прикован к Расину, Пикар в резуль¬тате смог предложить нам не более чем материалы к теме; история вновь используется здесь как набор под¬ручных средств для создания портрета; Пикару откры¬лась вся глубина темы (его предисловие к работе не¬двусмысленно заявляет об этом), но обетованная земля в данном случае лишь маячит на горизонте; главенству¬ет фигура писателя, а это заставляет критика уделять истории с сонетами не меньше внимания, чем доходам Расина; в итоге читатель вынужден выискивать на раз¬ных страницах работы ту социальную информацию, су¬щественность которой он прекрасно почувствовал; причем Пикар информирует нас о профессиональном положении одного Расина. Но является ли оно действи¬тельно типичным? А другие, включая сюда писателей второго ряда (и прежде всего их)? Сколь бы страстно Пикар ни отвергал психологическую интерпретацию проблемы (был ли Расин «карьеристом»?), все равно личность Расина вновь и вновь преграждает путь иссле¬дователю.
С творчеством Расина соприкасается еще очень мно¬го других фактов, подлежащих изучению, — в частности те, к которым относится последний пункт программы Л. Февра: их можно назвать фактами коллективной мен¬тальности. Некоторые искушенные расиноведы сами уже указывали мимоходом на эти факты, выражая желание, чтобы когда-нибудь названные проблемы были исследо¬ваны целиком, независимо от творчества Расина. Жан Помье отметил необходимость воссоздать историю ра-синовского мифа; можно представить себе, сколь ярко высветила бы указанная история буржуазную (упрощен¬но говоря) психологию от Вольтера до Робера Кемпа. А. Адан, Р. Жазинский и Ж. Орсибаль призвали обра¬тить внимание на популярность, можно сказать, обще¬обязательность аллегории в XVII в.: типичный факт кол-лективной ментальности, как мне кажется, значительно более важный, чем правдоподобие ключей самих по себе. Все тот же Жан Помье предложил создать историю во-
217
ображения в XVII в. (указывая, в частности, на тему метаморфозы).
Как видим, та история литературы, обязанности ко¬торой мы здесь исчисляем, не останется без дела. Сверх уже названных задач, простой читательский опыт подска¬зывает мне еще некоторые другие. Например, такую: мы не располагаем ни одной современной работой по клас¬сической риторике; обычно мы отправляем фигуры мысли в музей педантского формализма, как если бы они су¬ществовали лишь в воображении нескольких иезуитов, сочинявших трактаты по риторике 5; между тем, Расин полон риторических фигур — Расин, почитающийся самым «естественным» из наших поэтов. А через эти ри-торические фигуры язык навязывает целую систему виде¬ния мира. Это относится к стилю? к языку? Ни к тому, ни к другому; на самом деле речь идет о совершенно особом установлении, о форме мира; это вещь не менее важная, чем исторический тип пространственных пред¬ставлений у художников; к несчастью, история литера¬туры только ждет еще своего Франкастеля.
Или такой вопрос, не встречавшийся мне нигде (не исключая и программы Февра), кроме как у философов (этого, разумеется, достаточно, чтобы полностью дискре¬дитировать данный вопрос в глазах историка литерату¬ры): что такое литература? Требуется чисто историче¬ский ответ: чем была литература (впрочем, само это сло¬во анахронично) для Расина и его современников, какая именно функция ей отводилась, какое место в иерархии ценностей и т. д.? По правде говоря, трудно понять, как можно строить историю литературы, не задумавшись сначала о самом существе литературы. Более того: чем, собственно, может быть история лите¬ратуры, если не историей самого понятия литературы? А между тем, подобную историческую онтологию приме¬нительно к одной из наименее естественных ценностей человеческого общества мы нигде не найдем. И этот про¬бел далеко не всегда остается невинным: если мы всецело сосредоточены на акциденциях литературы, значит сущ¬ность литературы не вызывает сомнений; значит пи-
5 См., например, трактат преподобного отца Лами: Lamy В. La Rhetorique ou l'Art de parler. P., 1675.
218
сать — это, в общем, все равно, что есть, спать или раз¬множаться: это дано от природы, это не заслуживает истории. Потому и проявляется у стольких историков литературы — то в невинной фразе, то в направленности суждения, то в некоем молчании — убежденность в сле¬дующем постулате: мы должны толковать Расина, ко¬нечно, не в соответствии с нашими собственными пробле¬мами, но во всяком случае под знаком некоей вечной литературы, существо которой не подлежит обсуждению; обсуждаться могут (и должны) лишь формы манифес¬тации этой литературы.
Однако при погружении в историю существо литера¬туры перестает быть существом. Десакрализованная, но тем самым, на мой взгляд, лишь обогащенная, литера¬тура оказывается одной из великих человеческих деятельностей, имеющих переменную форму и перемен¬ную функцию, — тех деятельностей, необходимость исто¬рического изучения которых неизменно проповедовал Февр. Таким образом, история возможна лишь на уров¬не литературных функций (производство, коммуникация, потребление), а никак не на уровне индивидов, отправ¬лявших эти функции. Иначе говоря, история литературы возможна лишь как социологическая дисциплина, ко¬торая интересуется деятельностями и установлениями, а не индивидами 6. Вот к какой истории ведет нас про¬грамма Февра: к истории, полностью противоположной всем привычным историям литературы; она будет стро¬иться из прежних материалов (хотя бы частично), но ее организация и смысл будут противоположны прежним: писатели будут в ней рассматриваться только как уча¬стники институциональной деятельности, идущей сверх индивидуальности каждого. Писатель участвует в лите-ратурной деятельности точно так же, как в первобытных обществах колдун участвует в отправлении магической функции; эта функция не закреплена ни в каких писа¬ных законах, она может быть схвачена лишь через индивидов, ее отправляющих; однако же объектом нау¬ки является именно функция, и только она. Таким обра¬зом, привычная нам история литературы должна пройти
6 См. в связи с этой темой работу: Meyerson L Les Fonctions psychologiques et les ?uvres. P.: Vrin, 1948.
219
через подлинный переворот, подобный тому, в результате которого стал возможен переход от королевских хроник к истории в собственном смысле слова. Дополнять наши литературные хроники какими-то новыми историческими ингредиентами (то неизвестным источником, то пересмот¬ренной биографией) — пустая затея; должны быть взор¬ваны сами рамки изучения, а объект изучения должен преобразиться. Отсечь литературу от индивида! Болез¬ненность операции, даже ее парадоксальность — очевид¬ны. Но только такой ценой можно создать историю ли¬тературы; набравшись храбрости, уточним, что введенная в необходимые институциональные границы, история литературы окажется просто историей как таковой '. Оставим теперь историю функции и обратимся к истории творчества. Творчество — неизменный объект тех историй литературы, которыми мы располагаем. После «Федры» Расин перестал писать трагедии. Это факт; но отсылает ли этот факт к другим фактам исто¬рии? Можно ли его распространить вширь? В очень ма¬лой степени. Этот факт может быть развит по преиму¬ществу вглубь; чтобы придать ему какой бы то ни было смысл (а предлагались самые разные смыслы), надо постулировать глубинное содержание Расина, существо Расина, короче, надо затронуть недоказуемую материю, какой является субъективность. Можно объективно рас¬смотреть в Расине функционирование литературных институтов; невозможно претендовать на ту же объек¬тивность, когда желаешь разглядеть в Расине тайну твор¬ческого процесса. Здесь иная логика, иные требования, иная ответственность; необходимо интерпретировать от¬ношение между произведением и индивидом; но как это сделать, не прибегая к психологии? К той или иной психологии? А каким образом найдет критик эту психо¬логию, если не посредством личного выбора? Короче, сколь бы объективной она ни стремилась быть, сколь бы частными вопросами она себя ни ограничивала — всякая критика литературного творчества может быть
7 Гольдман верно уловил суть дела: он попытался рассмотреть Паскаля и Расина на равных, как носителей сходного видения мира, и само это понятие «видение мира» имеет у Гольдмана открыто со¬циологический характер.
220
только систематической. Надо не оплакивать этот факт, а требовать от критика откровенности в выборе системы.
Почти невозможно прикоснуться к литературному творчеству, не постулируя существование отношения между произведением и чем-то иным, внеположным про¬изведению. В течение долгого времени это отношение считали причинно-следственным; произведение считалось продуктом; отсюда — такие понятия литературной кри¬тики, как «источник», «генезис», «отражение» и т. д. Такое представление об отношении, лежащем в основе творчества, кажется все менее и менее состоятельным; либо объяснение затрагивает лишь бесконечно малую часть произведения, тогда объяснение ничтожно; либо оно оперирует очень крупными величинами, но грубость операций вызывает бесчисленные возражения (аристо¬кратия и менуэт у Плеханова). Поэтому идея продукта постепенно уступила место идее знака: произведение понимается как знак чего-то, внеположного произведе¬нию; в этом случае задача критики сводится к дешифров¬ке значения, к выявлению элементов знакового отноше¬ния, и прежде всего к выявлению скрытого элемента: означаемого. К настоящему времени самая разработан¬ная теория того, что можно назвать «критикой значе¬ния», была предложена Л. Гольдманом (по крайней мере, применительно к историческим означаемым; если же ограничиваться психическим означаемым, и психо¬аналитическая, и сартровская критика уже представляли собой «критику значения»). Таким образом, речь идет об общем движении, цель которого — открыть произ-ведение, открыть не как следствие причины, а как озна¬чающее означаемого.
Хотя эрудитская (не сказать ли для простоты: уни¬верситетская?) критика в основном еще остается верна идее генезиса (идее органической, а не структурной), получилось так, что интерпретаторы Расина стремятся расшифровать расиновскую драматургию как систему знаков. Каким путем? Путем аллегорического подхода (изучения ключей, или аллюзий, — кому какое слово нра¬вится). Как известно, Расин вызвал сегодня целую вол¬ну реконструкции «ключей», исторических (Орсибаль) или биографических (Жазинский): Андромаха — это Дюпарк? Орест — это сам Расин? Монима — это Шан-
221
меле? Юные израильтянки из «Есфири» — это тулузские монахини? Гофолия — это Вильгельм Оранский? и т. д. Но аллегория — сколь бы жестко или сколь бы расплывчато она ни трактовалась — это, по сути своей, значение; аллегория сопрягает означающее и означаемое. Мы не будем сейчас возвращаться к вопросу о том, что интереснее: выяснять вероятность какого-либо отдель¬ного ключа или же изучать аллегорический язык как факт эпохи. Сейчас нам важно только одно: произведе¬ние рассматривается как язык, говорящий о чем-то: в одном случае — о некотором политическом факте, в дру¬гом случае — о самом Расине.
Вся беда в том, что дешифровка неизвестного языка, не засвидетельствованного в документах, подобных розеттскому камню, совершенно нереальна, если не прибе¬гать к психологическим постулатам. Сколько бы ни стре¬милась «критика значения» к строгости и к осторожно¬сти, систематический характер чтения заявляет о себе на всех уровнях. Прежде всего — на уровне самого оз¬начающего. Что, собственно, является здесь означаю¬щим? слово? стих? персонаж? ситуация? трагедия? все творчество в целом? 8 Кто может декретировать озна¬чающее, если не идти чисто индуктивным путем, то есть не начинать с означаемого, ставя его перед означающим? Или другая проблема, требующая еще более системати¬ческого решения: что делать с теми частями произве¬дения, о значении которых ничего не говорится? Анало¬гия — это сеть с очень крупными ячейками: три четверти расиновского дискурса проходят сквозь нее. Можно ли, избрав путь критики значения, останавливаться на пол¬пути? Можно ли отдать все неозначающее на откуп таинственной алхимии творчества? Можно ли растрачи¬вать на один стих бездну научной изощренности, после чего лениво бросать все остальное на произвол чисто
8 Карл I отдал своих детей на попечение Генриетте Английской со словами: «Я не могу оставить вам более дорогой залог». Гектор отдает сына Андромахе со словами: «Я отдаю тебе залог моей любви» («Андромаха», III, 8). Р. Жазинский видит здесь значимое отношение, он приходит к выводу о наличии источника, образца. Чтобы оценить вероятность такого значения, которое вполне может быть на самом деле простым совпадением, надо вспомнить суждения Марка Блока в «Апо¬логии истории» (Блок М. Цит. соч., с. 71— 76).
222
магической концепции художественного произведения? А какими доказательствами подтвердить то или иное значение? Числом совпадающих фактов реальности (Орсибаль)? Но этим доказывается лишь допустимость дан¬ного значения, не более того. «Совершенством» словес¬ного выражения (Жазинский)? Но по качеству стиха судить о «жизненности» выражаемого чувства — это типичный априорный постулат. Связностью системы означающих (Гольдман)? Это, на мой взгляд, единст¬венное приемлемое доказательство, поскольку всякий язык представляет собой высокосогласованную систему; но тогда, чтобы связность стала очевидной, надо про¬следить ее на протяжении всего произведения, т. e. ре¬шиться на тотальное критическое прочтение. Вот так, на самых разных уровнях, объективистские намерения «критики значения» оказываются несостоятельными в силу принципиально произвольного характера всякой языковой системы.
Та же произвольность и на уровне означаемых. Если произведение означает мир, к какому из уровней мира следует отнести это значение? К актуальности (англий¬ская реставрация применительно к «Гофолии»)? К поли¬тическому кризису (турецкий кризис 1671 г. применитель¬но к «Митридату»)? К «направлению общественного мнения»? К «видению мира» (Гольдман)? А если про¬изведение означает автора, опять начинается та же не¬уверенность: на каком из уровней личности располага¬ется означаемое? На уровне биографических обстоя¬тельств? На эмоционально-аффективном уровне? На уровне возрастной психологии? На архаическом уровне психики (Морон)? Всякий раз нужный ярус приходит¬ся выбирать заново — в зависимости не столько от произведения, сколько от изначальных представлений критика о психологии и о мире.
По сути, критика, апеллирующая к автору, — не что иное, как семиология, не решающаяся назваться соб-ственным именем. Осмелься она открыто признать себя семиологией — и она по меньшей мере осознала бы свои границы, прямо заявила бы о своем выборе. Она бы по¬няла, что ей всегда придется иметь дело с двумя произ¬вольными величинами и целиком брать на себя ответ¬ственность за выбор конкретного значения каждой из
223
этих величин. С одной стороны, некое означающее всегда может быть соотнесено с несколькими возможными оз¬начаемыми; знаки всегда двусмысленны, дешифровка — это всегда выбор. Угнетенные израильтяне в «Есфири» — кто это? протестанты, янсенисты, тулузские монахини или человечество, лишенное искупления? Земля, пьющая кровь Эрехтея, — что это? элемент мифологического ко¬лорита, прециозный штрих или фрагмент чисто расиновского фантазма? Отсутствие Митридата — что это? ссылка некоего реального монарха или угрожающее безмолвие Отца? Сколько означаемых приходится на один знак! Мы не хотим сказать, что бесполезно соиз¬мерять правдоподобие этих означаемых; мы хотим ска¬зать, что выбор одного из них всегда обусловлен в ко¬нечном счете выбором той или иной ментальной системы во всей ее полноте. Если вы решили для себя, что Митридат — это Отец, значит, вы обратились к психоанали-зу; но если вы решили, что Митридат — это Корнель, значит, вы опираетесь на ничуть не менее произвольный (при всей его банальности) психологический постулат. С другой стороны, решение ограничить смысл произве¬дения теми, а не иными рамками тоже есть результат субъективного выбора 9. Большинство критиков полагает, что запрет идти вглубь гарантирует большую объектив¬ность: по этой логике, оставаясь на поверхности фактов, мы окажем факту большее уважение; робость, баналь¬ность гипотезы являются залогом ее состоятельности. Отсюда — очень тщательная, иногда очень тонкая реги-страция фактов и боязливый отказ от истолкования этих фактов, срабатывающий именно в тот момент, когда интерпретация готова обрести подлинную содержатель¬ность. Отмечают, например, навязчивое внимание Ра¬сина к человеческим глазам, но запрещают себе гово¬рить о фетишизме; перечисляют проявления жестокости, но не желают признавать, что речь идет о садизме; нежелание аргументируется тем, что в XVII в. не суще¬ствовало еще слова «садизм» (это все равно, что отка¬заться восстанавливать климатическую картину некоей
9 Сартр показал, что психологическая критика (например, у П. Бурже) останавливается слишком рано, именно в той точке, с ко¬торой должно начаться объяснение (Sartre J.-P. L'Etre et le Neant. P.: Gallimard, 1948, p. 643 s.).
224
страны в далекую эпоху на том основании, что тогда еще не существовало дендроклиматологии) ; отмечают, что около 1675 г. трагедию вытесняет опера; но этот сдвиг коллективной ментальности низводится на уровень частного обстоятельства: такова одна из возможных причин молчания Расина после «Федры». Так вот, эта боязливость уже содержит определенный систематиче¬ский подход. Вещи не могут означать в несколько боль¬шей или несколько меньшей мере: они либо означают, либо не означают; сказать, что они несут лишь поверх¬ностное значение, — это уже и есть определенная по¬зиция по отношению к миру. Все значения приходится признать равно предположительными; а раз так, не лучше ли будет предпочесть те, которые располагаются в самых глубинах личности (Морон) или мира (Гольд-ман), иначе говоря, там, где есть шанс увидеть подлин¬ное единство? Рискнув предложить несколько биогра-фических «ключей», Р. Жазинский выдвигает идею о том, что Агриппина олицетворяет Пор-Рояль. Прекрасно; но неужели не очевидно, что подобная параллель рис¬кованна лишь в той мере, в какой она не доведена до конца? Чем дальше идет гипотеза, тем большую содер¬жательность она обретает, тем правдоподобнее она ста¬новится; и отождествить Агриппину с Пор-Роялем можно лишь в том случае, если мы увидим в обоих этих обра¬зах один и тот же пугающий архетип, коренящийся в самой глубине расиновской психики: Агриппина отождествима с Пор-Роялем, лишь если и та, и другой отождествимы с Отцом, в полновесном психоаналитическом значении слова.
Действительно, ограничительный подход критиков к значению никогда не бывает невинным. Он выявляет позицию критика, неизбежно побуждает к критике кри¬тики. Всякое прочтение Расина, сколь бы безличным оно ни старалось быть, — это проекционный тест. Некоторые заявляют свою принадлежность прямо: Морон — пси¬хоаналитик, Гольдман — марксист. Но нас сейчас ин¬тересуют другие: какова их позиция? И, коль скоро речь идет об историках литературного творчества, как они представляют себе это творчество? Чем, собственно, является в их глазах произведение?
225
Прежде всего и по преимуществу — алхимическим продуктом: имеются, с одной стороны, материалы — ис-торические, биографические, традиционные (они же ис¬точники); а с другой стороны (поскольку очевидно, что между материалами и произведением лежит пропасть), имеется нечто невыразимое, называемое звучными и за¬гадочными именами: творческий порыв, таинство души, синтез, короче, Жизнь; эту вторую сторону произведения следует чтить и целомудренно упоминать, но прикасаться к ней запрещено: это значило бы отказаться от науки ради выбранной системы. В результате мы видим, как одни и те же умы изощряются в научной строгости по поводу второстепенных деталей (сколько страстей бушевало вокруг одной даты или одной запятой!), а в главном без боя отдаются на милость чисто магичес¬кой концепции художественного произведения. С одной стороны — самый жесткий позитивизм со всей его недо-верчивостью, с другой стороны — беззаботное исполь¬зование схоластических приемов объяснения с их веч¬ными тавтологиями: как опиум усыпляет в силу усып¬ляющего свойства, так и Расин творит в силу творче¬ского дара. Странное представление о тайне, при кото¬ром тайну умудряются объяснить массой ничтожных причин; странное представление о науке, при котором науку заставляют ревниво охранять непознаваемое. Пикантно то, что романтическая мифология вдохнове¬ния (ведь, в конечном счете, творческий порыв Раси¬на — не что иное, как мирское именование расиновской Музы) сочетается здесь с громоздким сциентистским аппаратом; так из двух противоречащих друг другу идеологий 10 рождается некая третья, ублюдочная сис¬тема, которую можно поворачивать в любую сторону: произведение оказывается то умопостижимым, то ирра¬циональным, в зависимости от потребностей момента:
Я птичка; у меня есть крылья...
Я мышка; слава грызунам!
10 К. Мангейм хорошо продемонстрировал идеологический ха¬рактер позитивизма, который, впрочем, отнюдь не помешал этому те¬чению быть продуктивным (Mannheim К. Ideologie et Utopie. P.: Riviere, 1956, p. 93 s.).
226
Я разум; у меня есть факты. Я тайна: отойдите прочь. Идея рассматривать произведение как синтез эле-ментов (таинственный синтез рациональных элементов) сама по себе, вероятно, ни ошибочна, ни верна; это про¬сто способ смотреть на вещи, способ, в высшей степени систематический и порожденный совершенно определен¬ным моментом истории. Другой способ, не менее свое¬образный, состоит в упрямом отождествлении персона¬жей с автором, его любовницами и друзьями. Расин в двадцать шесть лет — это Орест, Расин — это Нерон, Андромаха — это Дюпарк, Бурр — это Витар и т. д. — сколько утверждений подобного рода встречаем мы в расиновской критике, которая оправдывает свой неуем¬ный интерес к знакомым поэта надеждой обнаружить их транспонированными (еще одно волшебное слово) в круг трагедийных персонажей. Ничто не создается из ничего; этот закон органической природы применяют без тени сомнения к литературному творчеству: персо¬наж может родиться только из живого человека. Если бы порождающая фигура рассматривалась сравнительно общо, еще можно было бы попытаться затронуть фантазматическую зону творчества; однако нам, напротив того, предлагаются самые что ни на есть детальные имитации, как если бы было удостоверено, что автор¬ское «я» не может использовать образцы в сколько-нибудь деформированном виде. Требуется, чтобы образец и копия обладали очень наивно понятым общим приз¬наком: Андромаха воспроизводит Дюпарк, потому что обе они были вдовами, хранили верность и имели ре¬бенка; Расин — это Орест, потому что ими обоими вла¬дела одна и та же страсть, и т. д. Это крайне односто¬ронний взгляд на психологию. Во-первых, персонаж мо¬жет родиться не только из живого человека, но и из чего-то совершенно другого: из аффективного импульса, из желания, из сопротивления, или даже проще — из того или иного внутреннего баланса сил в трагедии. А главное, если образец и наличествует, отношение меж¬ду образцом и персонажем вовсе не обязательно явля¬ется аналогическим: бывают инвертированные отноше¬ния, которые можно назвать антифрастическими; не нужно особой смелости, чтобы предположить, что в про¬цессе творчества феномены отрицания и компенсации
227
бывают не менее плодотворны, чем феномены подража¬ния.
И здесь мы приближаемся к постулату, который определяет все традиционные представления о литера¬туре: произведение есть подражание, у произведения есть образцы, и отношение между произведением и образ-цами может быть только аналогическим. В трагедии «Федра» изображается кровосмесительная страсть; в силу догмата об аналогии, следует искать ситуацию инцеста в жизни Расина (Расин и дочери Дюпарк). Даже Гольд-ман, всячески стремящийся умножить промежуточные звенья между произведением и его означаемым, вынуж¬ден подчиниться аналогическому постулату: коль скоро Паскаль и Расин принадлежат к политически разоча¬рованной социальной группе, в их видении мира должно воспроизводиться это разочарование, как будто у писа¬теля нет других возможностей, кроме как буквально копировать самого себя 11. А если произведение содер¬жит именно то, что незнакомо автору, чего нет в его жизни? Не надо быть психоаналитиком, чтобы понять, что поступок (и в особенности литературный поступок, который не ждет никаких санкций от непосредственной реальности) вполне может означать обратное намерение; например, при известных условиях (рассмотрение этих условий как раз и должно быть задачей критики) Тит, хранящий верность, может в конечном счете означать неверного Расина, а Орест, возможно, воплощает как раз то, чем не считает себя Расин, и т. д. Надо пойти еще дальше и задать себе вопрос, не должна ли кри-тика заниматься в первую очередь именно процессами деформации, а не процессами имитации: допустим, наличие образца доказано; важно увидеть, где и как деформируется этот образец, где и как он отрицается или даже упраздняется; воображение есть деформирую¬щая сила; поэтическая деятельность состоит в разруше¬нии образов: это утверждение Башляра все еще вос-
11 Джордж Томсон, другой критик-марксист, гораздо менее утон¬ченный, чем Гольдман, попытался установить поверхностную аналогию между ценностным переворотом в V в. до н. э. (следы этого пере¬ворота, как ему кажется, он обнаруживает в древнегреческих траге¬диях) и переходом от натурального хозяйства к торговле, который сопровождается стремительным возрастанием роли денег.
228
принимается как еретическое постольку, поскольку пози¬тивистская критика продолжает уделять непомерно большое внимание изучению источников произведения 12. Если сравнить почтенное исследование Найта, зареги¬стрировавшего все древнегреческие заимствования у Расина, с исследованием Морона, попытавшегося понять, какой деформации подверглись эти заимствования, по¬зволительно будет думать, что вторая из названных ра¬бот ближе подходит к тайне творчества 13.
Тем более, что аналогическая практика — это, в ко¬нечном счете, столь же рискованное предприятие, как и любая другая критика. Одержимая страстью, если я осмелюсь сказать, к «выкапыванью» сходств, она забы-вает все приемы, кроме одного — индукции; из гипо¬тетического факта она делает выводы, которые быстро начинают восприниматься как бесспорные; в соответ¬ствии с определенной логикой здесь строится определен¬ная система: если Андромаха — это Дюпарк, тогда Пирр — это Расин и т. д. «Если, — пишет Р. Жазинский, — мы доверимся „Безумному спору" и сочтем, что любовное злоключение Расина действительно имело место, — генезис „Андромахи" станет ясным» *.
Искомое ищут и, разумеется, находят. Сходства множатся примерно так, как множатся алиби в языке параноика. На это не следует жаловаться; демонстра¬ция внутренней взаимосвязи всегда остается прекрасным литературно-критическим зрелищем; но разве не видно, что, хотя в цепочке доказательств используются те или иные объективные факты, сам поиск доказательств обу¬словлен постулатом, принадлежащим к совершенно опре¬деленной системе? Если бы критика открыто сформули¬ровала этот постулат, если бы факт перестал наконец играть роль сциентистского алиби для психологической по-
12 О «мифе истоков» см.: Блок М. Цит. соч., с. 19—23.
13 У критики нет никаких оснований рассматривать литературные источники того или иного произведения, персонажа или эпизода как сырой материал: если Расин обращается именно к Тациту, так, может быть, у Тацита уже присутствуют чисто расиновские фантазмы: Тацит тоже является объектом психологической критики со всеми ее постулатами и со всеми ее ненадежностями.
* Jasinski R. Vers le vrai Racine. — In 2 vol. P.: Colin, 1958, t. 1, p. 211. — Прим. перев.
229
зиции, избранной критиком (при том, что сохранились бы традиционные гарантии проверки факта), тогда пара¬доксальным образом историческая эрудиция оказалась бы наконец плодотворной, в той мере, в какой она стала бы служить обнаружению откровенно относительных зна¬чений, не драпируемых отныне в одеяния Вечной Приро¬ды. Р. Жазинский полагает, что «глубинное я» изме¬няется под воздействием некоторых ситуаций и обстоя¬тельств, то есть под воздействием биографических факто¬ров. Между тем, подобное представление о «я» равно уда¬лено и от психологии, какой она могла представляться современникам Расина, и от сегодняшних концепций, согласно которым «глубинное я» характеризуется либо устойчивостью структуры (психоанализ), либо свободой, которая позволяет строить собственную биографию, а не находиться в пассивной зависимости от нее (Сартр). В сущности, Р. Жазинский проецирует на Расина свою собственную психологию, как, впрочем, делает каждый из нас; как делает и А. Адан, когда утверждает, что определенная сцена из «Митридата» «заставляет вол¬новаться все сокровенные струны нашей души»; суж¬дение резко нормативное и вполне законное — при условии, однако, что никто не будет называть интерпрета¬цию рассказа Терамена, предложенную Шпитцером, «абсурдной и варварской», как это делает А. Адан не¬сколько ниже. Посмеем ли мы сказать Жану Помье, что привлекает нас в его эрудиции? Именно то, что она служит выражению некоторых предпочтений, реаги¬рует на одни темы и равнодушно обходит другие, коро¬че, что она является живой маской некоторых навяз¬чивых идей? Сможем ли мы в один прекрасный день подвергнуть Университет психоанализу, не рискуя быть обвиненными в кощунстве? И, если вернуться к Расину, думает ли кто-нибудь, что можно опровергнуть миф о Расине, не задевая всех критиков, которые писали о Расине?
Мы были бы вправе потребовать, чтобы та психо¬логия, на которой основывается эрудитская критика и которая в целом восходит ко временам зарождения лансоновской системы, подверглась некоторому обнов-лению; чтобы она не так послушно следовала по стопам Теодюля Рибо. Мы, однако, не требуем даже и этого;
230
но пусть она просто заявит во всеуслышание о выбранных позициях.
Объективному исследованию поддается вся институ¬циональная сторона литературы (притом, что и в этом случае критику нет никакого резона скрывать свою соб¬ственную ситуацию). Что же касается оборотной сто¬роны медали, той очень тонкой нити, которая связует произведение и его творца, как прикоснуться к ней, не прибегая к ангажированным понятиям? Среди всех под¬ходов к человеку психология — самый гадательный, самый зависимый от времени подход. Потому что на са¬мом деле познание «глубинного я» иллюзорно: имеются лишь разные способы выговаривать это «я» и ничего сверх этого. Расин открывается разным языкам: пси¬хоаналитическому, экзистенциальному, трагическому, пси¬хологическому (могут быть созданы и другие языки; они будут созданы); ни один из этих языков не непо¬рочен. Но, признавая эту невозможность высказать последнюю истину о Расине, мы тем самым признаем, наконец, особый статус литературы. Он основан на парадоксе: литература есть совокупность элементов и правил, технических приемов и произведений, функция которой в общем балансе нашего общества состоит именно в том, чтобы институционализировать субъектив¬ность. Чтобы следовать за этими действиями литера¬туры, критик должен сам сделаться парадоксаль¬ным, выставить напоказ то неизбежное пари, которое понуждает его говорить о Расине либо так, либо иначе: критик тоже является частью литературы. Первое пра¬вило объективности состоит здесь в том, чтобы опове¬щать о системе прочтения, поскольку нейтрального прочтения не существует. Среди всех упоминавшихся мною работ 14 нет ни одной, какую бы я оспаривал;
14 Adam A. Histoire de la litterature francaise au XVIIe siecle, t. IV, P.: Domat, 1958; Вloch M. Apologie pour l'histoire ou metier d'historien, 3e ed., P.: Colin, 1959; Goldmann L. Le dieu cache. P.: Gallimard, 1955; Granet M. Etudes sociologiques sur la Chine. P.: P.U.F., 1953; Jasinski R. Vers le vrai Racine — In 2 vol. P.; Colin, 1958; Knight R. С. Racine et la Grece. P.: Boivin, 1950; Mauron Ch. L'inconscient dans l'?uvre et la vie de Racine. Gap; Ophrys, 1957; Orcibal J. La Genese d'Esther et d'Athalie. P.: Vrin, 1950; Picard R. La Carriere de Jean Racine. P.: Gallimard, 1956;
231
можно даже сказать, что в разных отношениях я ими всеми восхищаюсь. Я лишь сожалею, что столько усилий было положено на служение шаткому делу: ибо, если мы хотим заниматься историей литературы, надо забыть о Расине-индивиде и сознательно перейти на уровень технических приемов, правил, ритуалов и коллективных ментальностей; а если мы хотим с какой бы то ни было целью проникнуть внутрь Расина, если мы хотим ска¬зать нечто — пусть даже одно слово — о расиновском я, тогда самое частное знание должно вдруг стать систематическим, а самый осторожный критик должен раскрыться как вполне субъективное, вполне историче¬ское существо.
1960.
Pommier J. Aspects de Racine. P.: Nizet, 1954; Thierry-Maunier. Racine, 34e ed. P.: Gallimard, 1947.
Литература сегодня.
Перевод С. Н. Зенкина.....233
I. Не могли бы вы рассказать, над чем вы сейчас работаете и в какой мере это связано с литературой?
Меня всегда интересовало то, что можно назвать ответственностью форм. Но лишь заканчивая «Мифо-логии», я понял, что проблему эту следует ставить как проблему значения (signification), и с тех пор именно значение стало главным и осознанным предметом моей работы. Значение — это соединение того, что означает, и того, что означается; это не форма и не содержание, а связующий их процесс. Иными словами, начиная с послесловия к «Мифологиям» меня интересуют не столь¬ко отдельные идеи или мотивы, сколько то, как обще¬ство завладевает ими, превращая их в материал для создания тех или иных знаковых систем. Отсюда не следует, что сам этот материал безразличен, — просто его нельзя понять, использовать и оценить, нельзя фи¬лософски, социологически или политически объяснить, пока не будет описана и осмыслена система значения, в которую он входит. А поскольку эта система — фор¬мальная, то мне пришлось заняться анализом ряда структур, стремясь охарактеризовать несколько экстра¬лингвистических «языков», — в сущности, их столько же, сколько разных форм культуры, которые общество (независимо от их реального происхождения) наделяет значением. Например, пища служит для еды — но она также служит и для значения (обозначая различные социальные положения, обстоятельства, вкусы); то есть пища образует знаковую систему, и в таком плане ее еще предстоит рассмотреть. В числе знаковых систем, кроме языка как такового, можно назвать пищу, одежду, различные изображения, кино, моду, литературу.
233
Разумеется, структура этих систем неодинакова. Наиболее интересными, или наиболее сложными, будут, очевидно, системы, в свою очередь производные от знаковых систем: такова, например, литература, образо¬ванная от столь образцовой знаковой системы, как язык. Такова и мода — по крайней мере, в том виде, как о ней говорят в модном журнале; поэтому недавно, не обращаясь прямо к литературе, система которой устрашающе богата исторически сложившимися значе¬ниями, я сделал попытку описать систему значения модной женской одежды — в том виде, как эта одежда описывается в соответствующих журналах 1. Само сло¬во «описание» говорит о том, что, работая с модой, я одновременно занимался и литературой: ведь будучи описанной, мода становится частным случаем литера¬туры — но случай этот показательный, так как при опи¬сании одежды ей сообщается особый смысл (модность), отличный от буквального смысла фразы; не в этом ли заключается и вся суть литературы? Аналогию мож¬но продолжить: и моду и литературу я бы назвал гомеостатическими системами, то есть их функция не в том, чтобы передавать какое-либо объективное означаемое, существующее до и вне системы, а лишь в том, чтобы создать динамическое равновесие подвижного значения; действительно, в моде нет ничего кроме того, что о ней говорится, а вторичный смысл литературного текста, в сущности, мимолетен и «пуст», хотя сам текст непре-рывно функционирует как означающее этого пустого смысла. И мода и литература вырабатывают значение со всей силой, со всей утонченностью, со всеми уловками изощренного искусства, но значение это как бы «ника¬кое»; их суть в процессе значения, а не в конкретных означаемых.
Если признать моду и литературу знаковыми систе¬мами, в которых означаемое принципиально уклончиво, то неминуемо придется пересмотреть те представления, что могли бы у нас сложиться об истории моды (ее, к счастью, почти не изучали), а равно и те, что на самом деле сложились об истории литературы. В обоих случаях дело происходило как с кораблем «Арго»; детали, ма-
1 Barthes R. Systeme de la mode. P.: Seuil, 1967.
234
териалы, вещественная основа предмета меняются вплоть до его полного время от времени обновления, однако не¬изменным остается имя, то есть существо предмета. Перед нами, следовательно, не простые вещи, а системы, сущность которых в форме, а не в содержании или функциях; стало быть, история таких систем есть исто¬рия форм, и она, быть может, куда полнее, чем кажется, покрывает собой всю их историю в целом, поскольку эта история осложняется, отменяется или попросту под¬чиняется внутреннему саморазвитию форм. Сказанное очевидно в случае моды, где происходит регулярный круговорот форм — либо годовой, на микродиахроничес¬ком уровне, либо вековой, на уровне длительных цик¬лов (см. очень ценные работы Кребера и Ричардсон). Применительно к литературе, конечно, все намного слож¬нее, поскольку у литературы, по сравнению с модой, более широкий и менее четко выделенный круг потреби¬телей; еще важнее, что литература свободна от свой¬ственного моде мифа о несерьезности и рассматривается как воплощение самосознания всего общества в целом, то есть как «исторически природная» ценность (если можно так выразиться). История литературы как знако¬вой системы, по сути, еще не изучалась. Долгое время изучалась только история жанров (мало связанная с историей значимых форм), и она до сих пор преобла-дает в школьных учебниках и еще более того — в обо¬зрениях современной литературы. Позднее, под влиянием в одних случаях Тэна, а в других Маркса, появились попытки создать историю литературных означаемых; примечательнее всего здесь, видимо, работы Гольдмана. Гольдман весьма далеко продвинулся в этом направ¬лении, стремясь связать определенную форму (трагедию) и определенное содержание (мировидение политического класса); но, на мой взгляд, его объяснение все же не¬полно, поскольку не осмысляется сама взаимосвязь, то есть значение. Соотношение двух явлений — истори¬ческого и литературного—рассматривается как анало¬гия (в трагическом разочаровании у Паскаля и Расина воспроизводится, копируется политическое разочарова¬ние правого крыла янсенизма), так что хотя Гольдман и утверждает с замечательной интуицией, что изучает значение, но фактически, на мой взгляд, речь идет лишь
235
о замаскированном детерминизме. Задача состоит (это, конечно, легко сказать!) не в том, чтобы обрисовать историю литературных означаемых, а в том, чтобы соз¬дать историю значений, то есть тех семантических при¬емов, благодаря которым литература сообщает сказан¬ному в ней смысл (пусть даже «пустой»); одним словом, задача в том, чтобы смело проникнуть в «кухню смысла».
II. Вы писали: «Каждый вновь рождающийся писа¬тель подвергает внутреннему суду всю литературу».
Не может ли получиться, что такой постоянный и неизбежный пересмотр основ в дальнейшем окажет опас¬ное влияние на некоторых писателей, так что для них «пересмотр основ» станет просто новым литературным «ритуалом», то есть лишится реальной действенности?
С другой стороны, не кажется ли вам, что ныне слишком часто стало обсуждаться и понятие «неудачи» как необходимого условия подлинно «удачного» произве¬дения?
Есть два рода неудач. Во-первых, историческая не¬удача самой литературы; она не в силах ответить на вопросы, которые задает человеку мир, не нарушая уклончивости (le caractere deceptif) знаковой системы, — а такая система и составляет наиболее зрелую форму литературы; литература сегодня вынуждена лишь зада¬вать миру вопросы, тогда как мир, страдая от отчужде¬ния, нуждается в ответах. Во-вторых, бывает неуспех у публики, когда произведение не принимают читатели. Неудачу первого рода может переживать всякий автор (если он сознает свой удел) как экзистенциальную неудачу своего писательского «проекта»; говорить тут не о чем, и ничем тут не помогут ни моральные принципы, ни, тем более, правила психической гигиены — что можно сказать несчастному сознанию, если его состояние исто¬рически оправданно? Ощущение такой неудачи принадле¬жит к «внутренним убеждениям, которые никому не сле¬дует сообщать» (Стендаль). Что же касается неуспеха у публики, то он может быть интересен (кроме автора, разумеется!) только для социологов и историков, ста¬рающихся распознать в читательском неприятии книги признак тех или иных социально-исторических умо-
236
настроений. Здесь можно заметить, что общество наше отвергает очень мало произведений, причем особенно быстро «адаптируются» произведения «проклятые» (сами по себе редкие), нонконформистские или аскетичные, — одним словом, так называемый авангард. Та культура неудачи, о которой вы говорите, не проявляется нигде — ни у читателей, ни (само собой!) у издателей, ни у молодых писателей, которые по большей части как будто вполне уверены в том, что делают; возможно, впрочем, что ощущать литературу как неудачу могут только те, кто сам находится вне литературы.
III. В «Нулевой степени письма» и в конце «Мифо¬логий» вы пишете, что нужно добиваться «примирения реальности и человека, описания и объяснения, предмета и знания о нем». Не сближается ли такое примирение с позицией сюрреалистов, для которых «разлом» между миром и человеческим духом не безнадежен?
Как бы вы согласовали подобную позицию со своей апологией «неудавшейся ангажированности» писателя (у Кафки)?
Не могли бы вы пояснить это последнее понятие?
Для сюрреализма, при всей тяге этого движения к поли¬тике, действительность и человеческий дух могут сов¬пасть друг с другом непосредственно, то есть без всяких, даже революционных, опосредовании (вообще, сюрреа¬лизм можно определить как искусство обеспосредования). Но с того момента, как возникает мысль, что общество может преодолеть отчуждение только в ходе политического (или, шире, исторического) процесса, подобное совпадение или примирение, оставаясь возмож¬ным, переходит в область утопии. С этого момента возникает утопически-опосредованное и реалистически-непосредственное видение литературы; они не опровер¬гают, а дополняют друг друга.
Само собой разумеется, что, будучи связано с отчуж¬денной действительностью, реалистически-непосредствен¬ное видение никак не может быть «апологией». В общест¬ве отчуждения литература тоже отчуждена, поэтому в реально существующей литературе ни одно явление (в том числе и Кафка) не заслуживает «апологии» — мир
237
освободит не литература. Однако в том «стесненном» состоянии, в котором мы ныне находимся по воле исто¬рии, заниматься литературой можно по-разному; у писа¬теля есть выбор, а значит, для него существует если не нравственность, то во всяком случае ответствен¬ность. Можно сделать из литературы утвердительную ценность — внести в нее либо избыточность (согласовы¬вая ее с консервативными ценностями), либо напряжен¬ность (обращая ее в орудие освободительной борьбы); а можно, наоборот, приписать литературе ценность су¬губо вопросительную — тогда литература станет знаком (пожалуй, единственно возможным) той исторической непрозрачности, которая характеризует наше субъектив¬ное мирочувствование. Уклончивая знаковая система, ко¬торой, на мой взгляд, и является литература, превосход¬но приспособлена для того, чтобы писатель мог глубоко вторгаться своим творчеством в окружающий его мир, в его проблемы и в то же время приостанавливать эту анга¬жированность, как только то или иное учение, партия, группа или культура начинают подсказывать ему опре¬деленный ответ. Задаваемый литературой вопрос имеет одновременно и несущественное (по отношению к потреб¬ностям мира) и сущностно важное значение (так как этот вопрос составляет суть литературы). Вопрос этот — не «в чем смысл мира?», ни даже, возможно: «есть ли у мира какой-то определенный смысл?», но лишь: «вот мир: есть ли в нем осмысленность?». В таком случае литература есть истина, но истина литературы включает в себя и невозможность ответить на вопросы, которыми терзается мир, и возможность ставить подлинные, все¬объемлющие вопросы, ответ на которые не предпола¬гается так или иначе заранее в самой форме вопроса; такого, кажется, не добилась еще ни одна философия, и это поистине дело литературы.
IV. Полем какой литературной практики мог бы стать в нынешних условиях журнал, подобный нашему?
Представляется ли Вам требование эстетической «за¬вершенности» (хотя и открытой, ибо речь не идет о «хо¬рошем слоге») единственным, способным оправдать эту практику?
Что бы вы хотели нам посоветовать?
238
Ваш замысел мне понятен. Вы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, узколитературные журналы печа¬тают литературу иного, старшего поколения, а с другой стороны, журналы с широкой тематикой все более от литературы отворачиваются; недовольные такой ситуа¬цией, вы решили выступить как против литературы известного рода, так и против известного рода пренебре¬жительного отношения к литературе. Однако продукт вашей деятельности, по-моему, парадоксален, и вот по¬чему. Издание журнала, даже литературного, — акт не литературный, а всецело социальный, это как бы попытка институционализации актуальных событий и проблем. По¬скольку же литература — всего лишь форма, то она не несет в себе никакой актуальности (разве что ее содер¬жанием сделать ее собственные формы и превратить ее в самодовлеющий мир); актуален мир, а не литература, она всего лишь отраженный свет. Можно ли издавать журнал на материале отражений? — Не думаю. Если попытаться прямо осветить отраженную структуру, то она либо исчезнет, станет пустой, либо, напротив, застынет и превратится в неподвижную сущность; в обоих случаях «литературному» журналу литература остается недоступ¬ной (со времен Орфея мы знаем, что никогда нельзя огля¬дываться на то, что любишь, — если не хочешь его ги¬бели), а если он будет только лишь «литературным», то недоступным для него останется и сам мир, что уже не пустяк.
Что же делать? Прежде всего, создавать литератур¬ные произведения, то есть новые, неведомые объекты. Вы говорите о завершенности. Но ведь завершенность, то есть цельность вопроса, может быть присуща только литературному произведению; завершая произведение, писатель делает не что иное, как обрывает его в тот самый момент, когда оно начинает наполняться опре¬деленным значением, начинает из вопроса превращаться в ответ; произведение должно строиться как закончен¬ная система значения, но само это значение должно быть уклончивым. Разумеется, для журнала завершен¬ность такого рода невозможна — ведь его назначение в том, чтобы вновь и вновь давать ответы на вопросы реального мира. В этом смысле существование так на¬зываемых «ангажированных» журналов вполне законно,
239
как законно и то, что они все меньше места уделяют литературе. Если говорить о журналах, правота на их, а не на вашей стороне; в неангажированности может состоять истина литературы, но никак не общее правило поведения — наоборот, почему журналу не занять ангажированную позицию, раз ничто этому не мешает? Отсюда, конечно, не следует, что ангажирован¬ность журнала должна быть только «левой»; вы можете, скажем, во всем исповедовать «телькелизм», доктрину «воздержания от определенных суждений», — но, во-первых, пришлось бы признать, что этот «телькелизм» глубоко вовлечен (engage) в историю нашего времени (ведь никакое «воздержание от суждений» не бывает невинно-нейтральным), а во-вторых, свой законченный смысл он мог бы обрести лишь откликаясь изо дня в день на все происходящее в мире, от последнего сти¬хотворения Понжа до последней речи Кастро, от послед¬него любовника Сорейи до последнего полета советских космонавтов. Такому журналу, как ваш, остается одна (узкая) дорога, а именно — рассматривать становление реального мира сквозь призму литературного сознания, давать периодический взгляд на современность как на материал какого-то неведомого литературного произве-дения, жить тем неуловимым, непостижимым мигом, когда рассказ о реальном событии вот-вот наполнится литературным смыслом.
V. Считаете ли вы, что существует какой-либо кри¬терий качества литературных произведений? Не является ли первоочередной задачей установление такого кри¬терия? Полагаете ли вы, что следовало бы не опреде¬лять его априорно, с тем чтобы он сам, если это возмож¬но, сложился в процессе эмпирического выбора?
Обращение к эмпиризму характерно скорее для писа¬теля, чем для критика. Когда мы рассматриваем лите-ратуру, всякое произведение предстает как осу¬ществление замысла, обдуманного на том или ином уровне авторской субъективности (не обязательно на уровне чистого интеллекта); как вы, вероятно, помните, Валери предлагал строить критическое суждение на оцен¬ке дистанции, отделяющей произведение от его замысла.
240
Действительно, «качественным» произведением можно было бы считать то, которое менее всего отличается от по¬родившей его идеи; но поскольку сама по себе эта идея неуловима, поскольку автор обречен сообщать ее нам только через произведение, то есть через то самое опосредование, которое мы и изучаем, то «качествен¬ность» литературы приходится определять лишь косвен¬ными методами — по ощущению строгой последователь¬ности, когда чувствуется, что автор неуклонно следует одному и тому же принципу; такого рода императивные принципы, обеспечивающие единство произведения, исто¬рически изменчивы. Очевидно, например, что в тради¬ционном романе не было никакой строгой методики в описаниях — романист простодушно смешивает то, что ему видно, что ему известно, с тем, что видно и известно его персонажам; у Стендаля на одной странице (я имею в виду описание Карвиля в романе «Ламьель») встре¬чается несколько субъектов повествования; система ви¬дения была в традиционном романе очень нечеткой — вероятно, потому, что «качество» поглощалось тогда другими свойствами, и проблемы доверия между рома¬нистом и читателем не существовало. Первым, кто воспользовался этой путаницей уже систематически, без простодушия, был, видимо, Пруст: в голосе его рассказ¬чика как бы совмещаются несколько субъектов. Это означает, что традиционная логика сменяется логикой собственно романной, — но тем самым оказывается по¬колеблен в своих основах и весь классический роман. Теперь (излагая историю вкратце) у нас пишутся рома¬ны, где повествование ведется с какой-то одной точки зрения, причем качество произведения зависит от того, насколько строго и последовательно выдержана приня¬тая автором система видения. В «Ревности», «Измене¬нии», да, пожалуй, и во всех прочих образцах моло¬дого романа система видения точно устанавливается с самого начала и четко проводится до конца, не включая никаких побочных субъектных инстанций, через которые в прежние времена в произведение открыто вторгалась субъективность автора. (Таковы условия игры — нельзя поручиться, что они всегда соблюдаются, тут требуется детальный разбор текстов.) Иными словами, о мире здесь рассказывается с одной точки зрения, отчего существенно
241
меняются «роли» персонажа и романиста по отношению друг к другу. Качество произведения определяется при этом точным соблюдением правил игры, четкостью ви¬дения — постоянного и вместе с тем подверженного всем превратностям фабулы. Действительно, фабула, протя¬женная «история», есть худший враг моментального видения, и, быть может, именно потому в подобного рода «высококачественных» романах фабула развита столь слабо. Здесь заключен конфликт, который тем или иным способом приходится разрешать — либо объявив фабулу вообще несущественной (но тогда как быть с «занимательностью»?), либо включив ее в такую систему видения, которая в силу своей четкости значительно сужает рамки известного читателю.
VI. «Известно, как часто наша реалистическая лите¬ратура утверждает мифы (хотя бы примитивный миф о реализме) и как редко это случается, к ее чести, в литературе нереалистической».
Какие конкретные произведения вы имеете здесь в виду и чем определяется, на ваш взгляд, подлинный реа-лизм в литературе?
До сих пор реализм определялся скорее своим содер¬жанием, чем своими приемами (не считая приема «за-писной книжки»). Реальным первоначально считалось все прозаическое, грубое, низменное; потом, шире, — предполагаемый общественный базис, освобожденный от приукрашивающих и подменяющих его личин. Никто не подвергал сомнению, что литература просто нечто копирует; в зависимости от того, к какому уровню отно¬силось это «нечто», произведение оказывалось реалисти¬ческим или нереалистическим.
Но что же такое реальное? Оно дано нам только в форме явлений (физический мир), функций (социальный мир) и фантазмов (мир культуры), то есть сама реаль¬ность есть не что иное, как результат логического выво¬да; когда заявляют, что нужно копировать реальность, это значит, что выбирается некоторый вывод в противо¬вес другому; реализм с самого своего зарождения несет ответственность за некоторый выбор. Первое недоразу¬мение, связанное со всеми видами реалистического
242
искусства, состоит в том, что им приписывается облада¬ние более полной и бесспорной истиной, нежели дру¬гим, «интерпретирующим» искусствам. Второе недоразу¬мение, свойственное уже собственно литературе, еще бо¬лее мифологизирует понятие литературного реализма; литература есть явление языка, ее суть в языке, однако язык еще до всякой литературной обработки уже пред¬ставляет собой смысловую систему; еще прежде чем он станет литературой, в нем уже есть обособленность составных частей (слов), дискретность, избирательность, категоризация, специфическая логика. Я сижу в комнате и вижу эту комнату; но разве видеть комнату уже не значит говорить о ней с самим собой? И даже если это не так, то что я могу сказать о том, что я вижу? Скажу ли я «кровать», «окно», назову ли какой-нибудь цвет — я уже начал расчленять то континуальное целое, что находится передо мною. Более того, эти простые слова сами представляют собой значимости, и у них есть опре¬деленная история, определенное окружение, и смысл их рождается, быть может, не столько из соотношения с обозначаемым предметом, сколько из соотношения с другими, близкими и вместе с тем отличными от них словами; и вот именно в этой области сверхзначения, в зоне вторичных значений, размещается и развивается литература. Иначе говоря, литература в своем отношении к предметам как таковым по своей основе, по своей сути нереалистична; литература — это сама ирреаль¬ность; точнее, литература отнюдь не является копией, аналогом реальности, напротив, ее задача состоит в осознании ирреальности языка. «Правдивее всех» та литература, которая сознает себя максимально ирреаль¬ной, поскольку сущность ее заключена в языке; она представляет собой поиски промежуточного состояния между вещами и словами, напряженное сознание, ко¬торое и опирается на слова, и стеснено ими, которое через них имеет неограниченную и вместе с тем несбы¬точную власть над миром. Реализм, понимаемый таким образом, должен заключаться не в копировании вещей, а в познании языка; «реалистичнее» всех будет не то произведение, в котором «живописуется» реальность, а то, которое, пользуясь реальным миром как содержанием (притом что это содержание внеположно структуре, то
243
есть главной сути произведения), глубже всех проник¬нет в ирреальную реальность языка.
Конкретные примеры? Конкретность стоит дорого; здесь мне пришлось бы переписать с новой точки зрения всю историю литературы. Можно, пожалуй, сказать, что разработка всех возможностей языка еще только начи¬нается, здесь таятся бесконечно богатые ресурсы для творчества. Ведь такую разработку не следует связы¬вать с одной лишь поэзией; считается, что поэзия имеет дело со словами, а роман — с «реальностью», но на самом деле вся литература представляет собой пробле¬матику языка; так, в классической литературе осваива¬лась (на мой взгляд, исключительно талантливо) свойст¬венная языку произвольная рациональность, в современ¬ной поэзии — его иррациональность, в «новом романе» — его тусклость, и т. д. С этой точки зрения всякие опыты разрушения языка имеют зачаточный характер, они неспособны к развитию; непредсказуемую новизну, бес¬конечное богатство литература скорее обретет, обратив¬шись к различным формам ложной рациональности языка.
VII. Каково ваше мнение о новейшей литературе? Чего вы от нее ожидаете? Есть ли в ней какой-то смысл?
Я думаю, если бы попросить вас самих определить, что вы подразумеваете под «новейшей литературой», вам пришлось бы крепко призадуматься. Если вы начнете перечислять имена авторов, то сразу же станут очевидны различия между ними и придется специально объясняться по каждому случаю; если же вы станете формулировать общую доктрину, то у вас получится литература, нигде не существующая (в лучшем случае — в ваших собствен¬ных сочинениях), а каждый реальный писатель будет характеризоваться главным образом тем, в чем он не соот¬ветствует этой доктрине. Такая невозможность объеди¬нения не случайна: по ней видно, насколько трудно нам самим постичь исторический смысл своего времени и своего общества.
Может, например, сложиться впечатление известного родства между различными образцами «нового романа» (я сам здесь из этого исходил, говоря о романной
244
системе видения) ; тем не менее еще неизвестно, не пред¬ставляет ли собой «новый роман» феномен чисто социоло¬гический, литературный миф, источники и функции кото¬рого легко определить. Для установления подлинного сходства между произведениями недостаточно знать, что их авторы состоят в дружеских отношениях, печатаются в одних издательствах и совместно устраивают «круглые столы». Возможно ли вообще установление такого сходст¬ва? Когда-то оно, пожалуй, и станет возможным, но пока, по зрелом размышлении, более правомерным и плодо¬творным представляется изучать творчество каждого пи¬сателя в отдельности, рассматривая его именно как са¬мобытное творчество, то есть как феномен, в котором не удалось снять напряженность между субъектом и исто¬рией и который, будучи завершенным и вместе с тем не поддающимся классификации объектом, как раз и дер¬жится на этом напряжении. Так что лучше было бы ста¬вить вопрос о смысле творчества Роб-Грийе или Бютора, чем о смысле «Нового романа». Объясняя «Новый роман» в его данности, вы можете объяснить лишь малую частицу нашего общества; но объясняя творчество Роб-Грийе или Бютора в его становлении, вам, может быть, посчаст¬ливится, преодолевая собственную историческую непро¬зрачность, заглянуть в исторические глубины своей современности. Ведь что такое литература, как не особый язык, который превращает «субъекта» в знак истории?
1961, «Tel Quel».
Воображение знака.
Перевод Н. А. Безменовой .... 246
Любой знак включает в себя или предполагает нали¬чие трех типов отношений. Прежде всего — внутреннее отношение, соединяющее означающее с означаемым, и далее — два внешних отношения. Первое виртуально; оно относит знак к некоторому определенному множеству других знаков, откуда он извлекается для включения в речь; второе отношение актуально, оно присоединяет знак к другим знакам высказывания, предшествующим ему или следующим за ним в речевой цепи. Первый тип отношений отчетливо обнаруживается в явлении, называемом обычно символом; например, крест «симво¬лизирует» христианство, стена Коммунаров — Коммуну, красный цвет — запрет на движение; назовем это первое отношение символическим, хотя оно встречается не толь¬ко в символах, но и вообще в знаках (которые, грубо говоря, представляют собой чисто условные символы). Второй план отношений предполагает для каждого знака существование определенного упорядоченного множества форм («памяти»), от которых он отличается благодаря некоторому минимальному различию, необходимому и достаточному для реализации изменения смысла; в слове lupum элемент -um (являющийся знаком, точнее, морфемой) обнаруживает свое значение аккузатива только в сопоставлении со всеми прочими (виртуаль¬ными) формами склонения (-us, -i, -о и т. д.); красный цвет не означает запрета, пока не включается в регу¬лярную оппозицию зеленому и желтому (очевидно, что если бы не существовало никакого цвета, кроме красного, красный, по-видимому, сопоставлялся бы с отсутствием цвета); этот план отношений является, таким образом, системным, его называют иногда парадигмой; назовем и мы этот второй тип отношений парадигматическим.
246
В третьем типе отношений знак сополагается уже не своим «братьям» (виртуальным), а своим «соседям» (актуальным); в выражении homo homini lupus слово lupus поддерживает некоторые связи со словами homo и homini; в одежде элементы костюма соединяются по определенным правилам: надеть свитер и кожаную курт¬ку значит создать кратковременную, но значащую связь между ними, аналогичную связи слов в предложении; этот план отношений реализуется в синтагме, поэтому назовем третий тип отношений синтагматическим.
Однако оказывается, что, обращаясь к знаковому фе¬номену (а такое обращение может быть обусловлено самыми разными причинами), мы неминуемо вынуждены сосредоточить свое внимание на каком-либо одном из трех отношений; мы «видим» знак то в символическом, то в системном, то в синтагматическом ракурсе; иногда это происходит просто в силу незнания соседних отно¬шений: так, символизм долгое время оставался слеп к формальным знаковым отношениям; но даже если все три отношения оказываются выявленными (как в линг¬вистике, например), каждый индивид (или каждая школа) стремится основать свой анализ только на одном каком-нибудь измерении знака: в результате возникает преобладание одного видения над целостностью зна¬кового феномена, так что можно, вероятно, говорить о различных семиологических сознаниях (конечно, в смысле сознания аналитика, а не потребителя знака). Итак, выбор одного доминирующего отношения предпо¬лагает каждый раз определенную идеологию; вместе с тем — каждому осознанию знака (символическому, па¬радигматическому или синтагматическому) или, во всяком случае, первому с одной стороны и двум дру¬гим — с другой, соответствует некоторый момент рефлек¬сии, индивидуальной или коллективной: структурализм, в частности, может быть определен исторически как переход от символического сознания к сознанию парадиг¬матическому; существует история знака, и это — история его «осознаний».
Символическое сознание видит знак в его глубинном, можно сказать, геологическом измерении, поскольку в его глазах именно ярусное залегание означаемого и озна-
247
чающего создает символ; существует представление о своего рода вертикальном соотношении креста и христианства: христианство залегает как бы под крестом в виде глубинной массы верований, ценностей и обрядов, более или менее упорядоченных на уровне формы. Вертикальность связи влечет за собой два последствия: с одной стороны, вертикальная связь создает впечатление уединенности символа — символ одиноко высится в мире, и даже если считать, что ему свойственна неистощи¬мость, то она более всего напоминает «лес» с его беспорядочной подземной связью переплетенных корней (означаемых); с другой стороны, это вертикальное отношение с необходимостью обнаруживается как отношение аналогии — в символе форма всегда похожа (более или менее) на содержание, как если бы она была порождена им. и поэтому символическое сознание нередко таит в себе не до конца изжитый детерминизм: здесь явно преобла¬дает отношение подобия (даже в том случае, если под¬черкивается неадекватный характер знаковой связи). Символическое сознание царило в социологии символов и, конечно, отчасти в психоанализе в пору его зарожде¬ния, хотя сам Фрейд признавал необъяснимый (не-аналогический) характер некоторых символов; впрочем, это была как раз та эпоха, когда господствовало само слово символ; в те времена символ обладал почти ми¬фической привилегией «неисчерпаемости»: символ неис¬черпаем, а потому-де он не может быть сведен к «просто¬му знаку» (ныне в этой «простоте» знака можно усом¬ниться): могучее, находящееся в постоянном движении содержание все время как бы выплескивается за рамки формы, и потому для символического сознания символ, в сущности, представляет собой не столько кодифициро-ванную форму коммуникации, сколько аффективный инструмент приобщения. Слово символ теперь слегка устарело; его охотно заменяют выражениями знак или значение. Этот терминологический сдвиг свидетельствует о некотором размывании символического сознания, в частности в том, что касается аналогического отношения между означающим и означаемым; тем не менее это сознание сохраняет свою силу до тех пор. пока аналити¬ческий взгляд скользит мимо формальных отношений между знаками (не замечая или игнорируя их), ибо
248
по самой своей сути символическое сознание есть отказ от формы: в знаке его интересует означаемое; означа¬ющее же для него всегда производно.
Однако как только мы сопоставим формы двух знаков или хотя бы рассмотрим их в сравнении, немедленно возникает своего рода парадигматическое сознание; даже на уровне классического символа, более всего связанного со знаками, в случае, если представляется возможность зафиксировать вариацию двух символических форм, сра¬зу обнаруживаются другие измерения знака, как, напри¬мер, это имеет место в оппозиции Красного Креста и Красного Полумесяца *; с одной стороны, Крест и Полу¬месяц утрачивают изолированные отношения со своими означаемыми (христианство и ислам), включаясь в неко¬торую стереотипную синтагму; с другой стороны, они вместе образуют набор различительных признаков, каждый из которых соответствует особому означаемому: рождается парадигма. Таким образом, парадигмати¬ческое сознание определяет смысл не как простую встре¬чу некоего означающего и некоего означаемого, а, по удачному выражению Мерло-Понти, как самую настоя¬щую «модуляцию сосуществования»; оно заменяет дву¬стороннее (пусть даже умноженное) отношение, уста¬навливаемое символическим сознанием, на отношение по меньшей мере четырехстороннее, а точнее — гомологи¬ческое. Именно парадигматическое сознание позволило Леви-Строссу, среди прочего, пo-новому поставить про¬блему тотемизма: в то время как символическое созна¬ние тщетно искало «полные» признаки аналогического характера, объединяющего означающее (тотем) с озна¬чаемым (клан), парадигматическое сознание установило отношение гомологии (термин Леви-Стросса) между отношением двух тотемов и отношением двух кланов (мы не рассматриваем здесь вопрос, является ли эта парадигма непременно двоичной). Конечно, оставляя означаемому только его обозначающую роль (оно указы¬вает на означающее и позволяет выделить члены оппо¬зиции), парадигматическое сознание тем самым стре¬мится опустошить его; однако само значение при этом
* Во французском языке крест (croix) и полумесяц (croissant) — слова одного корня. — Прим. перев.
249
не уничтожается. И, разумеется, именно парадигмати¬ческое сознание обусловило (или отразило) бурное раз¬витие фонологии, науки об образцовых парадигмах (маркированность/немаркированность), именно оно, бла¬годаря трудам Леви-Стросса, определило порог, с кото¬рого начинается структурализм.
Синтагматическое сознание является осознанием от¬ношений, объединяющих знаки между собой на уровне самой речи, иными словами, ограничений, допущений и степеней свободы, которых требует соединение знаков. Этим сознанием отмечены лингвистические работы Йельской школы, а за пределами лингвистики — исследо¬вания русской формальной школы, в частности, изыска¬ния Проппа в области славянской народной сказки, которые, возможно, откроют в будущем путь к анализу крупных современных «повествовательных текстов» — от газетной хроники до массового романа. Однако синтагма¬тическое сознание, по-видимому, ориентировано не толь¬ко в этом направлении; из трех сознаний именно оно наилучшим образом обходится без означаемого: оно в большей степени структурально, нежели семантично; ве¬роятно, именно поэтому синтагматическое сознание на¬иболее приближено к практике: оно лучше всего позво¬ляет представить множества операторов, системы управ¬ления и систематизацию сложных классов объектов: парадигматическое сознание сделало возможным плодо¬творный переход от десятичных систем к двоичным; однако синтагматическое сознание реально обеспечило создание кибернетических «программ», равно как и по¬зволило Проппу и Леви-Строссу реконструировать мифо¬логические «ряды».
Возможно, нам когда-нибудь удастся вернуться к опи¬санию этих семантических сознаний, попытаться связать их с историей; возможно, когда-нибудь и будет создана семиология семиологов, структурный анализ структура¬листов. Здесь мы только хотели сказать, что, вероятно, существует самое настоящее воображение знака; знак является не только предметом особого типа знания, но и объектом определенного видения, напоминающего не¬бесные сферы в Сне Сципиона или же то представление о молекуле, к которому прибегают химики; семиолог
250
видит, как знак движется в поле значения, пересчиты¬вает его валентности, очерчивает их конфигурацию: знак для него — осязаемая идея. Итак, следует предположить возможность перехода от трех сознаний (пока что очер¬ченных схематично), о которых шла речь, к гораздо более широким разновидностям воображения, направлен¬ным на совершенно иные объекты, нежели знак.
Символическое сознание предполагает образ глубины; оно переживает мир как отношение формы, лежащей на поверхности, и некой многоликой, бездонной, могу¬чей пучины (Abgrund), причем образ этот увенчивается представлением о ярко выраженной динамике: отношение между формой и содержанием непрестанно обновля¬ется благодаря течению времени (истории), инфраструк¬тура как бы Переполняет края суперструктуры, так что сама структура при этом остается неуловимой. Пара¬дигматическое сознание, напротив, есть сознание фор¬мальное: оно видит означающее как бы в профиль, видит его связь с другими виртуальными означающими, на которые оно похоже и от которых в то же время отлич¬но; оно совсем или почти совсем не видит знак в его глубинном измерении, зато видит его в перспективе; вот почему динамика такого видения — это динамика запро¬са: знак запрашивается из некоторого закрытого, упо¬рядоченного множества, и этот запрос есть высший акт означивания: здесь мы имеем дело с воображением зем¬лемера, геометра, хозяина мира, удобно расположивше¬гося в нем, ибо, чтобы произвести смысл, человеку ока-зывается достаточно осуществить выбор из некоторого готового набора элементов, заранее структурированного либо его собственным мышлением (согласно бинаристской гипотезе), либо просто в силу наличия материаль¬но законченных форм. Синтагматическое воображение уже не видит (или почти не видит) знак в его перспек¬тиве, зато оно провидит его развитие — его предшествую¬щие и последующие связи, те мосты, которые он пере¬брасывает к другим знакам; это «стемматическое» вооб¬ражение, вызывающее образ цепочки или сети; динамика этого образа предполагает монтаж подвижных взаимо-заменимых частей, комбинация которых как раз и произ¬водит смысл или вообще какой-либо новый объект; таким образом, речь идет о воображении сугубо исполнитель-
251
ском или функциональном (слово это несет в себе плодо¬творную двусмысленность, поскольку отсылает одновре¬менно и к представлению о переменном отношении, и к идее пользования).
Таковы (вероятно) три типа знакового воображения. Очевидно, с каждым из них можно связать известное число соответствующих типов творчества, причем в самых различных областях, поскольку ни один феномен, существующий к настоящему времени в мире, не спо¬собен ускользнуть от смысла. Оставаясь в рамках совре¬менного ителлектуального творчества, можно назвать среди творений, созданных глубинным (символическим) воображением, биографическую или историческую кри¬тику, социологию «видений», реалистический или интро¬спективный роман и вообще все «выразительные» искусства или языки, постулирующие самодовлеющее означаемое, извлеченное либо из внутреннего мира, либо из истории. Формальное (или парадигматическое) вооб¬ражение предполагает пристальное внимание к вариации нескольких рекуррентных элементов; к этому типу воображения могут быть отнесены сны и онирические повествования, произведения сугубо тематические, а также такие, эстетика которых требует игры определен¬ных комбинаций (например, романы Роб-Грийе). Наконец, функциональное (или синтагматическое) воображение питает собой все те произведения, само созидание ко¬торых — путем монтажа дискретных и подвижных эле¬ментов — и является собственно зрелищем; такова поэ¬зия, эпический театр, додекафоническая музыка и лю¬бые структурные композиции — от Мондриана до Бютора.
1962, «Arguments».
Структурализм как деятельность.
Перевод Н. А. Бeзменовой 253
Что такое структурализм? Это не школа и даже не течение (во всяком случае, пока), поскольку большинст¬во авторов, обычно объединяемых этим термином, совер¬шенно не чувствуют себя связанными между собой ни общностью доктрины, ни общностью борьбы. В лучшем случае дело идет о словоупотреблении: структура являет¬ся уже старым термином (анатомистского и грамматистского происхождения) 1, сильно истертым к настоящему времени: к нему охотно прибегают все социальные науки, и употребление этого слова не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком — разве что в полемике относительно содержания, которое в него вкладывают; выражения функции, формы, знаки и значе¬ния также не отличаются специфичностью; сегодня это слова общего применения, от которых требуют и получа¬ют все, что пожелают; в частности, они позволяют замаскировать старую детерминистскую причинно-след¬ственную схему. Вероятно, следует обратиться к таким парам, как означающее — означаемое и синхрония — ди-ахрония, для того, чтобы приблизиться к пониманию отли¬чий структурализма от других способов мышления; к пер¬вой паре следует обратиться потому, что она отсылает к лингвистической модели соссюрианского происхождения, а также и потому, что при современном состоянии вещей лингвистика, наряду с экономикой, является прямым воплощением науки о структуре; на вторую пару следует обратить внимание еще более решительным образом, ибо она, как кажется, предполагает известный пересмотр понятия истории в той мере, в какой идея синхронии (несмотря на то, что у Соссюра она и выступает сугубо
Sens et Usage du terme Structure. La Haye: Mouton & Co., 1962.
253
операциональным понятием) оправдывает определенную иммобилизацию времени, а идея диахронии тяготеет к тому, чтобы представить исторический процесс как чистую последовательность форм. По-видимому, речевой знак структурализма в конечном счете следует усматри¬вать в систематическом употреблении терминов, связан¬ных с понятием значения, а отнюдь не в использовании самого слова «структурализм», которое, как это ни парадоксально, совершенно не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком; понаблюдайте, кто употребляет выражения означающее и означаемое, син-хрония и диахрония, и вы поймете, сложилось ли у этих людей структуралистское видение.
То же самое справедливо и по отношению к интел¬лектуальному метаязыку, который открыто пользуется методологическими понятиями. Поскольку структурализм не является ни школой, ни течением, нет никаких осно¬ваний априорно (пусть даже предположительно) сводить его к одному только научному мышлению; гораздо лучше попытаться дать его по возможности наиболее широкое описание (если не дефиницию) на другом уров¬не, нежели уровень рефлексивного языка. В самом деле, можно предположить, что существуют такие писатели, художники, музыканты, в чьих глазах оперирование структурой (а не только мысль о ней) представляет собой особый тип человеческой практики, и что анали¬тиков и творцов следует объединить под общим знаком, которому можно было бы дать имя структуральный человек; человек этот определяется не своими идеями и не языками, которые он использует, а характером своего воображения или, лучше сказать, способности воображения, иными словами, тем способом, каким он мысленно переживает структуру.
Сразу же отметим, что по отношению ко всем своим пользователям сам структурализм принципиально высту¬пает как деятельность, то есть упорядоченная после¬довательность определенного числа мыслительных опера¬ций: можно, очевидно, говорить о структуралистской деятельности, подобно тому как в свое время говорили о сюрреалистической деятельности (именно сюрреализм, вероятно, дал первые опыты структурной литературы —
254
к этому вопросу стоит вернуться). Однако прежде чем обратиться к этим операциям, нужно сказать несколько слов об их цели.
Целью любой структуралистской деятельности — безразлично, рефлексивной или поэтической — является воссоздание «объекта» таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила функционирования («функции») этого объекта. Таким образом, структура — это, в сущности, отображение предмета, но отображение направленное, заинтересованное, поскольку модель пред¬мета выявляет нечто такое, что оставалось невидимым, или, если угодно, неинтеллигибельным, в самом модели¬руемом предмете. Структуральный человек берет дейст¬вительность, расчленяет ее, а затем воссоединяет рас¬члененное; на первый взгляд, это кажется пустяком (отчего кое-кто и считает структуралистскую деятель¬ность «незначительной, неинтересной, бесполезной» и т. п.). Однако с иной точки зрения оказывается, что этот пустяк имеет решающее значение, ибо в промежутке между этими двумя объектами, или двумя фазами структуралистской деятельности, рождается нечто новое, и это новое есть не что иное, как интеллигибельность в целом. Модель — это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму.
Мы видим, таким образом, почему следует говорить о структурализме как деятельности: созидание или отражение не являются здесь неким первородным «от¬печатком» мира, а самым настоящим строительством такого мира, который походит на первичный, но не копирует его, а делает интеллигибельным. Вот почему можно утверждать, что структурализм по самой своей сути является моделирующей деятельностью, и именно в данном отношении, строго говоря, нет никакой техни¬ческой разницы между научным структурализмом, с одной стороны, и литературой, а также вообще искус¬ством — с другой: оба имеют отношение к мимесису, основанному не на аналогии между субстанциями (на¬пример, в так называемом реалистическом искусстве),
255
а на аналогии функций (которую Леви-Стросс называет гомологией). Когда Трубецкой воссоздает фонетический объект в форме системы вариаций, когда Жорж Дюмезиль разрабатывает функциональную мифологию, когда Пропп конструирует инвариант народной сказки путем структурирования всех славянских сказок, предваритель¬но им расчлененных; когда Клод Леви-Стросс обнару¬живает гомологическое функционирование тотемистиче¬ского мышления, а Ж.-Г. Гранже — формальные правила мышления экономического, или Ж.-К. Гарден — диф¬ференцирующие признаки доисторических бронзовых предметов, когда Ж.-П. Ришар разлагает стихотворение Малларме на его характерные звучания — все они в сущности делают то же самое, что Мондриан, Булез или Бютор, конструирующие некий объект (как раз и называемый композицией) с помощью упорядоченной манифестации, а затем и соединения определенных единиц. Несуществен тот факт, что подлежащий модели¬рующей деятельности первичный объект предоставляется действительностью как бы в уже собранном виде (что имеет место в случае структурного анализа, направлен¬ного на уже сложившиеся язык, общество или произве¬дение) либо, наоборот, в неорганизованном виде (таков случай структурной «композиции»). Несущественно и то, что этот первичный объект берется из социальной или воображаемой действительности, — ведь не природа копируемого объекта определяет искусство (стойкий предрассудок любых разновидностей реализма), а имен¬но то, что вносится человеком при его воссоздании: исполнение является самой сутью любого творчества. Следовательно, именно в той мере, в какой цели струк¬туралистской деятельности неразрывно связаны с опре¬деленной техникой, структурализм заметно отличается от всех прочих способов анализа или творчества: объект воссоздается для выявления функций, и результатом, если можно так выразиться, оказывается сам проделан¬ный путь; вот почему следует говорить скорее о струк¬туралистской деятельности, нежели о структуралистском творчестве.
Структуралистская деятельность включает в себя две специфических операции — членение и монтаж. Расчле¬нить первичный объект, подвергаемый моделирующей де-
256
ятельности, значит обнаружить в нем подвижные фраг¬менты, взаимное расположение которых порождает неко¬торый смысл; сам по себе подобный фрагмент не имеет смысла, однако он таков, что малейшие изменения, затрагивающие его конфигурацию, вызывают изменение целого; квадрат Мондриана, ряд Пуссера, строфа из «Мобиль» Бютора, «мифема» у Леви-Стросса, фонема у фонологов, «тема» у некоторых литературных крити¬ков — все эти единицы (каковы бы ни были их внутрен¬няя структура и величина, подчас совершенно различные) обретают значимое существование лишь на своих грани¬цах — на тех, что отделяют их от других актуальных единиц речи (но это уже проблема монтажа), а также на тех, которые отличают их от других виртуальных единиц, и вместе с которыми они образуют определенный класс (называемый лингвистами парадигмой). Понятие парадигмы является, по-видимому, существенным для уяснения того, что такое структуралистское видение: парадигма — это по возможности минимальное мно-жество объектов (единиц), откуда мы запрашиваем такой объект или единицу, которые хотим наделить актуальным смыслом. Парадигматический объект харак¬теризуется тем, что он связан с другими объектами свое¬го класса отношением сходства или несходства: две единицы одной парадигмы должны иметь некоторое сходство для того, чтобы могло стать совершенно очевид¬ным различие между ними; чтобы во французском языке мы не приписывали один и тот же смысл словам poisson и poison, необходимо, чтобы s и z одновременно имели бы как общий (дентальность), так и дифференцирующий (наличие или отсутствие звонкости) признак. Необходи¬мо, чтобы квадраты Мондриана были сходны своей квад¬ратной формой и различны пропорцией и цветом; необ¬ходимо, чтобы американские автомобили (в «Мобиль» Бютора) все время рассматривались бы одним и тем же способом, но при этом всякий раз различались бы маркой и цветом; необходимо, чтобы эпизоды мифа об Эдипе (в анализе Леви-Стросса) были бы одинаковы и различ-ны и т. д., для того чтобы все названные типы дискурса и произведений оказались интеллигибельными. Операция членения, таким образом, приводит к первичному, как бы раздробленному состоянию модели, при этом, однако,
257
структурные единицы отнюдь не оказываются в хаотиче¬ском беспорядке; еще до своего распределения и вклю¬чения в континуум композиции каждая такая единица вхо¬дит в виртуальное множество аналогичных единиц, обра¬зующих осмысленное целое, подчиненное высшему движу¬щему принципу — принципу наименьшего различия.
Определив единицы, структуральный человек должен выявить или закрепить за ними правила взаимного соединения: с этого момента деятельность по запраши¬ванию сменяется деятельностью по монтированию. Син¬таксис различных искусств и различных типов дискурса, как известно, весьма разнообразен; но что в равной мере обнаруживается во всех произведениях, созданных в соответствии со структурным замыслом, так это их подчиненность некоторым регулярным ограничениям; причем формальный характер этих ограничений, неспра¬ведливо ставившийся структурализму в упрек, имеет гораздо меньшее значение, чем их стабильность, пос¬кольку на этой второй стадии моделирующей деятельно¬сти разыгрывается не что иное, как своего рода борьба против случайности. Вот почему критерии рекуррентности приобретают едва ли не демиургическую роль: именно благодаря регулярной повторяемости одних и тех же единиц и их комбинаций, произведение предстает как некое законченное целое, иными словами, как целое, наделенное смыслом; лингвисты называют эти комбина¬торные правила формами, и было бы весьма желательно сохранить за этим истрепанным словом его строгое значение: форма, таким образом, это то, что позволяет отношению смежности между единицами не выглядеть результатом чистой случайности; произведение искус¬ства — это то, что человеку удается вырвать из-под вла¬сти случая. Сказанное, быть может, позволит понять, с одной стороны, почему так называемые нефигуративные произведения являются все же произведениями в самом точном смысле слова, ибо человеческая мысль подчиня¬ется не аналогической логике копий и образцов, но логике упорядоченных образований, а с другой сторо¬ны — почему эти же самые произведения, в глазах тех, кто не различает в них никакой формы, выглядят как хаотические и тем самым никчемные: стоя перед абстрак¬тным полотном, Хрущев, безусловно, ошибается, не видя
258
в нем ничего, кроме беспорядочных мазков, оставлен¬ных ослиным хвостом; и тем не менее в принципе он знает, что искусство — это своего рода победа над случайностью (он упускает из виду всего лишь то, что любому правилу — хотим ли мы его применять или по¬нять — научаются).
Построенная таким образом модель возвращает нам мир уже не в том виде, в каком он был ей изначально дан, и именно в этом состоит значение структурализма. Прежде всего, он создает новую категорию объекта, ко¬торый не принадлежит ни к области реального, ни к области рационального, но к области функционального, и тем самым вписывается в целый комплекс научных исследований, развивающихся в настоящее время на ба¬зе информатики. Затем, и это особенно важно, он со всей очевидностью обнаруживает тот сугубо человеческий процесс, в ходе которого люди наделяют вещи смыслом. Есть ли в этом что-либо новое? До некоторой степени, да; разумеется, мир всегда, во все времена стремился обнаружить смысл как во всем, что ему предзадано, так и во всем, что он создает сам; новизна же заклю-чается в факте появления такого мышления (или такой «поэтики»), которое пытается не столько наделить целост¬ными смыслами открываемые им объекты, сколько по¬нять, каким образом возможен смысл как таковой, какой ценой и какими путями он возникает. В пределе можно было бы сказать, что объектом структурализма является не человек-носитель бесконечного множества смыслов, а человек-производитель смыслов, так, словно человечество стремится не к исчерпанию смыслового содержания знаков, но единственно к осуществлению того акта, по¬средством которого производятся все эти исторически возможные, изменчивые смыслы. Homo significans, чело¬век означивающий, — таким должен быть новый человек, которого ищет структурализм.
По словам Гегеля 2, древние греки изумлялись ес¬тественности естества; они непрестанно вслушивались в него, вопрошая родники, горы, леса, грозы об их смысле; не понимая, о чем именно им говорят все эти вещи, они
2 Гегель. Сочинения, т. VIII. М.—Л.: Соцэкгиз, 1935, с. 221.
259
ощущали в растительном и космическом мире всепрони¬кающий трепет смысла, которому они дали имя одного из своих богов — Пан. С той поры природа изменилась, стала социальной: все, что дано человеку, уже пропитано человеческим началом — вплоть до лесов и рек, по ко¬торым мы путешествуем. Однако находясь перед лицом этой социальной природы (попросту говоря — культуры), структуральный человек в сущности ничем не отлича¬ется от древнего грека: он тоже вслушивается в естест¬венный голос культуры и все время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, «истинных» смыслов, сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе неустанного созидания смысла, без чего оно утратило бы свой человеческий облик. И вот именно потому, что такое производство смысла в его глазах гораздо важнее, нежели сами смыслы, именно потому, что функция экстенсивна по отношению к любым кон¬кретным творениям, структурализм и оказывается не чем иным, как деятельностью, когда отождествляет акт соз¬дания произведения с самим произведением: додекафо¬ническая композиция или анализ Леви-Стросса являются объектами именно в той мере, в какой они сделаны: их бытие в настоящем тождественно акту их изготовления в прошлом; они и суть предметы, изготовленные-в-прошлом. Художник или аналитик проделывает путь, ранее пройденный смыслом; им нет надобности указывать на него: их функция, говоря словами Гегеля, — это manteia; подобно древним прорицателям, они возвещают о месте смысла, но не называют его. И именно потому, что ли¬тература, между прочим, есть тоже своего рода прори¬цательство, она доступна и рациональному толкованию, и в то же время вопрошает, она говорит и безмолвствует, проникая в мир по той же самой дороге, которую про-делал смысл и которую она заново проделывает вместе с ним, освобождаясь по пути от всех случайных смыс¬лов, выработанных этим миром; для человека, который ее потребляет, она является ответом, по отношению же к природе продолжает оставаться вопросом: литература — это вопрошающий ответ и ответствующий вопрос.
Как же структуральный человек может принять упрек в ирреализме, который ему подчас предъявляют? Разве
260
формы не существуют в самом мире, разве на формах не лежит ответственность? Правда ли, что только марк¬сизму Брехт обязан всем тем революционным, что в нем есть? Не вернее ли сказать, что эта революционность заключалась в том, что свое марксистское видение Брехт воплощал с помощью некоторых сценических при¬емов, например, особым образом размещая прожекторы или одевая своих актеров в поношенные костюмы. Струк¬турализм не отнимает у мира его историю: он стремится связать с историей не только содержания (это уже тыся¬чу раз проделывалось), но и формы, не только матери¬альное, но и интеллигибельное, не только идеологию, но и эстетику. И именно потому, что любая мысль об истори-ческой интеллигибельности неизбежно оказывается актом приобщения к этой интеллигибельности, структуральный человек весьма мало заинтересован в том, чтобы жить вечно: он знает, что структурализм — это тоже всего лишь одна из форм мира, которая изменится вместе с ним; и как раз потому, что структуральный человек проверяет пригодность (а отнюдь не истинность) своих суждений, мобилизуя способность говорить на уже сло¬жившихся языках мира новым способом, ему ведомо и то, что достаточно будет возникнуть в истории новому языку, который заговорит о нем самом, чтобы его миссия оказалась исчерпанной.
1963, «Lettres Nouvelles».
Две критики.
Перевод С. Н. Зенкина........262
В настоящий момент у нас во Франции параллельно существуют две критики: во-первых, та, которую можно упрощенно назвать университетской и которая в основ¬ном пользуется унаследованным от Лансона позитивист¬ским методом, и, во-вторых, критика интерпретативная. Представители последней сильно отличаются друг от дру¬га — это и Ж.-П. Сартр, и Г. Башляр, и Л. Гольдман, и Ж. Пуле, и Ж. Старобинский, и Ж.-П. Вебер, и Р. Жи¬рар, и Ж.-П. Ришар, — но общее у них то, что их подход к литературе соотносится (в большей или меньшей сте¬пени, но во всяком случае осознанно) с одним из основ¬ных идеологических течений наших дней (будь то эк¬зистенциализм, марксизм, психоанализ или феноменоло¬гия) ; оттого эту вторую критику можно также назвать критикой идеологической — в отличие от первой, которая отвергает всякую идеологию и объявляет себя сторонни¬цей чисто объективного метода. Разумеется, эти две кри¬тики взаимосвязаны; с одной стороны, идеологическая критика по большей части создается университетскими преподавателями, ибо во Франции, как известно, в силу профессиональных традиций статус интеллектуала вооб¬ще почти неотличим от статуса университетского препо¬давателя; а с другой стороны, Университету случается иногда удостаивать признанием интерпретативную кри¬тику, поскольку некоторые труды, ее представляющие, суть докторские диссертации (правда, в философских ученых советах их принимают, пожалуй, охотнее, чем в филологических). Тем не менее между двумя критиками реально существует если и не конфликт, то размежевание. Чем это вызвано?
Если бы университетская критика вполне исчерпыва¬лась своей открыто заявленной программой, состоящей
262
в точном установлении биографических и литературных фактов, то у нее, собственно, и не было бы ни малейшей причины для напряженных отношений с критикой идео¬логической. Научные достижения позитивизма и даже выдвинутые им принципы не подлежат сомнению; никто в наши дни, независимо от избранной им философии, не думает оспаривать пользу эрудиции, необходимость исторической точности и ценность тщательного анализа литературных «обстоятельств»; и хотя в том, как важна для университетской критики проблема источников, уже сказывается известное представление о том, что такое литературное произведение (мы еще вернемся к этому), все же нельзя отрицать, что раз уж такая проблема поставлена, изучать ее надо со всей строгостью. Таким образом, на первый взгляд" ничто не мешает взаимному признанию и сотрудничеству двух критик; позитивистская критика занималась бы установлением и открытием «фактов» (коль скоро именно этого она требует), а кри¬тикам другого направления оставалась бы свобода их интерпретировать, точнее «приписывать им значение» в соответствии с той или иной открыто заявленной идеоло¬гической системой. Такое примирение относится, однако, к разряду утопий, поскольку в действительности между университетской и интерпретативной критикой существу¬ет не разделение труда, не просто разногласия философско-методологического порядка, но вполне реальное соперничество двух идеологий. Позитивизм, как показал Мангейм, на деле сам является идеологией в ряду других (что, впрочем, отнюдь не мешает ему быть полезным). Когда же позитивизмом руководствуется литературная критика, то его идеологичность проявляется по меньшей мере в двух главных моментах.
Прежде всего позитивистская критика намеренно ограничивается исследованием «обстоятельств» творчест-ва (пусть даже это и обстоятельства внутреннего поряд¬ка), утверждая тем самым в высшей степени пристраст¬ные воззрения на литературу; действительно, отказ от постановки вопроса о существе литературы означает, что существо это предполагается извечным или, если угодно, природным, — одним словом, что литература есть нечто само собой разумеющееся. Но что же такое литература? Зачем писатели пишут? Разве Расин писал из тех же
263
побуждений, что и Пруст? Не задаваться такими вопро¬сами — значит уже ответить на них; ведь это значит принять традиционную точку зрения обыденного здравого смысла (а он не обязательно является историчным), согласно которой писатель пишет просто-напросто ради самовыражения, а существо литературы состоит в «пере¬даче» чувств и страстей. Увы, стоит нам коснуться интенционального аспекта человеческого бытия (а как без этого говорить о литературе?) — и позитивистская психология оказывается недостаточной: не только пото¬му, что она вообще носит зачаточный характер, но также и потому, что она опирается на совершенно устаревшую философию детерминизма. Парадоксальным образом историческая критика отказывается здесь от историзма; история учит нас, что у литературы нет вневременной сущности, что под недавно возникшим названием «ли¬тература» скрывается процесс становления весьма отлич¬ных друг от друга форм, функций, институтов, причин и намерений; именно историк и должен показать нам их относительность, иначе он обрекает себя на неспо¬собность объяснить свои «факты» — не отвечая на во¬прос о том, зачем писал Расин (что могла значить лите¬ратура для человека той эпохи), критика заказывает себе путь к решению вопроса о том, почему с некоторых пор (после «Федры») Расин писать перестал. Все взаи-мосвязано: самая мелкая, самая малозначительная ли¬тературная проблема может обрести разгадку в духов¬ном контексте эпохи, причем этот контекст отличается от нашего нынешнего. Критик вынужден признать, что неподатливым и ускользающим является сам объект его изучения (в своей наиболее общей форме) —литература как таковая, а не биографическая «тайна» автора.
Второй момент, в котором университетская критика ярко проявляет свою идеологическую ангажирован-ность, — это, если можно его так назвать, принцип аналогии. Как известно, деятельность подобной критики состоит главным образом в поисках «источников»; изучаемое произведение всякий раз соотносится с чем-то иным, стоящим за литературой; таким «стоящим за» может быть другое, более раннее произведение, то или иное обстоятельство биографии автора, либо «страсть», которую писатель реально испытывает в жизни и «выра-
264
жает» (опять выражение) в своем творчестве: Орест — это двадцатишестилетний Расин, с его любовью и рев¬ностью, и т. д. Однако здесь важно не столько то, с чем соотносится произведение, сколько сама природа соотно¬шения; во всякой объективной критике она одна и та же — соотношение всегда носит характер аналогии, a это предполагает уверенность, что писать — значит лишь воспроизводить, копировать, чем-либо вдохновлять¬ся и т. п. Имеющиеся между моделью и произведением различия (оспаривать их было бы нелегко) всякий раз относятся за счет «гения»; столкнувшись с этим поняти¬ем, внезапно умолкает самый настойчивый и въедливый критик; как только перестает быть видна аналогия, са¬мый суровый рационалист обращается в психолога, с доверчивым почтением склоняющегося перед таинствен¬ной алхимией творчества; так, выявляющиеся в произве¬дении сходства с моделью объясняются в духе строжай¬шего позитивизма, тогда как различия — любопытнейшее отречение от собственных принципов! — в духе магии. А тем самым делается вполне определенный выбор: ведь с неменьшим успехом можно утверждать и другое — что литературное творчество начинается именно там, где оно подвергает деформации свой предмет (или, скажем осторожнее, — то, от чего оно отправляется). Башляр уже показал, что поэтическое воображение по сути своей не формирует, а деформирует образы; да и в психоло¬гии, этой излюбленной сфере аналогических толкований (считается, будто описание страсти всегда проистекает из страсти, пережитой в действительности), — и здесь тоже ныне известно, что явления отрицания реально пережитого никак не менее, если не более важны, чем явления его адекватного отражения. Желание, страсть, неудовлетворенность вполне могут порождать диамет¬рально противоположные им психические представления; реальный движущий мотив может в результате инверсии обернуться опровергающей его ложной мотивировкой. Таким фантазмом, компенсирующим отвергаемую дей¬ствительность, как раз и может служить литературное произведение: Орест, влюбленный в Гермиону, — это может быть сам Расин, который втайне испытывал отвращение к Терезе Дюпарк; соотношение творчества и действительности вовсе не обязательно состоит в сход-
265
стве. Пути подражания (если брать это слово в самом широком смысле, как делает Марта Робер в своем не-давнем эссе «Древнее и новое» 1) извилисты; определим ли мы подражание в терминах гегельянства, психоана¬лиза или экзистенциализма, в любом случае под дейст¬вием необоримой диалектики изображаемый предмет постоянно искривляется, подвергается влиянию сил, де¬лающих его притягательным, компенсирующим реальные невзгоды, смешным, агрессивным; причем значимость (valeur), то есть замещающая способность (valantpour), этих сил определяется в зависимости не от самого предмета, а от их места в общем строе произведения. Здесь мы касаемся одной из самых серьезных ошибок, в которых повинна университетская критика: сосредо¬точив свое внимание на генезисе частных деталей, она рискует упустить из виду их истинный, то есть функци¬ональный, смысл. Изобретательно, методично и упорно выясняя, представлен ли в образе Ореста Расин, а в образе барона де Шарлю — граф де Монтескью, она тем самым не признает, что Орест и Шарлю прежде всего суть звенья функциональной сети фигур, которая в своей связности может быть понята лишь через внутреннее устройство произведения и его окружение, а не через его корни. Оресту соответствует (разумеется, по дифференциальным признакам) не Расин, а Пирр, барону де Шарлю — не граф де Монтескью, а прустовский рассказчик, и именно постольку, поскольку рассказ¬чик не совпадает с Прустом. В итоге произведение само себе служит моделью; в поисках его истинного смысла следует идти не вглубь, а вширь; связь между автором и его произведением, конечно, существует (кто станет это отрицать? Произведение ведь не падает с неба; одна лишь позитивистская критика до сих пор еще верит в Музу), но это не мозаичное соотношение, возникающее как сумма частных, рассыпанных там и сям «глубинных» сходств, а, напротив, отношение между автором как целым и произведением как целым, то есть отношение отношений, зависимость гомологическая, а не аналоги¬ческая.
1 Robert Marthe. L'Ancien et le Nouveau. P.: Grasset, 1963.
266
Здесь мы, пожалуй, подходим к самой сути проблемы. Если попытаться разгадать, почему университетская критика неявным образом отвергает критику другого типа, то сразу окажется, что дело отнюдь не в банальной боязни нового; университетскую критику не назовешь ни ретроградной, ни старомодной (разве только несколь¬ко медлительной), она прекрасно умеет приспосабливать¬ся. Так, несмотря на свое многолетнее пристрастие к конформистской психологии нормального человека (уна¬следованной от Теодюля Рибо, современника Лансона), она теперь «признала» и психоанализ в лице Ш. Морона, чья критика, с исключительной благожелательностью увенчанная докторской степенью, находится под прямым влиянием Фрейда. Но даже в самом этом признании ясно просматривается оборонительная линия универ-ситетской критики: ведь психоаналитическая критика — это все еще психология, в ней предполагается нечто, стоящее за произведением (детские переживания писате¬ля), некая авторская тайна, требующая разгадки, то есть все та же человеческая душа, хотя и обозначенная по-другому. Лучше уж психопатология писателя, чем вообще никакой психологии; соотнося детали произведе¬ния с деталями биографии, психоаналитическая критика продолжает исповедовать эстетику мотивации, всецело основанную на внешних отношениях (среди расиновских персонажей оттого так часто фигурирует отец, что сам Расин рос сиротой); роль внешних биографических фак¬торов остается в неприкосновенности — можно будет и дальше «копаться» в жизни писателей. В итоге все, что университетская критика готова принять (и то лишь постепенно, сопротивляясь на каждом шагу), — это, как ни парадоксально, сам принцип интерпретативной, или же идеологической, критики (хотя это слово некоторых еще пугает); но она не допускает, чтобы полем действия интерпретации и идеологии стала чисто внутренняя сфера произведения. Отвергается, одним словом, имманентный подход; все можно принять, лишь бы произведение со¬относилось с чем-то иным, нежели оно само, с чем-то таким, что не есть литература; все, что стоит за произ¬ведением, — история (даже в ее марксистском варианте), психология (даже в форме психоанализа) — мало-пома¬лу получает признание; не получает его лишь работа
267
внутри произведения, когда к его отношениям с внешним миром переходят только после того, как полностью опи¬шут его изнутри, в его функциях или, как теперь говорят, в его структуре. Таким образом, отвергается критика феноменологическая (она эксплицирует произведение, вместо того чтобы его объяснять), тематическая (она прослеживает внутренние метафоры произведения) и структурная (она рассматривает произведение как систе¬му функций).
Чем вызвано такое неприятие имманентности (притом что принцип этот зачастую толкуется превратно)? Сей¬час на подобный вопрос можно ответить лишь предпо¬ложительно. Возможно, дело в упорной приверженности к идеологии детерминизма, для которой произведение — «продукт» некоторой «причины», а внешние причины «причиннее всех других»; возможно, и в том, что отказ от критики причинных обусловленностей в пользу крити¬ки функций и значений повлек бы за собой глубокие перемены в нормах научного знания, а тем самым и в методах его преподавания, а стало быть и во всей работе университетского преподавателя. Не следует за¬бывать, что наука и образование пока не отделены друг от друга, и Университет занят не только научной рабо¬той, но также и присвоением дипломов; ему нужна поэтому идеология, связанная с достаточно сложной спе¬циальной подготовкой, которая могла бы служить сред¬ством отбора. Позитивизм позволяет ему требовать широких, трудно и кропотливо приобретаемых познаний; имманентная же критика — так, по крайней мере, ка¬жется — добивается лишь умения удивляться произведе¬нию, а такое умение трудно измерить; понятно, что Университет так неохотно меняет свои требования.
1963, «Modern Languages Notes».
Что такое критика?
Перевод С. Н. Зенкина ... 269
Идеологическая злоба дня всегда дает основание для провозглашения тех или иных общих принципов лите-ратурной критики — особенно во Франции, где теорети¬ческие построения очень престижны, должно быть от¬того, что благодаря им практик обретает уверенность в своей сопричастности к борьбе, к истории, к некото¬рой общности. В соответствии с этим французская критика вот уже лет пятнадцать как развивается, хотя и с неодинаковым успехом, в русле четырех основных «философских течений». Во-первых, это то, что принято обозначать весьма спорным термином «экзистенциа¬лизм»; к нему относятся критические работы Сартра — «Бодлер», «Флобер», ряд статей о Прусте, Мориаке, Жироду и Понже, а также превосходный очерк «Жене». Во-вторых, это марксизм. Известно (спор идет уже давно), насколько бесплодной проявила себя в критике марксист¬ская ортодоксия, дающая чисто механистическое объяс¬нение произведений и провозглашающая лозунги вместо критериев ценности; наиболее же плодотворной для критики оказалась, так сказать, периферия марксизма, а не его официальный центр. Такова критика Л. Гольдмана (работы о Расине и Паскале, о Новом романе, об аван¬гардистском театре, о Мальро), который много и открыто заимствует у Лукача; среди всех возможных критиче¬ских подходов, отправляющихся от социально-политиче¬ской истории, его подход — один из самых гибких и виртуоз¬ных. В-третьих, это психоанализ. Существует психоанали¬тическая критика фрейдовского толка, лучшим предста¬вителем которой во Франции, видимо, является ныне Шарль Морон (работы о Расине и Малларме); но и здесь плодотворнее всего оказался «маргинальный» психоанализ. Г. Башляр, начав с анализа тематических субстанций
269
(а не отдельных произведений) и прослеживая динамиче¬ские деформации образа на материале творчества многих поэтов, основал целую школу критики, и она настолько богата достижениями, что наиболее развитое течение в современной французской критике вдохновляется, можно сказать, именно идеями Башляра (Ж. Пуле, Ж. Старобинский, Ж.-П. Ришар). В-четвертых, это структурализм (или, говоря предельно упрощенно и в общем даже неточ¬но, — формализм). Известно, сколь важным, можно даже сказать модным, стало это течение во Франции с тех пор, как благодаря К. Леви-Строссу перед ним открылась об¬ласть социальных наук и философской рефлексии; пока оно дало немного критических трудов, но работа над ними идет, и в них, видимо, будет сказываться прежде всего влияние той модели языка, что создана Соссюром и раз¬вита Р. Якобсоном (который сам в раннюю свою пору был участником одного из литературно-критических течений — русской формальной школы); литературная критика может, например, разрабатываться на основе двух категорий риторики, установленных Якобсоном, — метафоры и метонимии.
Как мы видим, нынешняя французская критика носит характер одновременно «национальный» (она ничем или почти ничем не обязана критике англосаксонской, учениям Шпитцера или Кроче) и «современный», или если угодно «еретический». Всецело располагаясь в ны¬нешнем идеологическом контексте, она ощущает себя мало причастной к традициям критики Сент-Бева, Тэна или Лансона. Впрочем, учение последнего представляет для сегодняшней критики специфическую проблему. Своими трудами, методом, самим своим духом Лансон, этот образец французского профессора, вот уже лет пять¬десят задает тон во всей университетской критике через посредство своих бесчисленных эпигонов. Может пока¬заться, что поскольку принципы этой критики (по край¬ней мере, декларируемые) заключаются в строгом и объективном установлении фактов, то лансонизм и все¬возможные течения идеологической, интерпретативной критики ничем друг другу и не мешают. Однако же, хотя современные французские критики в большинстве своем сами работают преподавателями (здесь речь идет только о критике профессиональной, а не любительской),
270
между интерпретативной и позитивистской (универси¬тетской) критикой существует тем не менее известная напряженность. Дело в том, что фактически лансонизм тоже является идеологией: он не просто требует соблю¬дать объективные правила, принятые в любых научных исследованиях, но и включает в себя некоторые общие воззрения на человека, историю, литературу, отношения автора и произведения. Так, с совершенно определенной эпохой связана лансоновская психология, являющая собой своего рода аналогический детерминизм, соглас¬но которому детали произведения должны быть подобны деталям чьей-то жизни, душа персонажа — душе авто¬ра и т. д.; все это — специфическая идеология, так как психоанализ, например, с тех пор представил себе отно¬шения между произведением и автором прямо противо¬положным образом — как взаимоотрицание. На деле, ко¬нечно, обойтись без философских предпосылок вообще нельзя; и учение Лансона можно упрекнуть не в том, что оно совершает определенный выбор, а в том, что оно его замалчивает, скрывая под моралистическими покро¬вами строгости и объективности. Идеология здесь, как контрабандный товар, прячется в багаже позитивной научности.
Поскольку все эти различные идеологические прин¬ципы оказываются возможными одновременно (и сам я до какой-то степени солидаризируюсь одновременно с ними всеми), то, видимо, идеологический выбор не сос-тавляет существа критики и оправдание свое она нахо¬дит не в «истине». Критика — это нечто иное, нежели вынесение верных суждений во имя «истинных» прин¬ципов. Отсюда следует, что худшее из прегрешений критики — не идеологичность, а ее замалчивание; это преступное умолчание называется «спокойной совестью» (bonne conscience) или же самообманом. Как, в са¬мом деле, поверить, будто литературное произведение есть объект, лежащий вне психики и истории человека, его вопрошающего, будто критик обладает по отноше¬нию к нему как бы экстерриториальностью? Каким чу¬десным образом постулируемая большинством критиков глубинная связь между изучаемым произведением и его автором утрачивает силу применительно к их собствен-
271
ному творчеству и к их собственному времени? Получа¬ется, что законы творчества для сочинителя писаны, а для критика нет? В рассуждениях всякой критики непре¬менно подразумевается и суждение о себе самой (пусть даже в сколь угодно иносказательной и стыдливой фор¬ме), критика произведения всегда является и самокри¬тикой; по выражению Клоделя, познание (connaissance) другого происходит в со-рождении (co-naissance) на свет вместе с ним. Это можно еще раз переформулиро¬вать так: критика — не таблица результатов и не сово¬купность оценок, по своей сути она есть деятельность, то есть последовательность мыслительных актов, глубо¬ко укорененных в историческом и субъективном (что одно и то же) существовании человека, который их осущест¬вляет, принимает на себя. Разве деятельность может быть «истинной»? Она подчиняется совсем иным тре¬бованиям.
Какими бы извилистыми ни были пути литературной теории, в ней всегда признается, что романист или поэт говорит о вещах и явлениях (в том числе и вымышлен¬ных), существующих до и вне языка: мир существует, писатель пишет — вот что такое литература. У критики же предмет совсем иной — не «мир», а слово, слово дру¬гого; критика — это слово о слове, это вторичный язык, или метаязык (как выражаются логики), который нак¬ладывается на язык первичный (язык-объект). В своей деятельности критика должна, следовательно, учитывать два рода отношений — отношение языка критика к язы¬ку изучаемого автора и отношение этого языка-объекта к миру. Определяющим для критики и является взаим¬ное «трение» этих двух языков, чем она, по-видимому, в немалой степени сближается с другой формой умствен¬ной деятельности—логикой, которая также всецело зиждется на различении языка-объекта и метаязыка.
В самом деле, если критика всего лишь метаязык, то это значит, что дело ее — устанавливать вовсе не «исти¬ны», а только «валидности». Язык сам по себе не бывает истинным или ложным, он может только быть (или не быть) валидным, то есть образовывать связную знако¬вую систему. Законы, которым подчиняется язык лите¬ратуры, касаются его согласования не с реальностью (как бы ни притязали на это реалистические школы),
272
а всего лишь с той знаковой системой, которую опреде¬лил себе автор (слово система здесь, конечно, следует понимать в самом строгом смысле). Критика не должна решать, написал ли Пруст «правду», является ли барон де Шарлю графом де Монтескью, а Франсуаза — Селе¬стой, или даже (ставя вопрос шире) воспроизводятся ли в нарисованной у Пруста картине общества точные исторические обстоятельства угасания аристократии в конце XIX века; ее задача лишь самостоятельно выра¬ботать такой язык, чтобы он в силу своей связности, логичности, одним словом, систематичности, мог вобрать в себя или, еще точнее, «интегрировать» (в математи¬ческом смысле) как можно больше из языка Пруста; точно так же в логическом уравнении испытывается ва¬лидность того или иного умозаключения и не высказы¬вается никакого суждения об «истинности» использован¬ных в нем посылок. Можно сказать, что цель критики носит чисто формальный характер (чем единственно и гарантируется ее универсальность): она не в том, чтобы «раскрыть» в исследуемом произведении или писателе нечто «скрытое», «глубинное», «тайное», до сих пор не замеченное (каким чудом? неужели мы проницательнее своих предшественников?), а только в том, чтобы при¬ладить — как опытный столяр «умелыми руками» приго¬няет друг к другу две сложных деревянных детали, — язык, данный нам нашей эпохой (экзистенциализм, марксизм, психоанализ), к другому языку, то есть фор¬мальной системе логических ограничений, которую вы¬работал автор в соответствии со своей собственной эпохой. «Доказательность» критики — не «алетического» порядка, она не имеет отношения к истине, ибо крити-ческий дискурс, как, впрочем, и логический, неизбежно тавтологичен; в конечном счете критик просто говорит: «Расин это Расин, Пруст это Пруст», — говорит с запоз¬данием, но вкладывая в это запоздание всего себя, от¬чего оно и обретает значительность. Если в критике и существует «доказательность», то зависит она от способ¬ности не раскрыть вопрошаемое произведение, а, на¬против, как можно полнее покрыть его своим собствен¬ным языком.
Итак, речь идет — повторюсь еще раз — о деятель¬ности сугубо формальной, не в эстетическом, а в логи-
273
ческом смысле понятия. Критика лишь тогда избегнет «спокойной совести» или самообмана, о которых шла речь выше, когда своей моральной целью она поставит не расшифровку смысла исследуемого произведения, а воссоздание правил и условий выработки этого смысла, когда она признает литературное произведение своеоб¬разной семантической системой, призванной вносить в мир «осмысленность» (du sens), a не какой-то опре¬деленный смысл (un sens). Произведение, по крайней мере из числа тех, что обычно попадают в поле зрения критики (а этим, пожалуй, и определяется «добропоря¬дочная» литература), никогда не бывает ни полностью неясным (таинственным или «мистическим»), ни до кон¬ца ясным; оно как бы чревато смыслами — открыто предстает читателю как система означающих, но не да¬ется ему в руки как означаемый объект. Этой уклончи¬востью (de-ception), «неухватностью» (de-prise) смысла объясняется способность произведения, с одной стороны, задавать миру вопросы (расшатывая устойчивые смыслы, опирающиеся на верования, идеологию и здравый смысл людей), и притом не отвечать на них (ни одно великое про¬изведение не является «догматическим»), а с другой сто¬роны, оно бесконечно открыто для новых расшифровок, поскольку нет причин когда-либо перестать говорить о Расине или Шекспире (разве что вообще их отбросить, но это тоже способ говорить о них на особом языке). В литературе смысл настойчиво предлагает себя и упор¬но ускользает, то есть она есть не что иное, как язык, знаковая система, существо которой не в сообщении, которое она содержит, а в самой «системности». Потому и критик должен воссоздавать не сообщение литератур¬ного произведения, а только его систему, точно так же как лингвист занимается не расшифровкой смысла фра¬зы, а установлением ее формальной структуры, обеспе-чивающей передачу этого смысла.
В самом деле, признав себя не более чем языком (точ¬нее, метаязыком), критика может совместить в себе, по противоречивой своей сути, субъективность и объектив¬ность, историчность и экзистенциальность, тоталитаризм и либерализм. Ведь, с одной стороны, язык, избранный и используемый критиком, не упал ему с неба, это один из языков, предложенных ему эпохой; объективно этот
274
язык является продуктом исторического вызревания зна¬ний, идей, духовных устремлений, он есть необходимость; с другой же стороны, критик сам выбрал себе этот не¬обходимый язык согласно своему экзистенциальному строю, выбрал как осуществление некоторой своей неотъемлемой интеллектуальной функции, когда он полностью использует всю свою глубину, весь свой опыт выборов, удовольствий, отталкиваний и пристрастий. Тем самым в произведении критика может завязаться диалог двух исторических эпох и двух субъективностей — автора и критика. Однако весь этот диалог эгоистически обращен к настоящему: критика не «чтит» истину прош¬лого или истину «другого», она занята созиданием мыслительного пространства наших дней.
1963, «Times Literary Supplement».
Литература и значение.
Перевод С. Н. Зенкина .... 276
I. Вас всегда интересовали проблемы значения, но, кажется, лишь недавно этот интерес обрел у вас форму систематических исследований в духе структурной линг¬вистики, названных вами (вслед за Соссюром и вместе с другими авторами) семиологией. До недавних пор вы также уделяли особое внимание театру, и особенно те¬атру Брехта, выступая в его поддержку в журнале «Театр попюлер» еще с 1955 года, то есть до того перехода к сис¬темности, о котором я сказал. Представляется ли вам этот интерес к театру оправданным и с точки зрения нынеш¬него, «семиологического» понимания литературы — в том смысле, что театральное зрелище служит здесь особо показательным материалом?
Что такое театр? Это своего рода кибернетическая машина. В нерабочем состоянии машина скрыта за за-навесом, но как только занавес открывается, она начи¬нает направлять в ваш адрес целый ряд сообщений. Особенность этих сообщений в том, что они передаются синхронно и вместе с тем в различных ритмах; в каж¬дый момент спектакля вы получаете информацию одно¬временно от шести-семи источников (декорации, костю¬мы, освещение, расстановка актеров, их жесты, мимика, речь), причем одни сигналы длятся (например, декора¬ции), а другие мелькают (речь, жесты). Перед нами, таким образом, настоящая информационная полифония, в которой и заключается феномен театральности, то есть особой толщи знаков (une epaisseur de signes) (в отличие от одноголосия литературы; оставим в стороне проблему кино). Как соотносятся друг с другом эти знаки, образующие контрапункт, — то есть объемные и вместе с тем линейные, синхронные и вместе с тем сле¬дующие друг за другом? У них, по определению, разные
276
означающие, но всегда ли у них одинаковое означаемое? Стремятся ли они совместно к одному и тому же смыслу? Как они связаны (нередко через весьма большие вре¬менные интервалы) с конечным смыслом пьесы — своего рода ретроспективным смыслом, который не заключен в последней реплике, но становится ясным лишь после окончания спектакля? С другой стороны, как, по каким моделям, формируется в театре означающее? Как из¬вестно, в языке знак образуется не по «аналоговой» модели (слово «бык» не похоже на быка), а в соот¬ветствии с кодом цифрового типа; но как обстоит дело с другими (скажем для простоты — визуальными) ви¬дами означающего, которые безраздельно господствуют на сцене? Всякий изобразительный акт исключительно богат смыслами; в театре проявляются все основные проблемы семиологии — соотношение между правилами игры и самой игрой (то есть языком и речью), природа те-атрального знака (аналогическая, символическая, услов¬ная?) , значимые варианты этого знака, правила синтагма¬тики, денотативный и коннотативный смысл сообщения. Можно даже сказать, что театр служит для семиологии привилегированным объектом, так как его система (по¬лифоническая) представляется оригинальной по срав¬нению с системой языка (линейной).
Брехт блестяще продемонстрировал и подтвердил этот семантический статус театра. Прежде всего, он осознал, что феномен театральности может толковаться в терминах познания, а не эмоционального воздействия; он осмыслил театр с интеллектуальной точки зрения, разрушив обветшалый, но все еще живучий миф о про¬тивоположности творчества и рефлексии, природы и системы, спонтанности и обдуманности, «сердца» и «головы»; его театр — не патетический и не рассудоч¬ный, но обоснованный. Далее, он решительно признал, что формы драмы политически ответственны, что рас¬положение каждого прожектора, каждая песня, преры¬вающая действие, каждый вывешенный на сцене плакат, каждый более или менее потертый костюм, дикция каж¬дого актера — все это означает определенную позицию, причем не по отношению к искусству, а по отношению к человеку и миру, где он живет. Материальная форма спектакля определяется, таким образом, не только и не
277
столько эстетикой или психологией эмоций, сколько техникой означивания (signification); иными словами, смысл театрального произведения (это малосодержа¬тельное понятие обычно смешивается с «философией» автора) обусловлен не суммой авторских намерений и «находок», но тем, что можно скорее назвать интеллек¬туальной системой означающих. Наконец, Брехт уже ощутил, что семантические системы многообразны и относительны, — театральный знак не есть нечто само собой разумеющееся. Так называемая естественность актера или правдивость его игры — лишь один из воз¬можных языков (язык осуществляет коммуникативную функцию благодаря своей «валидности», а не истин¬ности), который зависит от определенного духовного контекста, то есть от определенной истории. Поэтому, меняя знаки (а не только их смысл), мы по-новому расчленяем природу (что как раз и является опреде¬ляющим для искусства), исходя не из «естественных» законов, а, напротив, из свободы человека придавать вещам значение.
Но еще важнее, что, связывая свой театр знаков с известной политической идеей, Брехт как бы оставляет смысл заявленным, но не завершенным. Разумеется, его театр идеологичен, и притом более открыто, чем у многих других: в нем. есть определенная позиция по отношению к природе, труду, расизму, фашизму, исто-рии, войне, социальному отчуждению. Однако же это театр сознания, а не действия, он ставит вопрос, но не дает ответа; как и всякий язык литературы, он служит для того, чтобы нечто «высказать», а не «сделать». В конце каждой из пьес Брехта подразумевается обра¬щенный к зрителю призыв: «Ищите выход» — во имя разгадки, вести к которой должна материальная форма спектакля; театр Брехта — осознание несознательности, зрительный зал должен осознать несознательность, царящую на сцене. Оттого-то, очевидно, в брехтовском театре так много значения и так мало проповедей; си¬стема призвана здесь не передавать какое-либо позитив¬ное сообщение (это не театр означаемых), а раскрывать зрителю глаза на то, что мир — это объект, требующий анализа (это театр означающих). Тем самым Брехт углубляет тавтологичность, всегда присущую литературе,
278
которая сообщает значение, а не смысл вещей (под значением я всякий раз подразумеваю процесс выра-ботки смысла, а не сам этот смысл). Сделанное Брехтом может служить образцом в силу того, что он действует смелее других: он подходит вплотную к определенному (в общем и целом — марксистскому) смыслу, но как только этот смысл начинает «густеть», затвердевать, становясь позитивным означаемым, Брехт его останав¬ливает, оставляя в форме вопроса; отсюда особенность изображаемого в его театре исторического времени — это время кануна. Взаимное трение смысла (завершен¬ного) и значения (приостановленного), столь тонко осуществленное в театре Брехта, — дело гораздо более дерзкое, трудное, а вместе с тем и необходимое, чем авангардистские попытки сдерживания смысла путем простого разрушения повседневного языка и театральных стереотипов. В неясном, невнятном вопросе (вроде тех, что могла задавать миру «философия абсурда») заключе¬но гораздо меньше силы (меньше потрясения), чем в вопросе с совсем близким, но приторможенным ответом (как у Брехта); в литературе, с ее коннотативным строем, чистых вопросов не бывает — всякий вопрос уже есть ответ, только рассыпанный, рассеянный по кусочкам, из которых изливается смысл и тут же утекает прочь.
II. В чем, на ваш взгляд, смысл отмеченного вами перехода от «ангажированной» литературы времен Камю и Сартра к «абстрактной» литературе наших дней? Как вы расцениваете эту массовую, бросающуюся в глаза деполитизацию литературы, причем по большей части у писателей отнюдь не аполитичных и даже, в общем, «левых»? Считаете ли вы, что такая «нулевая степень» историчности — безмолвие, чреватое смыслом?
Явления культуры всегда соотносимы с теми или иными историческими «обстоятельствами»; в нынешней деполитизации творчества можно усмотреть, например, связь (причинность, аналогию или родство) с политикой Хрущева или голлизмом — в том смысле, что писатели под¬дались общей атмосфере неучастия (правда, пришлось бы тогда объяснить, почему сталинизм или IV Республика в
279
большей мере побуждали писателя к «ангажированному» творчеству!). Но если мы хотим толковать явления культу¬ры, исходя из глубинных исторических процессов, то нужно сперва осмыслить во всей ее глубине самое историю (никто еще не объяснил нам, что такое голлизм). Что скрывается под открыто ангажированной литературой и под литературой внешне не ангажированной, что их, воз¬можно, объединяет — все это может проясниться лишь позже; возможно, смысл истории выявится лишь тогда, когда мы сумеем свести воедино, например, сюрреализм, Сартра, Брехта, «абстрактную» литературу и даже струк¬турализм как модусы (modes) одной и той же идеи. Эти «куски» литературы обретают смысл только будучи соотнесены с гораздо более крупными единствами; так, «эвристическую» (ищущую) литературу если не сегодня, то уже скоро нельзя будет понять вне функцио¬нального сопоставления с массовой культурой, ибо между ними складываются и уже сложились дополни¬тельные отношения взаимного противодействия, разру¬шения, обмена и соучастия; в наши дни господствует взаимоприспособление культур (acculturation), так что вполне можно себе представить параллельную и вза¬имоотносительную историю Нового романа и сентимен¬тальных дамских журналов. В действительности как «ангажированную», так и «абстрактную» литературу мы сами же воспринимаем не исторически, а лишь диахро¬нически; и та и другая литература (кстати, довольно скудные — по своему развитию они и в сравнение не идут с классицизмом, романтизмом или реализмом) представ¬ляют собой скорее различные моды (modes) — разу¬меется, без всякого оттенка несерьезности, — и в их чередовании я даже склонен видеть чисто формальное явление круговорота возможностей, которым, собствен¬но, и определяется Мода. Один тип речи исчерпывает себя и сменяется противоположным; всем управляет здесь различие — двигатель диахронии, а не истории. История начинается лишь тогда, когда эти микроритмы нарушаются, когда этот дифференциальный ортогенез форм оказывается вдруг застопорен под действием це¬лого комплекса исторических факторов; объяснения требует то, что длится, а не то, что «мелькает». Образно говоря, история (неподвижная) александрийского стиха
280
более значима, чем мода (преходящая) на триметр; чем устойчивее формы, тем ближе они к тому истори-ческому смыслу, к постижению которого, собственно, и стремится ныне каждая критика.
III. В журнале «Кларте» вы писали, что литература «по сути своей реакционна», а в другом месте, в жур-нале «Аргюман», — что она «задает миру серьезные вопросы» и является плодотворной формой вопрошания. Каким образом может быть снято это видимое противоречие? Можно ли сказать то же самое о других видах искусства, или же, на ваш взгляд, у литературы свой особый статус, в силу которого она реакционнее или плодотворнее всех прочих искусств?
У литературы есть особый статус, связанный с тем, что она создана из языка — материала уже значимого к моменту его освоения литературой; литература про¬скальзывает в систему, ей не принадлежащую, хотя и действующую в тех же, что и она, целях, а именно для коммуникации. Отсюда следует, что литературе неотъем¬лемо присущ разлад с языком; со структурной точки зрения, литература есть, для языка нечто побочное. При чтении романа до вас не сразу доходит самое озна¬чаемое «роман»; понятие «литература» (как и другие, зависящие от него представления) не является непосред¬ственной целью принимаемого вами сообщения; данное означаемое воспринимается помимо прочего, краем глаза, оно смутно маячит где-то вне поля зрения, дохо¬дят же до вас единицы и отношения, то есть лексика и синтаксис первичной системы (французского языка). Вместе с тем суть читаемого вами дискурса, его «реаль¬ность» — это именно «литература», а не излагаемая фабула; побочная система в итоге оказывается здесь главной, так как именно от нее зависит окончательная осмысленность целого; она-то и является «реальностью». Из-за того, что функции литературного дискурса словно вывернуты наизнанку, он сам, как известно, неоднозна¬чен — этому дискурсу мы и верим и не верим, так как в акте чтения постоянно сменяют друг друга две систе¬мы: посмотришь на слова — это язык, посмотришь на смысл — это литература.
281
Другим «видам искусства» такая основополагающая двойственность незнакома. Конечно, в фигуративной живописи картина передает (через посредство стиля и культурных отсылок) не только изображаемую «сцену», но и многие другие сообщения, и прежде всего самую идею картинности; однако ее «субстанцию» (как говорят лингвисты) составляют линии, цвета и отношения, сами по себе не значимые, тогда как языковая субстанция всегда служит для создания значений. Если из роман¬ного диалога извлечь фразу, то априорно ее ничто не отличает от фрагмента обыкновенной речи, то есть от той действительности, что, вообще говоря, служит ей образ¬цом; но даже если взять самую правдивую деталь самой реалистической картины, это все равно будет плоская окрашенная поверхность, а не то вещество, из которого состоит изображаемый предмет, — между моделью и ее копией сохраняется различие в субстанции. Возникает любопытная зеркальная зависимость: в живописи (фигуративной) имеется сходство между составными частями знака (означающим и означаемым) и несход¬ство между субстанцией предмета и субстанцией его копии; в литературе же, напротив, обе субстанции сов¬падают (в обоих случаях это язык), зато действитель-ность и ее литературная версия различаются, так как связаны они не через аналоговое моделирование форм, а через цифровой по своему типу (на уровне фонем — двоичный) языковой код. Итак, мы вновь пришли к тому, что литература неизбежно нереалистична: она может «запечатлевать» реальность лишь через опосредо¬вание в языке, да и сам язык соотносится с реальностью не «от природы», а лишь в силу социального установ¬ления. Сколь бы прихотливы ни были извивы культуры, сколь бы велика ни была ее власть, искусство (изобра¬зительное) все-таки может грезить о природе (так и по¬лучается даже в «абстрактных» его формах), у лите¬ратуры же есть лишь одна греза и одна непосредствен¬ная природа — язык.
Таким «языковым» статусом литературы удовлетво¬рительно объясняются, на мой взгляд, все этические противоречия, с которыми она встречается на практике. Всякий раз, когда «реальность» возводят в ранг священ¬ной ценности (до сих пор этим обычно отличались иде-
282
ологии прогрессивной направленности), обнаруживается, что литература — всего лишь язык, да еще и вторичный язык, побочный смысл, так что с реальностью она свя¬зана только через коннотацию, а не через денотацию. Логос оказывается при этом безнадежно оторванным от праксиса; не в силах исчерпать язык (то есть преодо¬леть его и обратиться к преобразованию действитель¬ности), не обладая никакой транзитивностью, обреченная вечно означать самое себя (тогда как она хотела бы означать внешний мир), литература выступает как нечто неподвижное, отторгнутое от находящегося в становлении мира. Однако если не завершить рисунок, если писать достаточно неоднозначно, сохраняя текучесть смысла, если принять, что мир значим, не говоря, что именно он значит, — тогда письмо делается пытливым, оно рас-шатывает все существующее (не предваряя, однако, еще не существующего), оно вносит в мир живое дыха-ние; в итоге литература позволяет если не идти вперед, то свободнее дышать. Рамки ее тесны, и разные писа¬тели очень по-разному в них умещаются (или не уме¬щаются). Возьмите, к примеру, один из последних ро¬манов Золя (из цикла «Четыре евангелия»): это произ¬ведение испорчено тем, что Золя дает ответ на постав¬ленный им вопрос (изрекая, заявляя, называя по имени Общественное благо), но оно сохраняет свое дыхание, свою способность вызывать грезы или потрясение бла¬годаря технике самого романного повествования, благо¬даря тому, что в нем каждая деталь обретает поступь знака.
Литературу можно, пожалуй, сравнить с Орфеем, возвращающимся из преисподней: пока она твердо идет вперед, зная при этом, что за ней следуют, — тогда за спиной у нее реальность, и литература понемно¬гу вытягивает ее из тьмы неназванного, заставляет ее дышать, двигаться, жить, направляясь к ясности смысла; но стоит ей оглянуться на предмет своей любви, как в руках у нее остается лишь названный, то есть мертвый, смысл.
IV. Вы неоднократно характеризовали литературу как «уклончивую» систему значения, где смысл «и пред-полагается, и ускользает». Относится ли такое опреде-
283
ление к литературе вообще или только к современной литературе? А может быть, только к современному читателю, наделяющему новыми функциями даже старые тексты? Или же в наше время литература более четко проявила свой ранее скрытый статус? Если так, то чем же обусловлено такое открытие?
Имеется ли у литературы пусть не вечная, но хотя бы трансисторическая форма? Чтобы всерьез ответить на этот вопрос, нам недостает совершенно необходимой вещи — истории понятия «литература». Снова и снова пишется (по крайней мере, начиная с XIX в., что само по себе показательно) история произведений, школ, направлений и писателей, но до сих пор еще не напи¬сана история того, как менялось существо литературы. «Что такое литература?» — парадоксально, что этим знаменитым вопросом задался философ и критик, тогда как историки его перед собой еще не ставили. Потому и я могу попытаться ответить на него лишь предполо¬жительно и лишь в самой общей форме.
Что имеется в виду под «техникой уклончивого смысла»? Писатель умножает значения, оставляя их незавершенными и незамкнутыми; с помощью языка он создает мир, перенасыщенный означающими, но так и не получающий окончательного означаемого. Характерно ли это для всей литературы? Вероятно, да, ибо если определяющей для литературы является ее техника смыслообразования, то единственным ограничением для нее может служить язык противоположного типа, то есть язык транзитивный. Такой транзитивный язык на¬правлен не на удвоение, а на непосредственное пре¬образование действительности; это всякого рода «прак¬тическое» слово, связанное с действиями, приемами, поступками людей, и слово магическое, связанное с обрядами, поскольку они также призваны открывать природу для человека. Когда же язык перестает быть составной частью праксиса, начинает рассказывать, повествовать о действительности и становится тем самым языком для себя, — тогда появляются подвижные и текучие вторичные смыслы, образуется то, что мы как раз и называем литературой (пусть даже речь идет о произведениях такой эпохи, когда этого слова не было).
284
Если принять подобное определение, то «не-литература» могла бы существовать лишь в неведомую нам доисто¬рическую эпоху, когда язык имел характер всецело рели¬гиозный и практический (точнее, «праксический»). Представляется поэтому, что существует все же общая литературная форма, покрывающая собой все, что нам известно о человеке. В зависимости от социально-исто¬рических условий эта антропологическая форма, разу¬меется, получала совершенно различное содержание, различные способы бытования и дополнительные частные формы («жанры»). Даже в рамках такого узкого отрезка, как история нашего Запада, частные приемы полагания и ускользания смысла были весьма разно¬образны (хотя в плане общей техники литературного смыслообразования нет, в сущности, никакой разницы между одой Горация и стихотворением Превера, между главой из Геродота и статьей из «Пари-матч»); зна¬чимые элементы могут получать разные акценты, порож¬дая самые различные виды письма, более или менее завершенные смыслы. Можно, например, как в класси¬ческом письме, жестко кодифицировать элементы озна¬чающего, a можно, напротив, как в некоторых совре¬менных поэтических системах, предоставлять их воле случая, этого творца невиданных смыслов; можно обескровливать, обесцвечивать их, предельно сближая с простой денотацией, а можно их, напротив, подстеги¬вать, перенапрягать (так, скажем, писал Леон Блуа). Короче говоря, означающие могут неограниченно играть, но природа литературного знака остается неизменной; от Гомера и до полинезийских сказаний никто не пере¬ступил через значимую уклончивость этого нетранзитив¬ного языка, который «удваивает» действительность, не сливаясь с нею, и имя которому «литература»; быть может, причина как раз в том, что язык этот пред¬ставляет собой излишество, воплощая в себе бесполез¬ную власть, умение человека производить несколько смыслов с помощью одного и того же слова.
Но хотя литература в силу своей техники (в которой и состоит ее существо) всегда была системой полага-емого и ускользающего смысла, хотя такова ее антро¬пологическая природа — тем не менее с известной (уже не исторической) точки зрения оппозиция литератур
285
с завершенным и незавершенным смыслом все же обре¬тает некоторую реальность; это точка зрения норма-тивная. Ныне мы, по-видимому, отдаем предпочтение (отчасти эстетическое, отчасти этическое) системам откровенно уклончивым, поскольку литературные иска¬ния постоянно обращаются к крайним пределам смысла. Откровенное признание статуса литературы в итоге становится критерием ценности: «плохая» литература (литература «со спокойной совестью») обходится за¬вершенными смыслами, «хорошая» литература, напро¬тив, ведет с искушающим ее смыслом открытую борьбу.
V. В современной критике, по-видимому, существуют две разнонаправленные тенденции. С одной стороны — «критики значения» (Ришар, Пуле, Старобинский, Морон, Гольдман), которые, при всех различиях между собой, стремятся «придать смысл» произведению, и даже придавать ему все новые и новые смыслы; с дру-гой стороны — Бланшо, стремящийся вырвать произве¬дение из мира смысла или, по крайней мере, изучать его вне всяких приемов смыслопроизводства, непосред¬ственно в его безмолвии. Сами вы, вероятно, связаны сразу с обеими тенденциями. Если это так, то каким вам видится возможное примирение или преодоление противоречия между ними? Должна ли критика доби¬ваться, чтобы произведение заговорило, или же служить усилителем его безмолвия, либо решать обе задачи, но тогда — в каком соотношении?
Критика значения, о которой вы говорите, сама, на мой взгляд, может быть разделена на две различные группы. С одной стороны, это критика, придающая означаемому литературного произведения высокую сте-пень завершенности и жесткость контуров — одним словом, называющая его. В случае Гольдмана таким открыто названным означаемым является реальное по¬литическое положение той или иной социальной группы (для творчества Расина и Паскаля это правое крыло янсенистской буржуазии), в случае Морона — жизнен¬ная ситуация, пережитая писателем в детстве (Расин — сирота, выращенный подменным отцом, Пор-Роялем). При подобном подчеркивании — то есть назывании —
286
означаемого знаковые свойства произведения рассмат¬риваются гораздо менее полно, чем можно было бы предположить; но парадокс здесь лишь кажущийся — достаточно вспомнить, что сила знака (вернее, знако-вой системы) зависит не от его полноты (наличия означающего и означаемого в завершенном виде), не от его, так сказать, корней, но прежде всего от тех связей, которые знак поддерживает со своими соседями (реальными или потенциальными), — от того, что можно назвать его окружением. Другими словами, основу подлинной критики значения составляет прежде всего внимание к организации означающих, а не выявление означаемого и его связи с означающим. Этим и объяс¬няется, что критике Гольдмана и Морона, имеющей дело с сильным означаемым, постоянно грозят два призрака, которые обычно столь враждебны значению. В случае Гольдмана означающее (то есть произведение или, точнее, справедливо вводимая Гольдманом посредующая инстанция — видение мира) все время рискует предстать продуктом социальной обстановки, так что значением, в сущности, лишь маскируется старая детер¬министская схема; в случае же Морона означающее трудно отличимо от любезного традиционной психологии выражения (оттого-то, видимо, Сорбонна так легко и переварила литературный психоанализ в виде диссер¬тации Морона).
С другой стороны, но в рамках той же критики зна¬чения, выделяется группа критиков, которых можно в рабочем порядке обозначить как тематических (Пуле, Старобинский, Ришар). Действительно, определяющим для такой критики может считаться повышенное вни¬мание к принятому в произведении «семантическому членению» и к его организации в виде обширных зна¬ковых форм. Такая критика, конечно, признает за произведением неявное означаемое (это, в общем и целом, экзистенциальный проект автора), и подобно тому как в первой группе знаку грозило совпадение с продуктом или выражением, так здесь он с трудом отличим от признака (indice). Однако, во-первых, озна¬чаемое здесь не называется, критик оставляет его рассеянным в изучаемых им формах, оно проявляется только в членении этих форм и не существует вне
287
произведения, так что данная критика остается крити¬кой имманентной (оттого, должно быть, она и не очень по нутру Сорбонне); во-вторых, такая критика, направ¬ляя все свои усилия (всю свою деятельность) на изу-чение, так сказать, сетевой организации произведения, является по главной своей сути критикой означающего, а не означаемого.
Как мы видим, даже при последовательном рассмот¬рении критики значения, где, казалось бы, вся суть в означаемом, это означаемое все более и более исчезает; зато сохраняется во всем многообразии означающее, опираясь в одном случае на «реальность» означаемого, а в другом — на присущее произведению «семантическое членение», осуществляющееся уже по структурным, а не эстетическим законам. Поэтому всей такого рода кри¬тике можно противопоставить (как это и делаете вы) дискурс Бланшо — скорее язык, нежели метаязык, чем и обусловлено неопределенное место Бланшо между критикой и литературой. Однако, не признавая в произ¬ведении никакого «затвердевания» смысла, Бланшо, по сути, обрисовывает контуры смысловых пустот, и уже сама трудность такой деятельности сближает ее с кри¬тикой значения — возможно, даже будет сближать все больше и больше. Не следует забывать, что к «не¬смыслу» (non-sens) можно только стремиться, для нашего ума это нечто вроде философского камня, по-терянного или недостижимого рая. Вырабатывать смысл — дело очень легкое, им с утра до вечера занята массовая культура; приостанавливать смысл — уже бесконечно сложнее, это поистине «искусство»; «уничто¬жать» же смысл — затея безнадежная, ибо добиться этого невозможно. Почему? Потому что все «вне-смысленное» (hors-sens) непременно поглощается (в произ¬ведении можно разве что оттянуть этот момент) «не¬смыслом», имеющим совершенно определенный смысл (известный как абсурд); нет ничего более «значащего», чем попытки, от Камю до Ионеско, поставить смысл под вопрос или же разрушить его. Собственно говоря, у смысла может быть только противоположный смысл, то есть не отсутствие смысла, а именно обратный смысл. Таким образом, «не-смысл» всегда нечто буквально «про¬тивное смыслу», «противосмысл» (contre-sens) «нулевой
288
степени» смысла не бывает — разве только в чаяниях автора, то есть в качестве ненадежной отсроченности смысла. Творчество Бланшо (будь то критика или «роман») представляет собой поэтому весьма своеоб-разную (хотя ей, пожалуй, имеются соответствия в живописи и музыке) эпопею смысла — наподобие исто-рии Адама, то есть первого человека, жившего do смысла.
VI. В книге «О Расине» вы отмечаете, что Расин открыт любому из языков современной критики; как можно понять, вы бы хотели, чтобы он открывался и для всех других языков. В то же время сами вы как будто без колебаний избрали применительно к Расину язык психоаналитической критики, а применительно к Мишле — язык субстанциального психоанализа. Полу¬чается, что для вас каждый писатель автоматически требует себе определенный язык описания. Проявляется ли здесь ваше личное отношение к материалу (то есть в принципе вам представляется столь же правомерным и какой-то другой подход), или же вы считаете, что есть и объективное соответствие между тем или иным писа¬телем и тем или иным критическим языком?
Стоит ли отрицать, что существует некоторое личное соотношение между критиком (и даже между тем или иным моментом в его жизни) и его языком? Но кри¬тики значения как раз и предлагают не поддаваться этому воздействию; мы выбираем язык не потому, что он кажется нам необходимым, — мы выбираем себе язык и тем самым делаем его необходимым. Таким образом, критик неограниченно свободен по отношению к своему объекту; остается только выяснить, что мир позволит нам сделать с этой свободой.
В самом деле, если критика — это язык (точнее, метаязык), то опору она находит не в истине, а в своей собственной валидности, и любой объект доступен любой критике. Однако эта изначальная свобода критики огра¬ничена двумя условиями, которые хотя и носят внутрен¬ний характер, но вместе с тем как раз и позволяют критику приблизиться к познанию смысла своей собст¬венной истории: во-первых, критический язык должен
289
быть однородным, структурно связным, во-вторых, он должен исчерпывать весь объект, о котором идет речь. Иначе говоря, критик с самого начала не встречает на своем пути никаких запретов — только требования, а в дальнейшем и сопротивление материала. В этом сопро¬тивлении заложен свой смысл, и к нему нельзя отно¬ситься равнодушно-безответственно; с одной стороны, его нужно преодолевать (если хочешь «раскрыть» произ¬ведение), а с другой стороны, нужно также понимать, что там, где сопротивление стало слишком сильным, — там проявляется какая-то новая проблема, то есть пора переходить на другой критический язык.
В первую очередь не следует забывать, что кри¬тика — это особая деятельность, «практическая работа», а потому вполне законно наряду с самой сложной за¬дачей искать и самое изящное (в математическом зна-чении слова) «размещение». Желательно поэтому выде¬лить в изучаемом предмете такой уровень явлений, ко¬торый позволил бы критике наилучшим образом осу¬ществить свою природу связного и всеобъемлющего языка — то есть самой, в свою очередь, стать означаю¬щим (своей собственной истории). К чему было бы под¬вергать Мишле идеологической критике — ведь его иде¬ология и так совершенно ясна! Истолкования требует деформирующее воздействие языка Мишле на его мелкобуржуазные убеждения в духе XIX в., то, как эта идеология преломляется в своеобразной поэтике субстан¬ций, получающих моральный смысл согласно определен¬ным представлениям о Добре и Зле в политике. Пото¬му-то в случае Мишле субстанциальный психоанализ и имеет шанс оказаться всеобъемлющим; он способен уловить идеологию Мишле, идеологическая же критика неспособна уловить ничего из восприятия им вещей. Нужно всегда выбирать самую емкую критику, то есть ту, которая вбирает в себя как можно больше из своего объекта. Так, критика Гольдмана правомерна именно постольку, поскольку на первый взгляд Расин, казалось бы, писатель неангажированный и ничто не предраспо¬лагает к его идеологическому прочтению. Столь же показательна и интерпретация Стендаля у Ришара, ибо «рассудочное» гораздо труднее поддается психоанализу, чем «гуморальное». Речь, конечно, не о том, чтобы
290
выдавать приз за оригинальность подхода (хотя кри¬тика, как и всякое искусство коммуникации, должна подчиняться требованиям максимальной информатив¬ности), а о том, чтобы принимать в расчет дистанцию, которую должен покрыть критический язык на пути к своему объекту.
Однако эта дистанция не может быть беспредельно велика, ибо если критика чем-то и сродни игре, то лишь в механическом, а не собственно игровом смысле слова *: критика разбирает работу некоторого механизма, проверяя, как соединены его детали, но не скрепляя их намертво. Критика свободна, но в конечном счете ее свобода ограничивается известными пределами избранного ею объекта. Так, занимаясь Расином, я обратился было к субстанциальному психоанализу (этот путь уже был указан Старобинским), но мне показалось, что такая критика встречает слишком сильное сопротивление материала, и мне пришлось перейти к психоанализу более классической (поскольку большую роль играет здесь Отец) и вместе с тем более структуралистской ориентации (поскольку театр Расина рассматривается здесь как игра фигур, в которых нет ничего кроме отношений). Вместе с тем подобного рода непреодоленное сопротивление не случайно: Расин потому так трудно поддается субстанциальному психо¬анализу, что его образы по большей части принадлежат как бы к фольклору той эпохи, то есть к общему коду, служившему риторическим языком всего общества. Расиновское воображаемое — всего лишь один из вариан¬тов речи, берущей свое начало в этом языке; характер его коллективный, и это не делает его недоступным для субстанциального психоанализа, но требует значи¬тельно расширить рамки исследования, заняться пси-хоанализом целой эпохи, а не отдельного писателя; Ж. Помье уже предлагал, например, специально изучить мотив метаморфозы в классической литературе. Такой психоанализ эпохи (или «общества») был бы делом совершенно новым (во всяком случае, применительно
* Французские слова jeu 'игра' и jouer 'играть' имеют специфи¬ческий смысл в технике, означая свободный ход деталей. — Прим. перев.
291
к литературе); однако для него требуются специфи¬ческие средства.
Может показаться, что все это чисто эмпирические обстоятельства; в немалой мере они действительно таковы, но в эмпирическом тоже есть значение, посколь¬ку речь идет о трудностях, которые мы по своему вы¬бору пытаемся преодолеть, обойти или отложить на будущее. Мне не раз мысленно представлялось мирное сосуществование критических языков, своего рода «пара¬метрическая» критика, меняющая свой язык в за¬висимости от рассматриваемого произведения, — не в расчете, конечно, на то, что все вместе эти языки смогут раз и навсегда исчерпать «истину» произведения, но в надежде, что из их разнообразия (не бесконечного, ибо каждый из них на что-то опирается) возникнет обобщенная форма смысла, который наша эпоха придает вещам и который расшифровывается и формируется критикой в едином диалектическом процессе. Одновре¬менное существование многих критических языков может быть в конечном счете оправдано лишь потому, что в нас уже теперь заложена некая обобщенная форма анализа, некая классификация всех классификаций, критика всех видов критики.
VII. С одной стороны, в гуманитарных (возможно, даже не только в гуманитарных) науках все сильнее сказывается тенденция рассматривать язык как образец научного объекта, а лингвистику — как образцовую нау¬ку; с другой стороны, многие писатели (Кено, Ионеско и т. д.) и эссеисты (Парен) выдвигают обвинения против языка и строят свое творчество на его осмеянии. Что означает такое совпадение «моды» на язык в науке с «кризисом» языка в литературе?
В интересе к языку, по-видимому, всегда заложена некая двойственность, которая заявлена и освящена уже в мифическом представлении о языке как «лучшем и худшем из всего, что есть на свете» (возможно, в силу тесной связи языка с неврозом). В частности, в литерату¬ре всякое ниспровержение языка противоречиво ужива¬ется с его возвеличением — ведь восстание против языка с помощью самого языка неизбежно выливается в
292
стремление высвободить «вторичный» язык, то есть глубин¬ную, «анормальную» (не подчиняющуюся нормам) энергию слова; оттого в попытках разрушения языка зачастую есть что-то торжественное. Что же до «осмеяния» языка, то оно всегда касается лишь сугубо частных его прояв¬лений; мне известна только одна такая пародия, которая бьет точно в цель, оставляя головокружительное ощуще¬ние разладившейся системы, — это монолог раба Лаки в беккетовском «Годо». У Ионеско пародируются общие места, язык привратников, интеллектуалов или же поли¬тиков — одним словом, те или иные виды письма, а не язык как таковой (подтверждением служит то, что подобная пародия комична и ничуть не страшна — так Мольер высмеивал лекарей и светских жеманниц). У Ке¬но, конечно, все по-другому: мне кажется, что при всей замысловатости творчества Кено язык у него отнюдь не «отрицается» — скорее он в высшей степени доверчиво исследуется, причем опорой служит осознанное понима¬ние его проблем. Если же взять младшее поколение, скажем, Новый роман или «Тель кель», то окажется, что едва ли не все прежние приемы ниспровержения языка стали здесь частью системы или же пройденным этапом. Ни Кейроль, ни Роб-Грийе, ни Симон, ни Бютор, ни Соллерс не занимаются разрушением законов первич¬ной организации слов (скорее у них вновь появляется известная риторика, известная поэтика, известная «бе¬лизна» письма), в своих исканиях они имеют дело со смысловой системой не языка, а литературы. Пользуясь техническими терминами, можно сказать, что предыду¬щему поколению (в лице сюрреалистов и их эпиго¬нов) удалось, конечно, нарушая простейшие нормы сис¬темы, вызвать некоторый кризис денотации — но кризис этот (переживавшийся, между прочим, как расширение возможностей языка) был преодолен или же просто остался в прошлом; нынешнее же поколение занято преж¬де всего вторичными процессами коммуникации, которые заложены в языке литературы, проблему теперь состав¬ляет не денотация, а коннотация. Все это означает, что отношение к языку вряд ли можно четко разделить на «положительное» и «отрицательное».
Истина (хотя и очевидная) состоит в том, что язык стал для нас одновременно и проблемой и образцом,
293
и, быть может, близок час, когда эти две его «роли» начнут сообщаться друг с другом. С одной стороны, литература как будто преодолела элементарные попытки ниспровергнуть денотативный язык, и в силу этого она могла бы теперь свободнее взяться за исследование настоящих границ языка, определяемых уже не «слова¬ми» или «грамматикой», а коннотативным смыслом или, если угодно, «риторикой». С другой стороны, и сама лингвистика, судя по некоторым замечаниям Якобсона, намеревается систематизировать явления коннотации, создать наконец теорию «стиля» и осветить феномен литературного творчества (быть может, даже дать этому творчеству новый толчок), выявив истинные разгра¬ничительные линии смысла. Это соединение литературы и лингвистики знаменует собой начало их совместной классификационной деятельности, имя которой «струк¬турализм».
VIII. В статье «Структурализм как деятельность» вы пишете, что технически нет разницы между деятель¬ностью ученого-структуралиста (например, Проппа или Дюмезиля) и художника-практика (например, Булеза или Мондриана). Носит ли это сходство чисто техни¬ческий или же более глубокий характер? Если вы скло¬няетесь ко второму ответу, то не зарождается ли здесь, на ваш взгляд, синтез науки и искусства?
Можно сказать, что структурализм обретает свое единство в самом начале и в самом конце своих трудов. Когда ученый и художник работают над созданием или воссозданием объекта, то они занимаются одной и той же деятельностью; когда эти операции закончены и их продукт стал предметом потребления, то они отсылают к одной и той же исторической форме осмысления мира, их образ в общественном сознании отсылает к одной и той же форме классификации вещей; итак, между двумя видами деятельности и между двумя образами устанавли¬вается глубокое тождество. Однако в промежутке остают¬ся «роли» (социальные), а у художника и ученого они еще весьма различны; в мифическом плане они резко противо¬поставлены всем жизненным укладом нашего общества. Функция художника — заклинать демонов иррациональ-
294
ности, не выпускать их за рамки особого социального ин¬ститута («искусства»), который общество одновременно и признает и сдерживает; с формальной точки зрения, ху¬дожник — это как бы отщепенец, чье отщепенчество имен¬но как таковое и усваивается обществом; что же касается ученого, то сегодня эта фигура всецело связывается для нас с прогрессом (хотя в истории ему и случалось иметь такой же двусмысленный статус признанно-отвер¬женного — вспомнить, к примеру, алхимиков). Однако в истории вполне могут выявиться или возникнуть также и новые тенденции, неизвестные нам решения, невообра-зимые для нашего общества роли. Уже сейчас рушатся перегородки если и не между художниками и учеными, то между интеллектуалами и художниками; действительно, эти два глубоко укоренившихся мифа ныне хотя и не ухо¬дят, но смещаются. С одной стороны, часть писателей, кинематографистов, музыкантов, живописцев интеллектуализируется, на знание более не налагается эстети¬ческое табу. С другой стороны (соответственно), и гума¬нитарные науки понемногу расстаются со своей привер¬женностью к позитивизму; структурализм, фрейдизм, даже марксизм держатся не столько на «доказательно¬сти» частных моментов, сколько на внутреннем единстве системы; делаются попытки создать науку, которая сама включалась бы в состав своего объекта, а ведь именно в процессе такой бесконечной «рефлексивности» как раз и возникает искусство; и наука и искусство приз¬нают, таким образом, прежде неведомую относитель¬ность предмета и взгляда на предмет. Быть может, появляется на свет новая антропология, проводящая невиданные доселе разграничения; перекраивается вся карта человеческой деятельности, и это грандиозное переустройство по своей форме (но, конечно, не по содержанию) чем-то напоминает Возрождение.
IX. В 6-м номере «Аргюман» вы пишете: «Всякое произведение догматично», — а в 20-м номере того же журнала: «Писатель прямо противоположен догматику». Как бы вы объяснили это противоречие?
Произведение всегда догматично, ибо язык всегда утвердителен, даже тогда, и тогда в особенности, когда
295
он окружает себя туманом риторических оговорок. В произведении не может ничего сохраниться от ав-торской «непосредственности»; авторские умолчания, сожаления, невольные признания, заботы и опасения — все, что могло бы придать доверительность произве¬дению, — в писаный текст попасть не может; когда писа¬тель начинает это высказывать, он лишь указывает на то, во что хотел бы заставить поверить; он не выходит из своеобразной зрелищной системы, которая всегда имеет принудительный характер. Поэтому ни один язык не бы¬вает великодушным (великодушие — черта поведения, а не речи), так как великодушный язык — это просто-на¬просто язык, отмеченный знаками великодушия. Писате¬лю отказано в «подлинности»; ни учтивость стиля, ни мучительная работа над ним, ни его «человечность», ни даже юмор не в силах преодолеть безраздельно террористическую природу языка (она обусловлена, повторяю, его систематичностью, тем, что языку для пол¬ной завершенности нужно быть только валидным, а не истинным).
Но в то же время писать (в своеобразном непереход¬ном смысле этого глагола) — акт, который не сводится только к созданию произведения; писать — это как раз и значит соглашаться с тем, что мир превращает твое слово в догматический дискурс, тогда как сам ты хотел (если только ты писатель) сделать его носителем свобод¬но предлагаемого смысла; писать — значит предостав¬лять другим заботу о завершенности твоего слова; письмо есть всего лишь предложение, отклик на которое никогда не известен. Пишешь, чтобы тебя любили, но оттого что тебя читают, ты любимым себя не чувствуешь; наверное, в этом разрыве и состоит вся судьба писателя.
1963, «Tel Quel».
Риторика образа.
Перевод Г. К. Косикова..... 297
Согласно одной старинной этимологии, слово image 'образ, изображение' происходит от глагола imitari 'под¬ражать'. Мы сразу же сталкиваемся с важнейшим для семиологии изображений вопросом: способно ли анало¬говое воспроизведение («копирование») предметов приводить к возникновению полноценных знаковых си¬стем (а не аггломерата символов)? Может ли — наряду с кодом, образованным дискретными элементами, — су¬ществовать «аналоговый код»? Известно, что лингвис¬ты считают неязыковыми любые коммуникативные си¬стемы, основанные на принципе аналогии (начиная с
«языка» пчел и кончая «языком» жестов), поскольку
эти системы не построены на комбинаторике дискретных единиц, подобных фонемам, а значит, не могут быть под¬вергнуты двойному членению. В языковой природе изоб¬ражений сомневаются не только лингвисты; обыденное сознание, исходя из некоей мифологизированной идеи Жизни, также склонно воспринимать изображение как инстанцию, сопротивляющуюся смыслу: с точки зрения обыденного сознания, изображение есть вос-произведение, иными словами, возрождение живого; между тем известно, что все интеллигибельное как раз и принято считать чем-то враждебным «жизни». Таким образом, в обоих случаях аналоговое изображение воспринима¬ется как воплощение скудости смысла: одни полагают, что по сравнению с языком изображение представляет собой рудиментарную систему, а другие — что само по-нятие «значение» неспособно исчерпать неизреченное бо¬гатство образа. Что ж, даже если признать, что изобра¬жение и вправду есть некий предел смысла, то это зна¬чит, что оно позволяет создать подлинную онтологию значения. Каким образом смысл соединяется с изобра-
297
жением? Где кончается смысл? А если у него есть грани¬цы, то что находится по ту сторону смысла? Вот вопро¬сы, которыми следует здесь задаться, чтобы подвергнуть изображение спектральному анализу с точки зрения тех сообщений, которые, возможно, в нем содержатся. Для начала облегчим себе (причем значительно) задачу: бу¬дем иметь в виду лишь рекламные изображения. Почему? Потому что значение всякого рекламного изображения всегда и несомненно интенционально: означаемые сооб¬щения-рекламы априорно сами суть свойства реклами¬руемого продукта, и эти означаемые должны быть доне¬сены до потребителя со всей возможной определен¬ностью. Если всякое изображение несет в себе те или иные знаки, то несомненно, что в рекламном изображе¬нии эти знаки обладают особой полновесностью; они сделаны так, чтобы их невозможно было не прочитать: рекламное изображение откровенно, по крайней мере, предельно выразительно.
Три сообщения
Перед нами реклама фирмы «Пандзани»: две пачки макарон, банка с соусом, пакетик пармезана, помидоры, лук, перцы, шампиньон — и все это выглядывает из рас¬крытой сетки для провизии; картинка выдержана в желто-зеленых тонах; фон — красный 1. Попытаемся вы¬делить те сообщения, которые, возможно, содержатся в данном изображении.
Первое из этих сообщений имеет языковую субстан¬цию и дано нам непосредственно; оно образовано под-писью под рекламой, а также надписями на этикетках, включенных в изображение на правах своего рода «эмб¬лем»; код этого сообщения есть не что иное как код французского языка; чтобы расшифровать подобное со¬общение, требуется лишь умение читать и знание фран¬цузского. Впрочем, языковое сообщение также может быть расчленено, поскольку в знаке «Пандзани» содер¬жится не только название фирмы, но — благодаря зву-
1 Описание фотографии дается здесь с известной осторожностью, поскольку всякое описание уже представляет собой метаязык.
298
ковой форме этого знака — и еще одно, дополнительное означаемое, которое можно обозначить как «итальянскость»; таким образом, языковое сообщение (по крайней мере, в рассматриваемом изображении) носит двойствен¬ный — одновременно денотативный и коннотативный — характер. Тем не менее, коль скоро в данном случае имеется лишь один типический знак 2, а именно, знак естественного (письменного) языка, мы будем говорить о наличии одного сообщения.
Если отвлечься от языкового сообщения, то мы ока¬жемся перед изображением как таковым (имея в виду, что в него входят и этикетки с надписями). В этом изоб¬ражении содержится целый ряд дискретных знаков. Прежде всего (впрочем, порядок перечисления здесь без¬различен, так как эти знаки нелинейны), они вызывают представление о «походе на рынок»; означаемое «поход на рынок» в свою очередь предполагает наличие двух эмоционально-ценностных представлений — представле¬ние о свежих продуктах и о домашнем способе их приго¬товления; означающим в нашей рекламе служит приот¬крытая сумка, из которой, словно из рога изобилия, на стол сыплется провизия. Чтобы прочитать этот первый знак, вполне достаточно тех знаний, которые выра¬ботаны нашей, широко распространившейся цивили¬зацией, где «походы на рынок» противопоставляются «питанию на скорую руку» (консервы, мороженые про¬дукты), характерному для цивилизации более «механи¬ческого» типа. Наличие второго знака едва ли не столь же очевидно: его означающим служат помидоры, перец и трехцветная (желто-зелено-красная) раскраска реклам¬ной картинки, а означаемым — Италия, точнее, итальянскость; этот знак избыточен по отношению к коннота¬тивному знаку языкового сообщения (итальянское зву¬чание слова «Пандзани»). Знания, которых требует этот знак, более специфичны: это сугубо «французские» зна¬ния (сами итальянцы вряд ли смогут ощутить коннота¬тивную окраску имени собственного Пандзани, равно как и итальянский «привкус» помидоров и перца), предпола-
2 Мы будем называть типическим такой знак, входящий в систему, который в достаточной мере определяется характером своей субстан¬ции; словесный знак, иконический знак, знак-жест — все это типические знаки.
299
гающие знакомство с некоторыми туристическими стерео¬типами. Продолжая наш анализ рекламной картинки (впрочем, ее смысл становится очевидным с первого взгляда), мы без труда обнаружим по меньшей мере еще два знака. Первый из них — благодаря тому, что на рекламе вперемешку изображены самые разнородные продукты — подсказывает мысль о комплексном обслу¬живании: он убеждает, что, с одной стороны, фирма «Пандзани» способна поставить все, что необходимо для приготовления самого сложного блюда, а с другой — что баночный концентрат соуса не уступает по своим качест¬вам свежим продуктам, в окружении которых он изобра¬жен: реклама как бы перекидывает мост от естественного продукта к продукту в его переработанном виде. Что касается второго знака, то здесь сама композиция рекла¬мы заставляет вспомнить о множестве картин, изобра¬жающих всякого рода снедь, и тем самым отсылает к эстетическому означаемому: перед нами «натюрморт» или, если воспользоваться более удачным выражением, взятым из другого языка, «still living» 3; знания, необхо¬димые для усвоения этого знака, относятся исключитель¬но к области духовной культуры. К выделенным нами че¬тырем знакам можно добавить еще один, указывающий на то, что мы имеем дело именно с рекламой, а не с чем-либо иным: об этом свидетельствует как место, отве¬денное картинке на журнальных страницах, так и сама броскость этикеток «Пандзани» (не говоря уже о подписи под изображением). Впрочем, информация о том, что перед нами реклама, не входит в задание самой картин¬ки, не является имманентным ей значением, поскольку рекламность изображения здесь чисто функциональна: когда мы говорим что-либо, то при этом вовсе не обя¬зательно указываем на акт говорения при помощи знака «я говорю»: последнее имеет место лишь в сугубо реф¬лексивных системах, таких как литература.
Итак, перед нами изображение, несущее в себе четыре знака; очевидно, эти знаки образуют некую связную со¬вокупность, ибо все они дискретны, требуют определен-
3 Во французском языке выражение «натюрморт» (мертвая при¬рода) изначально предполагает изображение предметов, лишенных жизни; таковы, к примеру, черепа на некоторых полотнах.
300
ных культурных знаний и отсылают к глобальным озна¬чаемым (типа «итальянскость»), пропитанным эмоцио¬нально-ценностными представлениями; таким образом, в рекламе, наряду с языковым сообщением, содержится еще одно сообщение — иконическое. И это все? Нет. Если даже не обращать внимания на указанные знаки, то изображение все равно сохранит способность передавать информацию; ничего не зная о знаках, я тем не менее продолжаю «читать» изображение, я «понимаю», что пе¬редо мной не просто формы и краски, а именно про¬странственное изображение совокупности предметов, под¬дающихся идентификации (номинации). Означаемыми этого третьего сообщения служат реальные продукты, а означающими — те же самые продукты, но только сфото¬графированные; а коль скоро очевидно, что в аналоги¬ческих изображениях отношение между обозначаемым предметом и обозначающим образом не является (в от-личие от естественного языка) «произвольным», то отпа¬дает всякая необходимость в том, чтобы представлять себе означаемое в виде психического образа предмета. Специфика третьего сообщения в том и состоит, что от¬ношение между означаемым и означающим здесь квази¬тавтологично; разумеется, фотографирование предпола¬гает определенное изменение реальных предметов (вслед¬ствие характерного построения кадра, редукции, перехо¬да от объемного видения к плоскостному), но такое изменение — в отличие от акта кодирования — не есть трансформация; принцип эквивалентности (характерный для подлинных знаковых систем) уступает здесь место принципу квазиидентичности. Иными словами, знаки иконического сообщения не черпаются из некоей кладовой знаков, они не принадлежат какому-то определенному ко¬ду, в результате чего мы оказываемся перед лицом пара¬доксального феномена (к которому еще вернемся) — перед лицом сообщения без кода 4. Данная особенность проявляется в характере тех знаний, которые необходи¬мы для чтения иконического сообщения: чтобы «прочи¬тать» последний (или, если угодно, первый) уровень изображения, нам не нужно никаких познаний помимо тех, что требуются для непосредственной перцепции об-
4 См.: Le message photographique — «Communications», № l, p. 127.
301
раза; это, конечно, не «нулевое» знание: ведь мы должны понимать, что такое образ (у детей подобное понимание возникает лишь к четырем годам), что такое помидоры, сетка для продуктов, пачка макарон; и все же в данном случае речь идет о своего рода «антропологическом» знании. Можно сказать, что, в противоположность вто¬рому, «символическому» сообщению, третье сообщение соответствует «букве» изображения, почему мы и назо¬вем его «буквальным».
Итак, если все сказанное верно, то, значит, в рас¬смотренной фотографии содержатся три сообщения, а именно: языковое сообщение, затем иконическое сообще¬ние, в основе которого лежит некий код, и наконец, иконическое сообщение, в основе которого не лежит ни¬какого кода. Лингвистическое сообщение нетрудно от¬делить от двух иконических; но вправе ли мы разграни¬чивать между собой сами иконические сообщения, коль скоро они образованы при помощи одной и той же (изобразительной) субстанции? Очевидно, что подобное разграничение не может быть осуществлено спонтанно, в процессе обычного чтения рекламных изображений: потребитель рекламы воспринимает перцептивное и «сим¬волическое» изображения одновременно, и ниже мы уви¬дим, что такой синкретизм двух типов чтения соответст¬вует самой функции изображения в рамках массовой коммуникации (которая и составляет предмет нашего исследования). Тем не менее указанное разграничение играет операциональную роль, подобную той, какую иг¬рает различение означаемого и означающего в знаках естественного языка (а ведь на практике ни один чело¬век не способен отделить «слово» от его смысла, что возможно лишь при помощи метаязыковой процедуры): наше разграничение окажется оправданным лишь в том случае, если оно позволит дать простое и связное опи-сание структуры изображения, а это описание в свою очередь приведет к объяснению той роли, которую изо¬бражения играют в жизни общества. Нужно, следова¬тельно, по отдельности рассмотреть общие черты каждого из выделенных типов сообщения, не забывая при этом, что наша главная цель — уяснить структуру изображе¬ния в его целостности, то есть те отношения, которые, в конечном счете, все три сообщения поддерживают между
302
собой. Вместе с тем, поскольку дело идет не о «наивном» анализе, а о структурном описании 5, мы слегка изменим порядок изложения и переставим местами «буквальное» и «символическое» сообщения; из двух иконических со¬общений первое как бы оттиснуто на поверхности вто¬рого: «буквальное» сообщение играет роль опоры для сообщения «символического». Между тем мы знаем, что система, использующая знаки другой системы в качестве означающих, есть не что иное как коннотативная си¬стема 6; поэтому будем отныне называть «буквальное» изображение денотативным, а «символическое» — конно¬тативным. Итак, мы рассмотрим сначала языковое сооб¬щение, затем денотативное изображение и под конец — изображение коннотативное.
Языковое сообщение
Всегда ли языковое сообщение сопутствует изобра¬жению? Всегда ли в изображении, под ним, вокруг него содержится текст? Если мы хотим обнаружить изобра¬жения, не сопровождаемые словесным комментарием, то нам, очевидно, следует обратиться к изучению обществ с неразвитой письменностью, где изображения сущест¬вуют, так сказать, в пиктографическом состоянии. Между тем с появлением книги текст и изображение все чаще начинают сопутствовать друг другу; однако связь между ними, по-видимому, все еще мало изучена со структурной точки зрения; какова структура «иллюстрации» и ее зна¬чение? Избыточно ли изображение по отношению к тек¬сту, дублирует ли оно информацию, содержащуюся в тек¬сте, или же, напротив, текст содержит дополнительную информацию, отсутствующую в изображении? Проблему можно было бы поставить в историческом плане и ис¬следовать ее на примере классической эпохи, имевшей
«Наивный» анализ сводится к перечислению элементов, тогда как задача структурного описания — понять связь этих элементов в свете отношения солидарности, связывающего между собой термы той или иной структуры: если меняется один терм, то меняются и все остальные.
6 См.: Barthes R. Elements de semiologie—«Communications», 1964, № 4, p. 130 (русск. перевод. Барт Р. Основы семиологии. — В кн.: «Структурализм: „за" и „против"», М.: «Прогресс», 1975, с. 157.
303
особый вкус к книжным иллюстрациям (невозможно да¬же вообразить, чтобы в XVIII в. «Басни» Лафонтена были изданы без картинок); в эту эпоху многие авто¬ры — такие как о. Менетрие — прямо ставили вопрос об отношении иллюстрации к дискурсивному тексту 7. В на¬ше же время, очевидно, любое изображение (в рамках массовой коммуникации) сопровождается языковым сообщением — в виде заголовка, подписи, газетной врез¬ки, в виде диалога между персонажами кинофильма, в виде fumetto 8; отсюда ясно, что говорить о нашей циви¬лизации как о «цивилизации изображений» не вполне справедливо; наша цивилизация, более чем любая дру¬гая, является цивилизацией письма 9, ибо как письмо, так и устная речь представляют собой важнейшие со¬ставляющие любой структуры, имеющей целью передачу информации. В самом деле, во внимание следует при¬нимать лишь само наличие языкового сообщения, по¬скольку ни его расположение на странице, ни длина не могут, по всей видимости, считаться релевантными (так, самый пространный текст может коннотировать всего лишь одно-единственное глобальное означаемое, соотно-сящееся с изображением). Каковы функции языкового сообщения по отношению к обоим иконический сообще¬ниям? Вероятно, их две — функция закрепления и функ¬ции связывания.
Как мы вскоре убедимся, любое изображение полисемично; под слоем его означающих залегает «плаваю-щая цепочка» означаемых; читатель может сконцентри¬роваться на одних означаемых и не обратить никакого внимания на другие. Полисемия заставляет задаться вопросом о смысле изображения; такой вопрос всегда оказывается проявлением дисфункции — даже в том слу¬чае, когда общество компенсирует эту дисфункцию, пре¬вращая ее в трагическую (молчание бога не позволяет сделать выбор между различными знаками) или поэти-
7 Menestrier С. F. L'art des emblemes. P., 1684.
8 «Пузырь», рамка, в которую заключают реплики персонажей комиксов (ит.) — Прим. перев.
9 Разумеется, встречаются и изображения, не сопровождаемые сло¬весным текстом, однако в основе таких изображений (например, юмо¬ристических рисунков) всегда лежит парадокс: само отсутствие сло¬весного текста выполняет здесь энигматическую функцию.
304
ческую (вспомним панический «трепет смыслов» у древ¬них греков) игру. Даже в кинематографе «травмирую¬щие» образы порождены неуверенностью (беспокойст¬вом) относительно смысла тех или иных предметов, тех или иных ситуаций. Вот почему любое общество выра¬батывает различные технические приемы, предназначен¬ные для остановки плавающей цепочки означаемых, при¬званные помочь преодолеть ужас перед смысловой не¬определенностью иконических знаков: языковое сообщение как раз и является одним из таких приемов. Примени¬тельно к «буквальному» сообщению словесный текст позволяет более или менее прямо, более или менее полно ответить на вопрос: что это такое? По существу он позволяет идентифицировать как отдельные элементы изображения, так и все изображение в целом; речь идет о денотативном описании (как правило, частичном) изображения или, в терминах Ельмслева, об операции (в отличие от коннотации) 10. Функция именования способ¬ствует закреплению — с помощью языковой номенклату¬ры — тех или иных денотативных смыслов; глядя на та¬релку с неизвестным кушаньем (реклама фирмы «Амьё»), я могу испытывать неуверенность, как следует идентифи¬цировать те или иные формы и объемы на фотографии; подпись же («тунец с рисом и грибами») как раз и позволяет мне выбрать правильный уровень восприятия; она направляет не только мой взгляд, но и мое внима¬ние. Что касается «символического» сообщения, то здесь словесный текст управляет уже не актами идентифика¬ции, а процессами интерпретации; такой текст подобен тискам, которые зажимают коннотативные смыслы, не позволяют им выскользнуть ни в зону сугубо индиви¬дуальных значений (тем самым текст ограничивает про¬ективную силу изображения), ни в зону значений, вызы¬вающих неприятные ощущения. Так, на одной рекламе (консервы «Арси») изображены какие-то мелкие плоды, рассыпанные вокруг садовой лестницы; подпись под фотографией («а что если и вам пройтись по собст¬венному саду?») элиминирует потенциальное, причем яв¬но нежелательное означаемое (скудость, бедный урожай)
10 Ваrthes R. Elements de semiologie, IV, p. 131-132 (русск. перевод: Барт Р. Основы семиологии, с. 158—160).
305
и подсказывает читателю другое, льстящее его самолю¬бию («натуральность» плодов, выращенных на собствен¬ной земле); подпись действует здесь как анти-табу, она разрушает невыгодный для фирмы миф о «ненатураль¬ности», обычно связываемый с консервированными про¬дуктами. Разумеется, феномен «закрепления» способен выполнять идеологическую функцию и за пределами рек¬ламы; это, собственно, и есть его основная функция; текст как бы ведет человека, читающего рекламу, среди множества иконических означаемых, заставляя избегать некоторых из них и допускать в поле восприятия другие; зачастую весьма тонко манипулируя читателем, текст ру¬ководит им, направляя к заранее заданному смыслу. Ко¬нечно, «закрепление» смысла так или иначе всегда слу¬жит разъяснению изображения, однако все дело в том, что это разъяснение имеет избирательный характер; пе¬ред нами такой метаязык, который направлен не на иконическое сообщение в целом, но лишь на отдельные его знаки; поистине, текст — это воплощенное право про¬изводителя (и следовательно, общества) диктовать тот или иной взгляд на изображение: «закрепление» смы¬сла — это форма контроля над образом; оно противопо¬ставляет проективной силе изображения идею ответствен¬ности за пользование сообщением; в противоположность иконический означающим, обладающим свободой, текст играет репрессивную роль 11; нетрудно понять, что имен¬но на уровне текста мораль и идеология общества заяв¬ляют о себе с особой силой.
«Закрепление» смысла — наиболее часто встречаю¬щаяся функция языкового сообщения; как правило, ее
11 Это хорошо видно в том парадоксальном случае, когда изобра¬жение призвано всего лишь проиллюстрировать текст и когда, следо¬вательно, ни о каком контроле, как будто, речи быть не может. Так, в рекламе, стремящейся внушить, что растворимый кофе при употребле¬нии полностью сохраняет аромат кофе натурального, то есть превра¬щает этот аромат в своего пленника, текст сопровождается изображе¬нием банки кофе в окружении цепей и замков: здесь лингвистическая метафора «пленник» употребляется буквально (известный поэтический прием); однако на практике мы все равно сначала читаем изображе¬ние, а не текст, его сформировавший: роль текста в конечном счете сводится к тому, чтобы заставить нас выбрать одно из возможных означаемых; репрессивная функция осуществляется под видом разъяс¬нения словесного сообщения.
306
легче всего обнаружить в фотографиях, публикуемых в периодической прессе, а также в рекламе. Что касается связующей функции, то она встречается реже (по край¬ней мере, в статичных изображениях); более всего она характерна для юмористических рисунков и для ко¬миксов. Словесный текст и изображение находятся здесь в комплементарных отношениях; и текст, и изображение оказываются в данном случае фрагментами более круп¬ной синтагмы, так что единство сообщения достигается на некоем высшем уровне — на уровне сюжета, расска¬зываемой истории, диегесиса (вот, кстати, почему диеге¬сис следует рассматривать в качестве самостоятельной системы 12). Словесные связки редко встречаются в ста¬тичных изображениях, зато они приобретают особую роль в кинематографе, где диалог не просто разъясняет изображение, но, — делая возможным переход от выска¬зывания к высказыванию, оперируя смыслами, отсутст¬вующими в изобразительном ряду, — обеспечивает разви¬тие действия.
Очевидно, что обе функции языкового сообщения мо¬гут сосуществовать в одном и том же иконическом изо-бражении; однако, с точки зрения внутреннего баланса произведения, отнюдь не безразлично, какая из этих функций преобладает. В том случае, если словесный текст играет роль диегетической связки, информация ста¬новится как бы более дорогостоящей, поскольку она тре¬бует знания языкового кода, построенного из дискретных единиц; если же текст выполняет субститутивную функ¬цию (то есть, функцию закрепления, контроля), то зада¬чу информации берет на себя само изображение; по¬скольку же изображение основано на принципе аналогии, эта информация оказывается как бы более «ленивой». В некоторых комиксах, рассчитанных на «скоростное» чтение, диегетическую функцию выполняет словесный текст, тогда как на долю изображения достается пере¬дача вспомогательной информации парадигматического характера (указание на стереотипность персонажей): дискурсивное сообщение начинает «стоить дорого», и это избавляет читателя от труда вникать во всякого рода
12 См.: Вremond Cl. Le message narratif — «Communications», 1964, № 4.
307
скучные словесные «описания»; их функцию берет на се¬бя изображение, иными словами, система, требующая от потребителя гораздо меньших усилий.
Денотативное изображение
Мы видели, что выделение «буквального» и «символи¬ческого» сообщений в рамках единого изображения име¬ло сугубо операциональный характер; причина в том, что буквального изображения в чистом виде (по крайней мере, в пределах рекламы) попросту не существует; даже если попытаться создать такое, целиком и полностью «наивное» изображение, оно немедленно превратится в знак собственной наивности и как бы удвоится за счет возникновения еще одного — символического — со¬общения. Таким образом, специфика «буквального» сооб¬щения имеет не субстанциальную, а реляционную при¬роду; это, так сказать, привативное сообщение, иными словами, остаток, который сохранится в изображении по¬сле того, как мы (мысленно) сотрем в нем все коннота¬тивные знаки (реально устранить эти знаки невозможно, так как они, как правило, пропитывают все изображение в целом, что, например, имеет место в «натюрморте»). Такой привативный модус изображения соответствует его потенциальной неисчерпаемости: это отсутствие смысла, чреватое всеми возможными смыслами; вместе с тем (и здесь нет никакого противоречия) привативное сообще¬ние самодостаточно, ибо оно — на уровне предметной идентификации представленных объектов — обладает по крайней мере одним твердым смыслом. «Буква» изобра¬жения — это исходный уровень интеллигибельности, по¬рог, за которым читатель способен воспринимать только разрозненные линии, формы и цвета; однако такая интеллигибельность, именно в силу своей бедности, остает¬ся виртуальной, так как знания любого индивида, живу¬щего в реальном обществе, всегда превосходят «антро¬пологический» уровень, позволяя улавливать в изобра¬жении нечто большее, чем одну его «букву». Нетрудно заметить, что, с эстетической точки зрения, денотативное сообщение, будучи одновременно и приватным, и само¬достаточным, являет собой адамов модус изображения:
308
если вообразить себе некое утопическое изображение, полностью лишенное коннотаций, то это будет сугубо объективное — иными словами, непорочное — изобра¬жение.
Утопичность денотации становится еще более очевид¬ной благодаря отмеченному выше парадоксу; он состоит в том, что фотография (в ее «буквальном» измерении), в силу своей откровенно аналогической природы, есть, по всей видимости, сообщение без кода. Поэтому струк¬турный анализ изображения должен проводиться специ¬фическими средствами, с учетом того, что из всех видов изображений только фотография способна передавать информацию (буквальную), не прибегая при этом ни к помощи дискретных знаков, ни к помощи каких бы то ни было правил трансформации. Вот почему фотографию как сообщение без кода следует отличать от рисунка, который, даже будучи денотативным, все-таки является сообщением, построенным на базе определенного кода. Это проявляется на трех уровнях: во-первых, воспроиз¬вести какой-либо предмет или сцену при помощи рисунка — значит осуществить ряд преобразований, подчиняющихся определенным правилам; рисунок-копия не обладает ни¬какой вечной «природой»: коды, лежащие в основе тех или иных преобразований, исторически изменчивы (это, в частности, касается законов перспективы); далее, сам процесс рисования (кодирования) заранее предполагает разграничение значимых и незначимых элементов в объекте: рисунок не способен воспроизвести весь объект; обычно он воспроизводит лишь очень немногие детали и тем не менее остается полноценным сообщением, тогда как фотография (если только это не фототрюк), рас¬полагая свободой в выборе сюжета, построения кадра, угла зрения, не в силах проникнуть внутрь объекта. Ины¬ми словами, поскольку не бывает бесстильных рисунков, денотативный уровень любого рисунка выражен менее отчетливо, нежели денотативный уровень фотографии; наконец, владение рисунком, как и владение всяким кодом, требует обучения (Соссюр придавал огромное значение этому семиологическому феномену). Сказывает¬ся ли закодированность денотативного сообщения на особенностях сообщения коннотативного? Очевидно, что закодированность «буквального» изображения (в той
309
мере, в какой последнее членится на дискретные эле¬менты) готовит почву для коннотативных смыслов и об-легчает их появление; «фактура» рисунка сама есть не что иное как феномен коннотации; и в то же время, поскольку рисунок как бы афиширует собственные коды, в нем радикально меняется соотношение денотативного и коннотативного сообщений; перед нами уже не отно¬шение природы к культуре, как в фотографии, а соотно¬шение двух культур: «мораль» рисунка не совпадает с «моралью» фотографии.
В самом деле, в фотографии (по крайней мере, на уровне ее «буквального» сообщения) означающие и озна-чаемые связаны не отношением «трансформации», а от¬ношением «запечатления», так что само отсутствие кода как будто лишь подкрепляет миф о «натуральности» фотографического изображения: сфотографированная сцена находится у нас перед глазами, она запечатлена не человеком, а механическим прибором (механистич¬ность оказывается залогом объективности); участие чело¬века в акте фотографирования (построение кадра, выбор расстояния до предмета, освещение, флю и т. п.) цели¬ком и полностью принадлежит коннотативному плану. Все происходит словно в утопии: сначала имеется фото-графия как таковая (фронтальная и четкая), а уж затем человек, пользуясь определенными техническими приема¬ми, испещряет ее знаками, взятыми из культурного кода. Лишь эта оппозиция между культурным кодом и при¬родным не-кодом способна, по-видимому, раскрыть спе¬цифику фотографии и помочь осознанию той антропо¬логической революции, которую она совершила в чело¬веческой истории, ибо, поистине, порожденный ею тип сознания не знает прецедентов; в самом деле, фотогра¬фия вызывает у нас представление не о бытии-сейчас вещи, (такое представление способна вызвать любая копия), а о ее бытии-в-прошлом. Речь, следовательно, идет о возникновении новой пространственно-временной категории, которая локализует в настоящем предмет, принадлежащий минувшему; нарушая все правила ло-гики, фотография совмещает понятия здесь и некогда. Таким образом, ирреальную реальность фотографическо¬го изображения можно в полной мере понять именно на уровне денотативного сообщения (то есть, сообщения
310
без кода); его ирреальность связана с категорией здесь, поскольку фотография никогда и ни в каком отношении не воспринимается как иллюзия присутствия. Это, между прочим, значит, что не стоит преувеличивать магическую силу фотографического изображения; что же касается его реальности, то это реальность бытия-в-прошлом; ведь любая фотография поражает нас очевидной констата¬цией: все это было именно так; редчайшее чудо состоит здесь в том, что мы получаем в свое распоряжение такую реальность, от воздействия которой полностью за¬щищены. Очевидно, такая сбалансированность изобра-жения во времени (бытие-в-прошлом) способствует ос¬лаблению его проективной силы (фотографию, в отличие от рисунка, очень редко используют для психологическо¬го тестирования): при взгляде на фотографию представ¬ление о том, что все так и было на самом деле, подав¬ляет в нас ощущение собственной субъективности. Если приведенные соображения справедливы хотя бы отчасти, то это значит, что восприятие фотографии связано с деятельностью созерцания, а не с деятельностью фанта¬зии, где преобладают проективность и «магия», опреде¬ляющие специфику кинематографа; отсюда — возмож¬ность обнаружить между фотографией и кино не коли¬чественную разницу, а качественное различие: кино — это отнюдь не движущаяся фотография; в кино бытие-в-прошлом уступает место бытию-сейчас вещей. Вот по-чему вполне возможно создать историю кинематографа, причем такую историю, которая не утратит связи с ранее существовавшими видами искусства, основанными на вы¬мысле; напротив, несмотря на то, что техника фотогра¬фического искусства непрестанно эволюционирует, а его притязания неуклонно возрастают, фотография в извест¬ном смысле не позволяет создать своей истории. Фото¬графия — это «непроницаемый» антропологический фе¬номен: он не только совершенно нов, но и неспособен ни к какому внутреннему развитию; впервые за всю свою историю человечество встретилось с сообщением без кода; итак, фотография, отнюдь не являясь последним (наиболее совершенным) отпрыском в обширном се¬мействе изображений, свидетельствует лишь о радикаль¬ном изменении, происшедшем в общем балансе средств информации.
311
В любом случае денотативное изображение — в той мере, в какой оно (как в рекламной фотографии) пред-полагает отсутствие кода, — играет в общей структуре иконического сообщения особую роль; эту роль (к ней мы еще вернемся в связи с анализом «символического» со¬общения) можно теперь предварительно уточнить: зада¬ча денотативного сообщения состоит в том, чтобы нату¬рализовать сообщение символическое, придать вид ес¬тественности семантическому механизму коннотации, осо¬бенно ощутимому в рекламе. Хотя реклама фирмы «Пандзани» переполнена различными «символами», ее бук¬вальное сообщение является самодостаточным; это-то и создает впечатление естественного присутствия предме-тов на фотографии; возникает иллюзия, будто рекламное изображение создано самой природой; представление о валидности систем, открыто выполняющих определенное семантическое задание, незаметно уступает место некоей псевдо-истине; сам факт отсутствия кода, придавая зна¬кам культуры видимость чего-то естественного, как бы лишает сообщение смысловой направленности. Здесь, не¬сомненно, проявляется важнейший исторический пара¬докс: развитие техники, приводящее ко все более широ¬кому распространению информации (в частности, изобра¬зительной), создает все новые и новые средства, которые позволяют смыслам, созданным человеком, принимать личину смыслов, заданных самой природой.
Риторика образа
Мы уже убедились, что знаки «символического» («культурного», коннотативного) сообщения дискретны; даже если означающее совпадает с изображением в целом, оно все равно продолжает оставаться знаком, отличным от других знаков; сама «композиция» изобра¬жения предполагает наличие определенного эстетическо¬го означаемого примерно так же как речевая интонация, обладая супрасегментным характером, тем не менее пред¬ставляет собой дискретное языковое означающее. Мы, следовательно, имеем в данном случае дело с самой обычной системой, знаки которой (даже если связь меж¬ду их составляющими оказывается более или менее
312
«аналоговой») черпаются из некоего культурного ко¬да. Специфика же этой системы состоит в том, что число возможных прочтений одной и той же лексии (одного и того же изображения) индивидуально варьируется; в рекламе фирмы «Пандзани» мы выделили четыре конно¬тативных знака, хотя на самом деле, вероятно, этих знаков гораздо больше (так, продуктовая сетка способна символизировать чудесный улов, изобилие и т. п.). Вмес¬те с тем сама вариативность прочтений отнюдь не про¬извольна; она зависит от различных типов знания, прое¬цируемых на изображение (знания, связанные с нашей повседневной практикой, национальной принадлеж¬ностью, культурным, эстетическим уровнем), и поддаю¬щихся классификации, типологизации: оказывается, что изображение может быть по-разному прочитано несколь-кими разными субъектами, и эти субъекты могут без труда сосуществовать в одном индивиде; это значит, что одна и та же лексия способна мобилизовать раз¬личные словари. Что такое словарь? Это фрагмент сим-волической ткани (языка), соответствующий определен¬ному типу практики, определенному виду операций 13, что как раз и обусловливает различные способы прочтения одного и того же изображения: каждый из выделенных нами знаков соответствует определенному «подходу» к действительности (туризм, домашняя стряпня, занятия искусством), хотя, конечно, далеко не все из этих «под¬ходов» практикуются каждым конкретным индивидом. В одном и том же индивиде сосуществует множество словарей; тот или иной набор подобных словарей обра¬зует идиолект каждого из нас 14. Таким образом, изобра¬жение (в его коннотативном измерении) есть некоторая конструкция, образованная знаками, извлекаемыми из разных пластов наших словарей (идиолектов), причем любой подобный словарь, какова бы ни была его «глу¬бина», представляет собой код, поскольку сама наша психея (как ныне полагают) структурирована наподобие языка; более того, чем глубже мы погружаемся в недра
13 См.: Greimas A. J. Les problemes de la description mecano¬graphique — «Cahiers de Lexicologie», Besancon, 1959, № 1, p. 63.
14 См.: Вarthes R. Elements de semiologie, p. 96 (русск. перевод: Барт Р. Основы семиологии, с. 120).
313
человеческой психики, тем более разреженным становит¬ся пространство между знаками и тем легче они под¬даются классификации: можно ли встретить что-либо более систематичное, чем «прочтения» чернильных пятен, предлагавшиеся пациентам Роршаха? Итак, вариатив¬ность прочтений не может представлять угрозы для «язы¬ка» изображений — стоит только допустить, что этот язык состоит из различных словарей, идиолектов и субкодов: смысловая система насквозь пронизывает изо¬бражение, подобно тому как сам человек, даже в потаен¬нейших уголках своего существа, состоит из множества различных языков. Язык изображения — это не просто переданное кем-то (например, субъектом, комбинирую¬щим знаки или создающим сообщения) слово, это также слово, кем-то полученное, принятое 15: язык должен включать в себя и всевозможные смысловые «неожидан¬ности».
Вторая трудность, связанная с анализом коннотации, состоит в том, что специфика коннотативных знаков не находит отражения в специфике соответствующего ана¬литического языка; поддаются ли коннотативные озна¬чаемые именованию? Для одного из них мы рискнули ввести термин «итальянскость», однако прочие, как пра¬вило, могут быть обозначены лишь при помощи слов, взятых из обыденного языка («приготовление пищи», «натюрморт», «изобилие»): оказывается, что метаязык, который должен стать инструментом анализа этих озна¬чаемых, не отражает их специфики. Здесь-то и заклю¬чается трудность, поскольку семантика самих коннота¬тивных означаемых специфична; в качестве коннота¬тивной семы понятие «изобилие» отнюдь не полностью совпадает с представлением об «изобилии» в денотатив¬ном смысле; коннотативное означаемое (в нашем слу¬чае — представление об изобилии и разнообразии про¬дуктов) как бы резюмирует сущность всех возможных видов изобилия, точнее, воплощает идею изобилия в
15 В свете соссюровской традиции можно сказать, что речь, будучи продуктом языка (и в то же время являясь необходимым условием для того, чтобы язык сложился), — это то, что передается отправи¬телем сообщения. Ныне имеет смысл расширить (особенно с семанти¬ческой точки зрения) понятие языка: язык есть «тотализирующая абстракция» переданных и полученных сообщений.
314
чистом виде; что же касается денотативного слова, то оно никогда не отсылает к какой-либо сущности, посколь¬ку всегда включено в тот или иной окказиональный кон¬текст, в ту или иную дискурсивную синтагму, направ¬ленную на осуществление определенной практической функции языка. Сема «изобилие», напротив, представ¬ляет собой концепт в чистом виде; этот концепт не входит ни в какую синтагму, исключен из любого контекста; это смысл, принявший театральную позу, а лучше ска¬зать (поскольку речь идет о знаке без синтагмы), смысл, выставленный в витрине. Чтобы обозначить подобные коннотативные семы, нужен особый метаязык; мы риск¬нули прибегнуть к неологизму italianite 'итальянскость': вероятно, именно подобные варваризмы способны лучше всего передать специфику коннотативных означаемых: ведь суффикс -tas (индоевропейский *-ta) как раз и позволяет образовать от прилагательного абстрактное су-ществительное: «итальянскость» — это не Италия, это концентрированная сущность всего, что может быть итальянским — от спагетти до живописи. Прибегая к столь искусственному (и по необходимости варварскому) именованию коннотативных сем, мы зато облегчаем себе анализ их формы 16; очевидно, что эти семы образуют определенные ассоциативные поля, что они парадигмати¬чески сопоставлены, а возможно, даже и противопостав¬лены в зависимости от расположения определенных си¬ловых линий или (пользуясь выражением Греймаса) семических осей 17: «итальянскость» — наряду с «французскостью», «германскостью», «испанскостью» — как раз и находится на такой «оси национальностей». Разу¬меется, выявление всех подобных осей (которые затем можно будет сопоставить друг с другом) станет возмож¬ным лишь после создания общего инвентаря коннотатив¬ных систем, причем такого инвентаря, который включит в себя не только различные виды изображений, но и зна¬ковые системы с иной субстанцией; ведь если коннота-
16 Форма — в точном значении, которое придает этому слову Ельмслев: функциональная связь означаемых между собой; см.: Barthes R. Elements de semiologie, p. 105 (русск. перевод: Барт Р. Основы семиологии, с. 130).
17 Greimas A. J. Cours de Semantique, 1964, cahiers roneotypes par l'Ecole Normale superieure de Saint-Cloud.
315
тивные означающие распределяются по типам в зави¬симости от своей субстанции (изображение, речь, пред¬меты, жесты), то их означаемые, напротив, никак не дифференцированы: в газетном тексте, в журнальной ил¬люстрации, в жесте актера мы обнаружим одни и те же означаемые (вот почему семиология мыслима лишь как тотальная дисциплина). Область, общая для конно¬тативных означаемых, есть область идеологии, и эта об¬ласть всегда едина для определенного общества на опре¬деленном этапе его исторического развития независимо от того, к каким коннотативным означающим оно при¬бегает.
Действительно, идеология как таковая воплощается с помощью коннотативных означающих, различающихся в зависимости от их субстанции. Назовем эти означаю¬щие коннотаторами, а совокупность коннотаторов — ри¬торикой: таким образом, риторика — это означающая сторона идеологии. Риторики с необходимостью варьи¬руются в зависимости от своей субстанции (в одном случае это членораздельные звуки, в другом — изобра¬жения, в третьем — жесты и т. п.), но отнюдь не обяза¬тельно в зависимости от своей формы; возможно даже, что существует единая риторическая форма, объединяю¬щая, к примеру, сновидения, литературу и разного рода изображения 18. Таким образом, риторика образа (иначе говоря, классификация его коннотаторов), с одной сто¬роны, специфична, поскольку на нее наложены физи¬ческие ограничения, свойственные визуальному материа¬лу (в отличие, скажем, от ограничений, налагаемых зву-ковой субстанцией), а с другой — универсальна, посколь¬ку риторические «фигуры» всегда образуются за счет формальных отношений между элементами. Такую рито¬рику можно будет построить, лишь располагая доста¬точно обширным инвентарем, однако уже сейчас нетруд¬но предположить, что в нее окажутся включены фигуры,
18 См.: Benveniste E. Remarques sur la fonction du langage dans le decouverte freudienne — «La Psychanalyse», 1956, № 1, p. 3—16 (русск. перевод: Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика, М.: Прогресс, 1974, с. 115—126).
316
выявленные в свое время Древними и Классиками 19; так, помидор обозначает «итальянскость» по принципу метонимии; на другой рекламной фотографии, где рядом изображены кучка кофейных зерен, пакетик молотого и пакетик растворимого кофе, уже сам факт смежности этих предметов обнаруживает между ними наличие логи¬ческой связи, подобной асиндетону. Вполне вероятно, что из всех метабол (фигур, построенных на взаимном за¬мещении означающих ) именно метонимия вводит в изображение наибольшее число коннотаторов и что среди синтаксических фигур паратаксиса преобладает асин¬детон.
Впрочем, главное (по крайней мере, сейчас) заклю¬чается не в том, чтобы дать ту или иную классификацию коннотаторов, а в том, чтобы понять, что в рамках це¬лостного изображения они представляют собой дискрет¬ные, более того, эрратические знаки. Коннотаторы не заполняют собой всю лексию без остатка, и их прочте¬ние не исчерпывает прочтения этой лексии. Иначе говоря (и это, по-видимому, верно по отношению к семиологии в целом), отнюдь не все элементы лексии способны стать коннотаторами: в дискурсе всегда остается некоторая доля денотации, без которой само существование дискур¬са становится попросту невозможным. Сказанное позво¬ляет нам возвратиться к сообщению-2, то есть к дено¬тативному изображению. В рекламе фирмы «Пандзани» средиземноморские фрукты, раскраска картинки, ее ком-позиция, само ее предметное богатство предстают как эрратические блоки; эти блоки дискретны и в то же время включены в целостное изображение, обладающее собственным пространством и, как мы видели, собствен¬ным «смыслом»: они оказываются частью синтагмы, ко¬торой сами не принадлежат и которая есть не что иное
19 Классическая риторика подлежит переосмыслению в структурных терминах (такая работа сейчас ведется); в результате, вероятно, можно будет построить общую, или лингвистическую риторику коннотативных означающих, пригодную для анализа систем, построенных из членораз¬дельных звуков, изобразительного материала, жестов и т. п.
20 Мы считаем возможным нейтрализовать якобсоновскую оппози¬цию между метафорой и метонимией; ведь если по своей сути мето¬нимия — это фигура, основанная на принципе смежности, она в конеч¬ном счете все равно функционирует как субститут означающего, иначе говоря, как метафора.
317
как денотативная синтагма. Это — чрезвычайно важное обстоятельство: оно позволяет нам как бы задним числом структурно разграничить «буквальное» сообщение-2 и «символическое» сообщение-3, а также уточнить ту нату¬рализующую роль, которую денотация играет по отно¬шению к коннотации; отныне мы знаем, что система кон¬нотативного сообщения «натурализуется» именно с по¬мощью синтагмы денотативного сообщения. Или так: область коннотации есть область системы; коннотацию можно определить лишь в парадигматических терминах; иконическая же денотация относится к области синтаг-матики и связывает между собой элементы, извлеченные из системы: дискретные коннотаторы сочленяются, актуа¬лизируются, «говорят» лишь при посредстве денотатив¬ной синтагмы: весь мир дискретных символов оказы¬вается погружен в «сюжет», изображенный на картинке, словно в очистительную купель, возвращающую этому миру непорочность.
Как видим, структурные функции в рамках целостной системы изображения оказываются поляризованы: с од¬ной стороны, имеет место своего рода парадигматическая концентрация коннотаторов (обобщенно говоря, «симво¬лов»), которые суть не что иное как полновесные, эрра¬тические, можно даже сказать, «овеществленные» знаки, а с другой — синтагматическая «текучесть» на уровне денотации; не забудем, что синтагма родственна речи; за¬дача же всякого иконического «дискурса» состоит в нату¬рализации символов. Не станем слишком поспешно пере¬носить выводы, полученные при анализе изображений, на семиологию в целом, однако рискнем предположить, что любой мир целостного смысла изнутри (то есть, структурно) раздирается противоречием между системой как воплощением культуры и синтагмой как воплощением природы: все произведения, созданные в рамках массо¬вой коммуникации, совмещают в себе — с помощью раз¬ных приемов и с разной степенью успеха — гипноти¬ческое действие «природы», то есть воздействие повест¬вования, диегесиса, синтагматики, с интеллигибельностью «культуры», воплощенной в дискретных символах, кото¬рые люди тем или иным образом «склоняют» под завесой своего живого слова.
1964, «Communications».
Критика и истина.
Перевод Г. К. Косикова...... 319
I
Явление, именуемое «новой критикой», родилось от¬нюдь не сегодня. Со времен Освобождения (что было вполне естественно) критики самых разных направлений в самых разнообразных работах, не оставивших без внимания буквально ни одного из наших авторов от Монтеня до Пруста, опираясь на новейшие философские направления, стали предпринимать попытки пересмотра нашей классической литературы. Нет ничего удивитель¬ного, что в той или иной стране время от времени возни¬кает стремление обратиться к фактам собственного прошлого и заново описать их, чтобы понять, что с ними можно сделать сегодня: подобные процедуры переоценки являются и должны являться систематическими.
Но вот нежданно-негаданно всему этому движению предъявляют обвинение в обмане 1 и налагают если не на все, то по крайней мере на многие его произведения те самые запреты, которые, из чувства неприязни, обычно принято относить к любому авангарду; оказывается, что произведения эти пусты в интеллектуальном отношении, софистичны в вербальном, опасны в моральном, а своим успехом обязаны одному только снобизму. Удивительно лишь то, что этот судебный процесс начался столь поздно. Почему именно теперь? Что это — случайная реакция? Агрессивный рецидив какого-то обскурантизма? Или, напротив, первая попытка дать отпор новым — дав¬но уже предугаданным и теперь нарождающимся — фор¬мам дискурса?
© Издательство МГУ. 1987
1 Picard R. Nouvelle critique ou nouvelle imposture. Paris, J. J. Pauvert, collection Libertes, 1965, 149 p. — Нападки Реймона Пикара направлены главным образом против книги «О Расине» (Se¬uil, 1963).
319
В нападках, которым подверглась недавно новая кри¬тика, в первую очередь поражает их непосредственный и словно бы естественный коллективный характер 2. Заго¬ворило какое-то примитивное, оголенное начало. Можно подумать, будто попал в первобытное племя и присут¬ствуешь при ритуальном отлучении какого-либо опасного его члена. Отсюда и этот диковинный палаческий сло¬варь 3. Новому критику мечтали нанести рану, его хотели проткнуть, побить, убить, хотели подвергнуть его испра-вительному наказанию, выставить у позорного столба, отправить на эшафот 4. Ясно, что здесь оказалось затро¬нутым некое витальное начало, коль скоро палач был не только превознесен за свои таланты, но и осыпан благо¬дарностями и поздравлениями, словно спаситель, очис¬тивший мир от скверны: для начала ему посулили бессмертие, а сегодня уже заключают в объятия 5. Короче говоря, «экзекуция», совершаемая над новой критикой, предстает как акт общественной гигиены, на который
2 Со стороны известной группы журналистов пасквиль Р. Пикара • получил безоговорочную, безграничную и безраздельную поддержку. Приведем этот почетный список старой критики (коль скоро отныне существует и новая критика): «Beaux Arts» (Брюссель, 23 дек. 1965). «Carrefour» (29 дек. 1965), «Croix» (10 дек. 1965), «Figaro» (3 ноября 1965), «XXе siecle» (ноябрь 1965), «Midi libre» (18 ноября 1965). «Monde» (23 OKT. 1965), куда следует присовокупить и ряд писем, полученных от читателей этой газеты (13, 20, 27 ноября 1965). «Nation francaise» (28 OKT. 1965), «Pariscope» (28 OKT. 1965), «Revue Parlementaire» (15 ноября 1965), «Europe-Action» (янв. 1966); не забу¬дем также и французскую Академию (Марсель Ашар отвечает Тьерри Монье, «Monde», 21 янв. 1966).
3 «Мы вершим казнь» («Croix»).
4 Вот некоторые из этих изящно-агрессивных образов: «Оружие насмешки» («Monde»), «Наставление при помощи розог» («Nation francaise»). «Метко нанесенный удар», «выпустить воздух из этих уродливых бурдюков» («ХХ-е siecle»). «Заряд смертоносных стрел» («Monde»). «Интеллектуальное жульничество» (Picar R., op. cit.), «Пирл-Харбор новой критики» («Revue de Paris», янв. 1966). «Барт у позорного столба» («Orient», Бейрут, 16 янв. 1966). «Свернуть шею новой критике и, в частности, отрубить голову некоторым обманщикам, а уж г-на Ролана Барта, объявленного вами свои предводителем, обезглавить без всяких разговоров» («Pariscope»).
5 «Со своей стороны, я полагаю, что сочинения г-на Барта уста реют намного раньше, чем труды г-на Пикара» (Guitton E., «Mon de», 28 марта 1964). «Мне хочется, г-н Реймон Пикар, заключить Вас в объятия за то, что Вы написали... этот памфлет (sic)» (Can Jean, «Pariscope»).
320
необходимо было решиться и удачное исполнение кото¬рого принесло несомненное облегчение.
Исходя от некоторой замкнутой группы людей, все эти нападки отмечены своего рода идеологической печатью, все они уходят корнями в ту двусмысленную культурную почву, где всякое суждение и всякий язык оказываются проникнуты неким несокрушимым полити¬ческим началом, не зависящим от требований момента 6. Во времена Второй Империи над новой критикой и вправду учинили бы судилище: в самом деле, не наносит ли она ущерб самому разуму, коль скоро преступает «азбучные законы научной или даже просто члено¬раздельной мысли»? Разве не попирает она нравствен¬ность, повсюду вмешивая «навязчивую, разнузданную, циничную сексуальность»? Разве не дискредитирует отечественные институты в глазах заграницы? 7 Итак, не «опасна» ли она? 8 Это словечко, будучи применено к философии, языку или искусству, тотчас же выдает с головой всякое консервативное мышление. В самом деле, последнее живет в постоянном страхе (откуда и возника¬ет единый образ изничтожения); оно страшится всего нового и все новое объявляет «пустым» (это, как прави¬ло, единственное, что могут о нем сказать). Правда, к этому традиционному страху примешивается ныне и другой, прямо противоположного свойства, — страх пока-заться устаревшим; поэтому подозрительность ко всякой новизне обставляется реверансами в сторону «требований современности» или необходимости «по-новому проду¬мать проблемы критики»; красивым ораторским жестом отвергается как тщетный «возврат к прошлому» 9. Отста-
6 «Реймон Пикар дает здесь отпор прогрессисту Ролану Барту... Пикар выводит на чистую воду тех, кто пытается заменить класси¬ческий анализ сверхимпрессионизмом своего собственного вербального бреда, всех этих маньяков расшифровки, воображающих, будто и прочие люди рассуждают о литературе с точки зрения Каббалы, Пя¬тикнижия или Нострадамуса. Великолепная серия «Liberte» выходя¬щая под руководством Жана-Франсуа Ревеля (Дидро, Цельс, Ружье, Рассел), еще многим набьет оскомину, но уж, конечно, не нам» («Europe-Action», янв. 1966).
7 Picard R., op. cit., p. 58, 30, 84.
8 Ibid., p. 85, 148.
9 Guitton E. «Monde» 13 ноября 1965; Picard R., op. cit., P. 149; Piatier J., «Monde» 23 OKT. 1965.
321
лость считается ныне столь же постыдной, как и капи¬тализм 10. Отсюда — любопытные перепады: в течение какого-то времени делают вид, будто смирились с совре¬менными произведениями, о которых следует говорить, потому что о них и без того говорят; но затем, вдруг, когда известный порог оказывается достигнут, прини¬маются за коллективную расправу. Таким образом, все эти судебные процессы, время от времени устраиваемые рядом замкнутых группировок, отнюдь не представляют собой чего-то необыкновенного; они возникают в момент, когда равновесие оказывается окончательно нарушен¬ным. И все же почему нынешний процесс устроен именно над Критикой?
Здесь важно подчеркнуть не столько само противо¬поставление старого новому, сколько совершенно откры-тое стремление наложить запрет на известный тип слова, объектом которого является книга: нетерпимым представ¬ляется, что язык способен заговорить о языке. Такое удвоенное слово становится предметом особой бдитель¬ности со стороны социальных институтов, которые, как правило, держат его под надзором строжайшего кодекса: в Литературной Державе критика должна находиться в такой же «узде», как и полиция; дать свободу критике столь же «опасно», как и позволить распуститься по¬лиции: это означало бы поставить под угрозу власть власти, язык языка. Построить вторичное письмо при помощи первичного письма самого произведения — значит открыть дорогу самым неожиданным опосредованиям, бесконечной игре зеркальных отражений, и вот эта-то свобода как раз и кажется подозрительной. В той мере, в какой традиционная функция критики заключалась в том, чтобы судить литературу, сама критика могла быть только конформистской, иными словами, конформной интересам судей. Между тем подлинная «критика» со-циальных институтов и языков состоит вовсе не в «су¬де» над ними, а в том, чтобы размежевать, разделить, расщепить их надвое. Чтобы стать разрушительной,
10 Пятьсот приверженцев Ж. Л. Тиксье-Виньянкура заявляют в своем манифесте о решимости «продолжать свою деятельность, опи¬раясь на боевую организацию и националистическую идеологию.., способную эффективно противостоять как марксизму, так и капитали¬стической технократии» («Monde», 30—31 янв. 1966).
322
критике не нужно судить, ей достаточно заговорить о языке, вместо того чтобы говорить на нем. В чем упре-кают сегодня новую критику, так это не столько в том, что она «новая», сколько в том, что она в полной мере является именно «критикой», в том, что она перераспре¬делила роли автора и комментатора, покусившись тем самым на устойчивую субординацию языков 11. В этом нетрудно убедиться, обратившись к тому своду законов, который ей противопоставляют и которым пытаются оправдать совершаемую над нею «казнь».
Критическое правдоподобие
Аристотель обосновал технику речевых высказываний, построенную на предположении, что существует пред¬ставление о правдоподобном, отложившееся в умах лю¬дей благодаря традиции, авторитету Мудрецов, коллек¬тивному большинству, общепринятому мнению и т. п. Правдоподобное — идет ли речь о письменном произведе¬нии или об устной речи — это все, что не противоречит ни одному из указанных авторитетов. Правдоподобное вовсе не обязательно соответствует реально бывшему (этим занимается история) или тому, что бывает по необ¬ходимости (этим занимается наука), оно всего-навсего соответствует тому, что полагает возможным публика и что может весьма отличаться как от исторической реаль¬ности, так и от научной возможности. Тем самым Аристо¬тель создал эстетику публики; применив ее к нынешним массовым произведениям, мы, быть может, сумеем воссоз¬дать идею правдоподобия, свойственную нашей собствен¬ной современности, коль скоро подобные произведения ни в чем не противоречат тому, что публика полагает возможным, сколь бы невозможными ни были эти пред¬ставления как с исторической, так и с научной точки зрения.
Старая критика отнюдь не чужда тому, что мы можем вообразить себе о критике массовой, коль скоро наше общество стало потреблять критические комментарии совершенно так же, как оно потребляет кинематогра-фическую, романическую или песенную продукцию. На
11 См. ниже: с. 346 и cл.
323
уровне современной культурной общности старая критика располагает собственной публикой, господствует на лите¬ратурных страницах ряда крупных газет и действует в рамках определенной интеллектуальной логики, где за¬прещено противоречить всему, что исходит от традиции, от наших Мудрецов, от общепринятых взглядов и т. п. Короче, категория критического правдоподобия сущест¬вует.
Эта категория, однако, не находит выражения в каких-либо программных заявлениях. Воспринимаясь как нечто само собой разумеющееся, она оказывается по эту сторону всякого метода, ибо метод, напротив, есть акт сомнения, благодаря которому мы задаемся вопросом относительно случайных или закономерных явлений. Это особенно чувствуется, когда любитель правдоподобия начинает недоумевать или возмущаться «экстравагантностями» новой критики: все здесь кажется ему «абсурдным», «нелепым», «превратным», «патоло¬гическим», «надуманным», «ошеломляющим» 12. Критик — любитель правдоподобия обожает «очевидные вещи». Между тем эти очевидные вещи имеют сугубо норматив¬ный характер. Согласно расхожему приему опровер¬жения, все неправдоподобное оказывается плодом чего-то запретного, а значит и опасного: разногласия превра¬щаются в отклонения от нормы, отклонения — в ошибки, ошибки — в прегрешения 13, прегрешения — в болезни, а
12 Вот выражения, при помощи которых Р. Пикар характеризует новую критику: «обман», «рискованный и нелепый» (с. 11), «выставляя напоказ свою эрудицию» (с. 39), «произвольная экстраполяция» (с. 40), «разнузданная манера, неточные, спорные или нелепые утверждения» (с. 47), «патологический характер этого языка» (с. 50), «бессмыслен¬ности» (с. 52), «интеллектуальное жульничество» (с. 54), «книга, ко¬торая кого угодно приведет в возмущение» (с. 57), «эксцесс само-довольной некомпетентности», «набор паралогизмов» (с. 59), «наду¬манные утверждения» (с. 71), «ошеломляющие строки», «экстра¬вагантная доктрина» (с. 73), «смехотворное и пустое умствование» (с. 75), «произвольные, безосновательные, абсурдные выводы» (с. 92), «нелепости и странности» (с. 146), «надувательство» (с. 147). Я бы добавил: «старательно неточный», «ляпсусы», «самодовольство, способ¬ное вызвать одну лишь улыбку», «расплывчатые мандаринские тон¬кости» и т. п., однако это уже не из Р. Пикара, это из Сент-Бёва, стилизованного Прустом, и из речи г-на де Норпуа, «казнящего» Бергота.
13 Один из читателей газеты «Monde», пользуясь каким-то стран¬ным религиозным языком, заявляет, что прочитанная им неокритиче-
324
болезни — в уродства. Поскольку рамки этой норматив¬ной системы чрезвычайно тесны, нарушить их способен любой пустяк: вот почему немедленно возникают правила правдоподобия, переступить через которые невозможно, не очутившись немедленно в области некоей крити¬ческой «анти-природы» и не попав тем самым в ведение дисциплины, именуемой «тератологией» 14. Каковы же правила критического правдоподобия в 1965 году?
Объективность
Вот первое из этих правил, которым нам прожужжали все уши, — объективность. Что же такое объективность применительно к литературной критике? В чем состоит это свойство произведения, «существующего независимо от нас»? 15 Оказывается, что это свойство внеположности, столь драгоценное потому, что оно должно поставить предел экстравагантности критика, свойство, относитель¬но которого мы должны были бы без труда договориться, коль скоро оно не зависит от изменчивых состояний нашей мысли, — это свойство тем не менее не перестает получать самые разнообразные определения; позавчера под ним подразумевали разум, природу, вкус и т. п.; вчера — биографию автора, «законы жанра», историю. И вот сегодня нам предлагают уже иное определение. Нам заявляют, что в произведении содержатся «очевид¬ные вещи», которые можно обнаружить, опираясь на «достоверные факты языка, законы психологической связности и требования структуры жанра» 16.
Здесь переплелось сразу несколько моделей-призра¬ков. Первая относится к области лексикографии: нас убеждают, что Корнеля, Расина, Мольера следует читать, держа под рукой «Словарь классического французского языка» Кейру. Да, конечно; кому и когда приходило в голову с этим спорить? Однако, узнав значения тех или
cкая книга «полна прегрешений против объективности» (27 ноября
14 Picard R., op. cit., p. 88.
15 «Объективность — современный философский термин. Свойство того, что является объективным; существование вещей независимо от нас» (Словарь Литтре).
16 Picard R., op. cit., p. 69.
325
иных слов, что вы станете с ними делать? То, что принято называть (жаль, что без всякой иронии) «достоверными фактами языка», — это не более чем факты французско¬го языка, факты толкового словаря. Беда (или счастье) в том, что естественный язык служит лишь материальной опорой для другого языка, который ни в чем не противо¬речит первому, но, в отличие от него, исполнен неопреде¬ленности: где тот проверочный инструмент, где тот сло¬варь, с которым вы намереваетесь подступиться к этому вторичному — бездонному, необъятному, символическо¬му — языку, который образует произведение и который как раз и является языком множественных смыслов? 17 Так же обстоит дело и с «психологической связностью». При помощи какого ключа собираетесь вы ее читать? Существуют разные способы обозначать акты челове-ческого поведения и разные способы описывать их связность: установки психоаналитической психологии отличаются от установок бихевиористской психологии и т. п. Остается последнее прибежище — «общеприня¬тая» психология, всеми признаваемая и потому внушаю¬щая чувство глубокой безопасности; беда в том, что сама эта психология складывается из всего того, чему нас еще в школе учили относительно Расина, Корнеля и т. п., а это значит, что представление об авторе у нас создают при помощи того самого образа, который
17 Хотя я и не стремлюсь во что бы то ни стало отстоять свою книгу «О Расине», я все же не могу допустить, чтобы обо мне гово¬рили, будто я несу галиматью по поводу языка Расина, как утвер¬ждает Жаклин Пиатье в газете «Monde» (23 окт. 1965). Если, к при¬меру, я отметил, что в глаголе respirer чувствуется дыхание (Picard R., op. cit., p. 53), то сделал это вовсе не потому, что якобы не знал значения, которое это слово имело в эпоху Расина (перевести дух), о чем, кстати, у меня и сказано («О Расине», с. 195 наст, сб.), а потому, что словарное значение этого слова не противоречило его символическому смыслу, который в данном случае — причем как бы с нарочитой издевкой — оказывается его первичным смыслом. В данном, как и в ряде других случаев, когда Р. Пикар, исступленно поддерживаемый своими сторонниками, пытается в своем пасквиле вы¬ставить меня в самом невыгодном свете, я попрошу ответить за меня Пруста и напомню, что он писал Полю Судэ, обвинившему его в грамматических ошибках: «Моя книга, быть может, свидетельствует о полном отсутствии таланта; однако она предполагает, она требует такого уровня культуры, который исключает моральную вероятность совершения столь грубых ошибок, о которых Вы говорите» («Choix de Lettres». P.: Plon, 1965, p. 196).
326
нам уже внушен: нечего сказать, хороша тавтология! Утверждать, что персонажи «Андромахи» это «одержи¬мые неистовством индивиды, чьи неукротимые страсти и т. п.» 18, значит ускользнуть от абсурда ценой баналь¬ности и при этом все равно не гарантировать себя от ошибки. Что же до «структуры жанра», то здесь стоит разобраться подробнее: о самом слове «структура» спо¬рят вот уже в течение ста лет; существует несколько структурализмов — генетический, феноменологический и т. п.; но есть также и «школьный» структурализм, ко¬торый учит составлять «план» произведения. О каком же структурализме идет речь? Как можно обнаружить струк¬туру, не прибегая к помощи той или иной методологи¬ческой модели? Ладно еще, если бы дело шло о трагедии, канон которой известен благодаря теоретикам классиче-ской эпохи; но какова «структура» романа, которую-де следует противопоставить «экстравагантным выходкам» новой критики?
Итак, все указанные «очевидности» на деле суть лишь продукты определенного выбора. Первая из этих «очевидностей», будучи понята буквально, попросту смехо¬творна или, если угодно, ни с чем не сообразна; никто никогда не отрицал и не станет отрицать, что текст произведения имеет дословный смысл, в случае необхо¬димости раскрываемый для нас филологией. Вопрос в том, имеем ли мы право прочесть в этом дословно поня¬том тексте иные смыслы, которые не противоречили бы его буквальному значению; ответ на этот вопрос можно получить отнюдь не с помощью словаря, а лишь путем выработки общей точки зрения относительно символи¬ческой природы языка. Сходным образом обстоит дело и с остальными «очевидностями»: все они уже представля¬ют собой интерпретации, основанные на предварительном выборе определенной психологической или структурной модели; подобный код — а это именно код — способен варьироваться; вот почему объективность критика должна зависеть не от самого факта избрания им того или иного кода, а от той степени строгости, с которой он применит избранную модель к произведению 19. И это
18 Picard R., op. cit., p. 30.
19 Об этой новой объективности см. ниже, с. 360 и сл.
327
отнюдь не пустяк; однако коль скоро новая критика никогда ничего другого и не утверждала, обосновывая объективность своих описаний принципом их внутренней последовательности, вряд ли стоило труда ополчаться на нее войной. Адепт критического правдоподобия выбирает обычно код, при помощи которого текст читается бук¬вально; что ж, такой выбор ничем не хуже любого дру¬гого. И все-таки посмотрим, чего он стоит.
Нас учат, что «за словами следует сохранять их собственное значение» 20; это означает, что всякое слово имеет лишь один смысл — доброкачественный. Такое правило заставляет с неоправданной подозрительностью относиться к образу или, что еще хуже, приводит к его банализации: либо просто-напросто на него наклады¬вают запрет (недопустимо говорить, что Тит убивает Беренику, коль скоро Береника отнюдь не умирает от руки убийцы21), либо его пытаются высмеять, делая вид — с большей или меньшей долей иронии — будто понимают его буквально (связь между солнцеподобным Нероном и слезами Юнии сводят к действию «солнечного света, высушивающего лужу» 22 или же усматривают здесь «заимствование из области астрологии» 23), либо, наконец, требуют не видеть в образе ничего, кроме клише, характерных для соответствующей эпохи (не сле¬дует чувствовать никакого дыхания в глаголе respirer, коль скоро глагол этот в XVII веке означал 'переводить дух'). Так мы приходим к весьма любопытным урокам чтения: читая поэтов, не следует ничего извлекать из их произведений: нам запрещают поднимать взор выше таких простых и конкретных слов (как бы ни пользова¬лась ими эпоха), каковыми являются «гавань», «сераль» или «слезы». В конце концов слова полностью утрачи¬вают свою референциальную ценность, за ними остается одна только товарная стоимость: они служат лишь целям обмена, как в зауряднейшей торговой сделке, а вовсе не целям суггестии. В результате оказывается, что язык способен уверить лишь в одном факте — в своей собст-
20 Picard R., op. cit., p. 45.
21 Ibid.
22 Ibid., p. 17.
23 «Revue parlementaire», 15 ноября 1965.
328
венной банальности: ее-то и предпочитают всему осталь¬ному.
А вот и другая жертва буквального прочтения — персонаж, объект преувеличенного и в то же время вызы-вающего улыбку доверия; персонаж якобы не имеет ни¬какого права заблуждаться относительно самого се-бя, относительно своих переживаний: понятие алиби неведомо адепту критического правдоподобия (так, Орест и Тит не могут лгать самим себе); неведомо ему и понятие фантазма (Эрифила любит Ахилла и при этом, конечно, даже не подозревает, что уже заранее одержима образом этого человека) 24. Эта поразительная ясность человеческих существ и их отношений припи¬сывается не только миру художественного вымысла; для адепта критического правдоподобия ясна сама жизнь; как в книгах, так и в самой действительности отноше¬ниями между людьми правит один и тот же закон ба¬нальности. Нет никаких оснований, заявляют нам, рас¬сматривать творчество Расина как театр Неволи, коль скоро в нем изображается самая расхожая ситуация 20; столь же бесплодны и указания на то, что в расиновской трагедии на сцену выводятся отношения, основанные на принуждении, ибо — напоминают нам — власть лежит в основании любого общества 26. Говорить так — значит слишком уж благодушно относиться к наличию фактора силы в человеческих отношениях. Будучи далеко не столь пресыщенной, литература всегда занималась имен¬но тем, что вскрывала нетерпимый характер банальных ситуаций; ведь литература как раз и есть то самое слово, с помощью которого выявляется фундаментальность банальных отношений, а затем разоблачается их скан¬дальная суть. Таким образом, адепт критического прав¬доподобия пытается обесценить все сразу: с его точки зрения, все, что банально в самой жизни, ни в коем случае не должно быть обнаружено, а все, что не являет¬ся банальным в произведении, должно быть сделано банальным; нечего сказать, хороша эстетика, обрекаю¬щая жизнь на молчание, а произведение — на ничто¬жество.
24 Picard R., op. cit., p. 33.
25 Ibid., p. 22.
26 Ibid., p. 39.
329
Вкус
Переходя к остальным правилам, выдвигаемым адеп¬том критического правдоподобия, придется спуститься на ступеньку ниже, вступить в область всяческих смехотвор¬ных запретов, давно устаревших возражений и — при посредстве наших сегодняшних старых критиков — завя¬зать диалог со старыми критиками позавчерашнего дня — с каким-нибудь Низаром или Непомюсеном Лемерсье.
Как же обозначить ту область интердиктов (мораль¬ных и эстетических одновременно), куда классическая критика помещала все те свои ценности, которые она неспособна была связать с научным знанием? Назовем эту табуирующую систему словом «вкус» 27. О чем же запрещает говорить вкус? О реальных предметах. Попав в поле зрения абстрактно-рационализированного дис¬курса, всякий конкретный предмет немедленно получает репутацию «низкого»; причем ощущение чего-то несо¬образного возникает не от предметов как таковых, но именно от смешения абстрактного и конкретного (ведь смешивать жанры всегда воспрещается). У критиков вы¬зывает смех, что находятся люди, полагающие возмож¬ным рассуждать о шпинате, когда речь идет о таком феномене, как литература 28: здесь шокирует сама дистан¬ция между реальным предметом и кодифицированным языком критики. Так возникает любопытное недоразуме¬ние: несмотря на то, что немногочисленные сочинения, созданные представителями старой критики, отличаются сугубой, абстрактностью 29 , тогда как работы новой критики, напротив, абстрактны лишь в очень незначи-тельной степени (ибо речь в них идет о субстанциях и предметах), похоже, именно новую критику стремятся выдать за воплощение какой-то бесчеловеческой абстрак¬ции. Между тем все, что адепт правдоподобия именует «конкретным», на поверку — в очередной раз — оказы¬вается всего лишь привычным для него. Привычное —
27 Picard R., op. cit., p. 32.
28 Ibid., p. 110, 135.
29 См. предисловия Р. Пикара к трагедиям Расина (?uvres com¬pletes. P.: Pleiade, Tome I, 1956).
330
вот что определяет вкус адепта критического правдо¬подобия; критика, по его разумению, должна основывать¬ся вовсе не на предметах (они непомерно прозаичны 30) и не на мыслях (они непомерно абстрактны), а на одних только оценках.
Вот здесь-то и может весьма пригодиться понятие вкуса: будучи слугой двух господ — морали и эстетики одновременно, — вкус позволяет совершать весьма удоб¬ный переход от Красоты к Добру, которые под сурдинку соединяются в обыкновенном понятии «мера». Однако мера эта во всем подобна ускользающему миражу; если критика упрекают в том, что он злоупотребля¬ет рассуждениями о сексуальности, то на самом деле надо понимать, что любой разговор о сексуальности сам по себе уже является злоупотреблением: представить себе хотя бы на минуту, что персонажи классической литературы могут быть наделены (или не наделены) признаками пола, значит «повсюду вмешивать» «навяз¬чивую, разнузданную, циническую» сексуальность31. Тот факт, что признаки пола способны играть совершенно конкретную (а отнюдь не паническую) роль в расстанов¬ке персонажей, попросту не принимается во внимание; более того, старому критику даже и на ум не приходит, что сама эта роль способна меняться в зависимости от того, следуем ли мы за Фрейдом или, к примеру, за Адлером: да и что старый критик знает о Фрейде помимо того, что ему случилось прочесть в книжке из серии «Что я знаю?»
На самом деле вкус — это запрет, налагаемый на всякое слово о литературе. Приговор психоанализу выно-сится вовсе не за то, что он думает, а за то, что он гово¬рит; если бы психоанализ можно было ограничить рамка¬ми сугубо медицинской практики, уложив больного (сами-то мы, конечно, совершенно здоровы) на его ку¬шетку, то нам было бы до него не больше дела, чем до какого-нибудь иглоукалывания. Но ведь психоанализ решается посягнуть на священную (по определению) особу (каковой и нам с вами хотелось бы быть) самого писателя. Ладно бы дело шло о каком-нибудь современ-
30 На деле — непомерно символичны.
31 Picard R., op. cit., p. 30.
331
нике, но ведь замахиваются на классика! Замахивают¬ся на самого Расина, этого яснейшего из поэтов и цело¬мудреннейшего из всех людей, когда-либо обуревавших¬ся страстями! 32
Все дело в том, что представления, сложившиеся у старого критика о психоанализе, отжили свой век еще в незапамятные времена. В основе их лежит абсолютно архаический способ членения человеческого тела. В са¬мом деле, человек, каким его представляет себе старая критика, состоит из двух анатомических половинок. Первая включает в себя все, что находится, если можно гак выразиться, сверху и снаружи; это голова как вме¬стилище разума, художественное творчество, благо¬родство облика, короче, все, что можно показать и что надлежит видеть окружающим людям; вторая включает в себя все, что находится внизу и внутри, а именно, признаки пола (которые нельзя называть), инстинкты, «мгновенные импульсы», «животное начало», «безличные автоматизмы», «темный мир анархических влечений» 33; в одном случае мы имеем дело с примитивным челове¬ком, руководствующимся самыми первичными потребно¬стями, в другом — с уже развившимся и научившимся управлять собою автором. Так вот, заявляют нам с воз-мущением, психоанализ до предела гипертрофирует свя¬зи между верхом и низом, между нутром и наружностью; более того, похоже, что он отдает исключительное предпочтение потаенному «низу», который якобы пре¬вращается под пером неокритиков в «объяснительный» принцип, позволяющий понять особенности находящего¬ся на поверхности «верха». Эти люди тем самым пере¬стают отличать «булыжники» от «бриллиантов» 34. Как разрушить это совершенно ребяческое представление? Для этого пришлось бы еще раз объяснить старой критике,
32 «Возможно ли на примере Расина, яснейшего из поэтов, строить этот новый, невразумительный способ судить о гении и разлагать его на составные части» («Revue parlementaire», 15 ноября 1965).
33 Picard R., op. cit., p. 135—136.
34 Коль скоро мы уж попали в царство камней, процитируем сей перл: «Желая во что бы то ни стало раскопать навязчивые желания писателя, эти люди стремятся обнаружить их в таких „глубинах", где можно найти все, что угодно, где нетрудно принять булыжник за брил¬лиант» («Midi libre», 18 ноября 1965).
332
что объект психоанализа отнюдь не сводится к «бессоз¬нательному» 35; что, следовательно, психоаналитическая критика (с которой можно спорить по целому ряду других вопросов, в том числе и собственно психоаналитических) по крайней мере не может быть обвинена в создании «угро¬жающе пассивистской концепции» литературы 36, посколь¬ку автор, напротив, является для нее субъектом работы (не забудем, что само это слово взято из психоанали¬тического словаря); что, с другой стороны, приписывать высшую ценность «сознательной мысли» и утверждать, что незначительность «инстинктивного и элементар¬ного» начала в человеке очевидна, значит совершать логическую ошибку, называемую предвосхищением ос¬нования. Пришлось бы объяснить, что, помимо прочего, все эти морально-эстетические противопоставления че¬ловека как носителя животного, импульсивного, авто¬матического, бесформенного, грубого, темного и т. п. начала, с одной стороны, и литературы как воплощения осознанных устремлений, ясности, благородства и славы, заслуженной ею благодаря выработке особых выра¬зительных средств — с другой, — все эти противопо¬ставления попросту глупы, потому что психоанализ вовсе не разделяет человека на две геометрические половинки, а также потому, что, по мысли Жака Лакана, топология психоаналитического человека отнюдь не является топологией внешнего и внутреннего 37 или, тем более, верха и низа, но, скорее, подвижной топологией лица и изнанки, которые язык постоянно заставляет меняться ролями и как бы вращаться вокруг чего-то такого, что «не есть». Однако к чему все это? Невежество старой критики в области психоанализа отличается непрони¬цаемостью и упорством, свойственным разве что мифам (отчего в конце концов в этом невежестве появляется даже нечто завораживающее) : речь идет не о неприятии, а об определенной позиции по отношению к психоанали¬зу, неизменно сохраняющейся на протяжении целых поколений: «Я хотел бы обратить внимание на ту на-стойчивость, с которой, вот уже в течение пятидесяти
35 Picard R., op. cit., p. 122—123.
36 Ibid., p. 142.
37 Picard R., op. cit., p. 128.
333
лет, представители значительной части литературы, в том числе и во Франции, утверждают примат инстинк¬тов, бессознательного, интуиции, воли (в немецком смысле этого слова, то есть чего-то, противостоящего разуму)». Эти строки написаны не в 1965 году Реймоном Пикаром, а в 1927 году Жюльеном Бенда 38.
Ясность
И вот, наконец, последний запрет, налагаемый адеп¬том критического правдоподобия. Как и следовало ожи-дать, он касается самого языка. Критику воспрещается говорить на любых языках, которые принято именовать «жаргонами». Ему предписывается один-единственный язык: «ясность» 39.
Уже давным-давно во французском обществе «яс¬ность» воспринимается не просто как свойство словес¬ной коммуникации, не как подвижный атрибут, приложимый к самым различным языкам, но как особый тип слова: дело идет о некоем священном языке, родственном языку французскому, и подобном иероглифическим пись¬менам, санскриту и латыни средневековья 40. Этот язык, имя которому «французская ясность», по своему проис¬хождению является языком политическим; он родился тогда, когда — в соответствии с хорошо известным идеологическим законом — правящим классам потребо¬валось возвести свое собственное, вполне определенное письмо в ранг универсального языка и тем внушить мысль, будто логика французского языка является аб¬солютной логикой. В те времена такую логику называли гением языка; гений французского языка требует, чтобы
38 Эта фраза с одобрением процитирована в газете «Midi libre» (18 ноября 1965). Вот материал для небольшого исследования о нынешних наследниках Жюльена Бенда.
39 Я избавляю себя от труда цитировать все обвинения в употре¬блении «дремучего жаргона», брошенные в мой адрес.
40 Все это в подобающем стиле было высказано Реймоном Кено: «Эта алгебра ньютонианского рационализма, это эсперанто, облегчав¬шее сделки Фридриха Прусского и Екатерины Российской, это арго дипломатов, иезуитов и геометров евклидовой школы якобы продол¬жают оставаться прототипом, идеалом и мерой всякого французского речения» (Batons, chiffres et lettres. P.: Gallimard, «Idees», 1965, p. 50).
334
сначала был назван субъект действия, затем само дейст¬вие и наконец его объект — в согласии, как тогда принято было говорить, с требованиями «природы». С научных позиций этот миф был разоблачен современ¬ной лингвистикой 41: французский язык «логичен» не бо¬лее и не менее, нежели любой другой 42.
Хорошо известно, каким именно образом класси¬ческие институты калечили наш язык. Любопытно, что французы, не устающие гордиться тем, что у них был Расин (человек со словарем в две тысячи слов), ни-когда не сожалеют о том, что у них не было Шекспира. Они и сегодня с комичной пылкостью все еще продол¬жают сражаться за свой «французский язык» — пишут пророческие хроники, мечут громы и молнии против иностранного засилия, приговаривают к смерти слова, имеющие репутацию нежелательных. В языке все время нужно что-то чистить, скоблить, запрещать, устранять, предохранять. Подражая сугубо медицинской манере старой критики судить языки, которые ей не по нраву (и которые она объявляет «патологическими»), можно сказать, что мы страдаем национальной болезнью, ко¬торую удобно назвать «комплексом ритуального очище¬ния языка». Предоставим этнопсихиатрии определить суть этой болезни, а со своей стороны заметим, что в по¬добном языковом мальтузианстве есть нечто зловещее: «Язык папуасов, — пишет географ Барон, — крайне беден; у каждого племени есть свой язык, словарный запас которого непрестанно обедняется, потому что всякий раз, когда кто-нибудь умирает, из языка исклю¬чают несколько слов — в знак траура»43. В этом от¬ношении мы далеко превзошли папуасов: мы почти¬тельно бальзамируем язык умерших писателей и отвер-
41 См.: Bally Charles. Linguistique generale et Linguistique fran¬caise. Berne: Francke, 4e ed., 1965 [рус., пер.: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: ИЛ., 1955].
42 Не следует смешивать претензии классицизма на то, чтобы объя¬вить французский синтаксис наилучшим воплощением универсальной логики, с глубокими воззрениями Пор-Рояля относительно логических проблем языка вообще (ныне к этим воззрениям обратился Н. Хом¬ский).
43 Baron E. Geographie (Classe de philosophie, Ed. de l'Ecole, P. 83).
335
гаем любые новые слова и смыслы, рождающиеся в мире идей: траурные знаки сопутствуют у нас акту рождения, а не смерти.
Языковые запреты служат оружием в той карлико¬вой войне, которую ведут между собой различные ин-теллектуальные касты. Старая критика — одна из многих таких каст, а проповедуемая ею «французская яс-ность» — это жаргон, подобный любому другому. Это особый язык, которым пользуется совершенно опреде¬ленная группа писателей, критиков, журналистов и ко¬торый в основном подражает даже не языку наших писателей-классиков, но всего-навсего классицизму этих писателей. Для этого пассеистского жаргона ха¬рактерны отнюдь не какие-либо конкретные требования, предъявляемые к способам рассуждения, и не аскети¬ческий отказ от всякой образности, что, например, имеет место в формальном языке логики (единственном языке, применительно к которому мы имеем право говорить о «ясности»), но лишь набор стереотипов, чья жеман¬ность и вычурность доходят подчас до крайности44, пристрастие к определенной округлости фразы, и, разу¬меется, неприятие некоторых слов, отвергаемых с ужа¬сом и насмешкой — подобно самозванцам, явившимся из какого-то чуждого и потому подозрительного мира. Во всем этом нетрудно разглядеть консервативную по¬зицию, состоящую в стремлении никак не менять внут-ренние перегородки и лексический состав языка: словно во времена золотой лихорадки (где золотом является сам язык), каждой дисциплине (понятие, на деле яв¬ляющееся сугубо факультативным) отводится небольшая языковая территория, терминологический золотоносный участок, за пределы которого выходить запрещается (так, философия, например, имеет право на свой жар¬гон). При этом, однако, территория, предоставленная критике, выглядит довольно странно: будучи совершенно особой как раз в силу того, что употребление посторон-
44 Пример: «Что за божественная музыка! Она побуждает вы¬бросить из сердца всякое недовольство, всякую досаду, вызванную некоторыми предыдущими сочинениями нашего Орфея, чья лира была тогда расстроена» и т. п. Все это, очевидно, должно означать, что новые «Мемуары» Мориака лучше старых (Piatier J., «Monde», 6 ноября 1965).
336
них слов на ней запрещено (так, словно критика распо¬лагает весьма скудными концептуальными потребно-стями), она тем не менее оказывается возведена в ранг универсального языка. Такая универсальность, на деле являющаяся воплощением всего общепринятого, основа¬на на подтасовке: вырастая из громадного числа вся¬кого рода привычек и запретов, она оказывается всего лишь еще одной специфической формой языка: такая универсальность есть всего лишь универсальность собст¬венников. Этот лингвистический нарциссизм можно вскрыть и другим путем: «жаргон» — это язык чужого человека; чужой (а не другой) человек — это тот, кем не являешься ты сам; отсюда и неприятное ощущение от его языка. Как только мы сталкиваемся с языком, отличным от языка нашего собственного коллектива, мы сразу же объявляем его бесполезным, пустым, бре¬довым 45, утверждаем, что им пользуются не в силу серьезных, а в силу каких-либо ничтожных или низмен¬ных причин (снобизм, зазнайство): так, например, од¬ному «археокритику» язык «неокритики» представляется таким же странным, как и идиш (подозрительное, кста¬ти сказать, сравнение46), на что можно было бы отве¬тить, что идишу учатся, как и любому другому языку 47. «Отчего не сказать то же самое, но только много про¬ще?» Сколько раз нам приходилось слышать эту фразу? Но сколько же раз мы будем вправе отвергнуть ее? Не станем говорить о некоторых откровенно забавных в своей эзотеричности говорах 48, но разве старая крити¬ка может утверждать, что свободна от всякого празд-нословия? Если бы я сам был старым критиком, то разве не вправе был бы попросить своих собратьев сказать просто: «Г-н Пируэ хорошо пишет по-французски» вмес-
45 Г-н де Норпуа, олицетворяющий собой старую критику, так говорит о языке Бергота: «Эта бессмысленная расстановка звучных слов, к которым уже потом подыскивается смысл» (Proust M. A la rechercne du temps perdu. P.: Pleide, I, p. 474).
46 Alberes R. M., «Arts», 15 дек. 1965 (Анкета о критике). Похоже, что будучи журналистом и преподавателем, г-н Альберес исключает из этого идиша язык газет и язык Университета.
47 В Национальной школе живых восточных языков.
48 «Рабочая программа для Трехцветных: создать структуру напа¬дения, в схватке отработать удары пяткой, пересмотреть проблему взятия города» («Equipe», 1 дек., 1965).
337
то того, чтобы изъясняться следующим образом: «Нуж¬но воздать должное перу г-на Пируэ, столь часто щеко¬чущему нас своими неожиданными и весьма удачно найденными выражениями»? Разве не вправе был бы я попросить их употребить обыкновенное слово «возмуще¬ние» вместо «сердечного жара, который накаляет перо, наносящее смертельные раны»? 49 В самом деле, что следует думать о пере, которое то накаляется, то приятно щекочет, а то и служит орудием убийства? Сказать по правде, такой язык может считаться ясным лишь в той мере, в какой на нем принято говорить.
В действительности же литературный язык старой критики безразличен для нас. Мы знаем, что старые критики смогли бы писать иначе лишь в том случае, если бы смогли мыслить иначе. Ведь писать уже зна¬чит определенным образом организовывать мир, уже значит думать о нем (научиться какому-либо языку значит узнать, как люди думают на этом языке). Вот почему бесполезно требовать от человека (хотя адепт критического правдоподобия упорно на этом настаи¬вает), чтобы он пере-писал свои мысли, коль скоро он не решился их пере-думать. Вы усматриваете в жаргоне новой критики лишь экстравагантную форму, прикры¬вающую тривиальность содержания: в самом деле, любой язык можно «упростить» путем уничтожения со¬ставляющей его системы, иначе говоря, путем упразд¬нения тех связей, которые и создают смысл слов; при таком подходе можно все что угодно «перевести» на доб¬ротный язык какого-нибудь Кризаля: к примеру, отчего бы не свести фрейдовское «сверх-я» к категории «нрав¬ственного сознания» классической психологии? Как? И это все? Да, это все, если, конечно, пренебречь всем остальным. В литературе не существует такого явления, как rewriting, поскольку писатель отнюдь не располагает неким до-языком с известным числом узаконенных кодов, откуда он мог бы подбирать для себя подходящие выражения (сказанное не означает, будто он избавлен от необходимости неустанно искать такие выражения). Ясность письма действительно существует, однако она
49 Simon Р. Н., «Monde», 1 дек. 1965, Piatier J., «Monde», 23 OKT. 1965.
338
имеет гораздо большее отношение к тому Мраку Чер¬нильницы, о котором говорил Малларме, чем к совре-менным стилизациям под Вольтера или под Низара. Ясность — это не атрибут письма, это само письмо, начиная с того момента, когда оно становится письмом, это блаженство письма, все то желание, которое таится в письме. Разумеется, знание границ той аудитории, в которой писатель будет принят, — это очень важная для него проблема; по крайней мере, он свободен в выборе этих границ, и если ему случается согласиться с их узостью, то именно потому, что писать отнюдь не значит вступать в легкий контакт с неким гипотетиче¬ским средним читателем, напротив — это значит вступать в трудный контакт с нашим собственным языком: по от¬ношению к собственному слову, которое и есть его исти¬на, у писателя гораздо больше обязательств, нежели по отношению к критику из «Насьон Франсэз» или из «Монд». «Жаргон» — это вовсе не способ покрасоваться перед публикой, на что столь недоброжелательно, хотя и тщетно нам намекают 50; «жаргон» — это воплощенное воображение (они в равной степени ошеломляют), он сродни метафорическому языку, в котором когда-нибудь ощутит потребность и собственно интеллектуальный дискурс.
Я защищаю здесь право на язык, а вовсе не на свой индивидуальный «жаргон». Да и могу ли я рас¬суждать о нем как о некоем объекте? Глубокое беспо¬койство (связанное с ощущением личностной самотож-дественности) вызывает сама мысль, что ты можешь владеть словом как вещью и что тебе необходимо защи¬щать эту вещь, словно какое-то добро, обладающее не зависимой от тебя сущностью. Да неужели же я су¬ществую до своего языка? И что же в таком случае представляет собой это я, будто бы владеющее язы-ком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию? Могу ли я пережить собственный язык как простой атрибут своей личности? Можно ли поверить, что я говорю потому, что я существую? Подобные иллю¬зии, на худой конец, возможны за пределами литера¬туры; однако литература как раз и не допускает их.
50 Picard R., op. cit., p. 52.
339
Запрет, налагаемый вами на все чужие языки, — это всего лишь способ самим себя исключить из литературы: отныне более невозможно, не должно быть возможно, как это было во времена Сен-Марка Жирардена 51, служить надсмотрщиком над искусством и вместе с тем претендовать на то, чтобы сказать о нем нечто.
Асимболия
Вот каким предстает в 1965 году адепт критического правдоподобия: о книгах надлежит говорить «объек-тивно», «со вкусом» и «ясно». Предписания эти роди¬лись не сегодня: последние два пришли к нам из класси¬ческого века, а первое — из эпохи позитивизма. Так возникла совокупность неких расплывчатых норм — наполовину эстетических (связанных с классической ка¬тегорией Прекрасного), а наполовину рациональных (связанных со «здравым смыслом»); тем самым был построен удобный мост между искусством и наукой, по¬зволяющий не находиться полностью ни там, ни здесь.
Указанная двойственность находит выражение в по¬следней теореме, которая, похоже, целиком владеет великой заповедальной мыслью старой критики, посколь¬ку она формулирует ее с неизменным благоговением; это — представление о необходимости уважать «специ¬фику» литературы 52. Названная теорема, подобно не¬большой военной машине, направлена против новой критики, обвиняемой в равнодушии ко всему «лите¬ратурному в литературе», в разрушении «литературы как особой реальности» 53; эта теорема, которую по¬стоянно повторяют, но никогда не доказывают, имеет очевидное, но неоспоримое преимущество, свойственное всякой тавтологии: литература — это литература; тем самым можно одновременно и вознегодовать на новую критику, бесчувственную ко всему, что, по решению адепта правдоподобия, есть в литературе Искусного,
51 Который предостерегал молодежь против «моральных иллюзий и путаницы», повсюду распространяемых «современными книгами».
52 Picard R., op. cit., p. 117.
53 Ibid., p. 104, 122.
340
Задушевного, Прекрасного и Человечного 54, и притвор¬но призвать критику к обновлению науки, которая займется-де, наконец, литературным объектом «в себе» и отныне уже ничем не будет обязана никаким другим наукам — ни историческим, ни антропологическим; меж¬ду тем от подобного «обновления» попахивает доволь¬но-таки старой плесенью: еще Брюнетьер примерно в тех же выражениях упрекал Тэна за излишнее пре¬небрежение к «самой сути литературы, иными словами, к специфическим законам жанра».
Попытка установить структуру литературных произ¬ведений — важная задача, и многие исследователи посвятили ей себя, правда, используя при этом методы, о которых старая критика и не заикается; и это естест¬венно, поскольку, притязая на изучение структур, она в то же время не хочет быть «структуралистской» (слово, вызывающее раздражение и подлежащее «из¬гнанию» из французского языка). Разумеется, крити¬ческое прочтение произведения должно осуществляться на уровне самого произведения; однако при этом, с од¬ной стороны, остается неясным, каким образом, устано¬вив известные формы, мы сможем избежать последую¬щей встречи с содержанием, коренящимся либо в исто¬рии, либо в человеческой психее, короче, в тех вне-литературных факторах, от которых старая критика хочет откреститься любой ценой; с другой стороны, цена структурного анализа произведения намного выше, чем можно подумать. Ведь если оставить в стороне изящную болтовню по поводу замысла произведения, такой ана¬лиз можно осуществить, лишь исходя из определенных логических моделей: в самом деле, о специфике лите¬ратуры можно говорить лишь после того, как послед¬няя будет включена в некую общую теорию знаковых систем; чтобы получить право на защиту имманентного прочтения произведения, нужно предварительно знать, что такое логика, история, психоанализ; короче, чтобы вернуть произведение литературе, следует сначала вый-ти за ее пределы и обратиться к культурной антропо¬логии. Сомнительно, чтобы старая критика была к
«...Абстракции этой новой критики, бесчеловечной и антилитера¬турной» («Revue parlementaire», 15 ноября 1965).
341
этому готова. Похоже, что она стремится к защите сугубо эстетической специфики произведения; она хочет отстоять в нем некую абсолютную ценность, не запятнанную множеством презренных «внелитературных факторов», каковыми являются история или глубины нашей психеи: старая критика жаждет отнюдь не ор-ганизованного, но чистого произведения, свободного как от компромисса с внешним миром, так и от неравного брака с внутренними влечениями человека. Модель сего целомудренного структурализма имеет просто-напросто этическую природу.
«О богах, — советовал Деметрий Фалерский, — говори, что они боги». Окончательное требование адепта кри¬тического правдоподобия носит тот же характер: о ли¬тературе говори, что она литература. Эта тавтология от¬нюдь не безобидна: сначала делают вид, будто о литера¬туре можно что-то говорить, то есть превращать ее в объект высказывания, но затем это высказывание тут же и пресекают, ибо оказывается, что сказать-то об этом объекте совершенно нечего помимо того, что он является самим собой. И действительно, адепт кри¬тического правдоподобия в конце концов приходит либо к молчанию, либо к его субституту — праздно¬словию: изящная болтовня — еще в 1921 году говорил Роман Якобсон об истории литературы. Будучи пара¬лизован множеством запретов, которых требует «уваже¬ние» к произведению (предполагающее сугубо бук¬вальное понимание текста), адепт критического правдо¬подобия с трудом может даже приоткрыть рот: сквозь все его многочисленные табу способен просочиться лишь тоненький словесный ручеек, позволяющий ему за¬явить о правах социальных институтов в отношении мертвых писателей. Что же до возможности надстроить свое собственное слово над словом произведения, то адепт правдоподобия лишает себя необходимых для этого средств, поскольку не желает идти на соответст¬вующий риск.
В конце концов замолчать — значит дать понять, что намереваешься покинуть собеседника. Отметим же на прощание неудачу, которую потерпела старая критика. Коль скоро ее объектом является литература, она могла бы заняться выяснением условий, делающих возможным
342
существование литературного произведения, набросать основания если и не науки, то хотя бы техники литера¬турного анализа; однако же она предоставила заботу — и хлопоты — об этом самим писателям, которые — от Малларме до Бланшо — к счастью, не отказались от по¬добной задачи: эти писатели всегда признавали, что язык составляет самую плоть литературы, и, таким образом, на свой лад также продвигались к объектив¬ной истине своего искусства. По крайней мере можно было бы дать свободу критике (не являющейся наукой и не претендующей на этот статус) с тем, чтобы она рас¬крыла нам смысл, который современный человек спосо¬бен придать произведениям прошлого. Неужели же мож¬но поверить, что Расин затрагивает нас «сам по себе», силой одних только буквальных значений своего текста? Скажите серьезно, какое может быть нам дело до театра «неистовых и целомудренных страстей»? Что может сказать нашему современнику выражение «гордый и благородный владыка»? 55 Вот уж поистине странный язык! Нам говорят о «мужественном» герое, но при этом не допускают ни малейшего намека на его пол; попав в контекст какой-нибудь пародии, подобное вы¬ражение вызвало бы смех; так, впрочем, и происходит, когда мы встречаем его в «Письме Софокла к Расину», сочиненном Жизелью, подругой Альбертины, во время подготовки к выпускному экзамену («этим характерам свойственна мужественность») 56. Впрочем, чем же и за¬нимались Жизель и Андре, как не старой критикой, когда, в связи с тем же Расином, они рассуждали о «трагическом жанре», об «интриге» (вот они — «законы жанра»), о «хорошо построенных характерах» (а вот и «требования психологической связности»), замечая попутно, что «Гофолия» — это вовсе не «любовная трагедия» (сходным образом нам указывают, что «Андромаха» — это вовсе не патриотическая драма), и т. п.57 Критический словарь, от имени которого нам
55 Picard R., op. cit., p. 34, 32.
56 Proust М. A la Recherche du temps perdu. P.: Pleiade, I, p. 912.
57 Piсard R., op. cit., p. 30. Я, конечно, никогда не делал из «Андромахи» патриотической драмы; подобные жанровые определения меня отнюдь не занимали (что и послужило поводом для упреков в мой адрес). Я говорил лишь о фигуре Отца в «Андромахе» — не более того.
343
предъявляют упреки, оказывается словарем барышни, готовившейся к выпускным экзаменам три четверти века тому назад. Между тем с тех пор мы познакоми¬лись с Марксом, Фрейдом, с Ницше. Позже Люсьен Февр и Мерло-Понти заявили о нашем праве постоянно переделывать историю истории, историю философии та¬ким образом, чтобы объект прошлого оставался при этом целостным объектом. Почему же не прозвучит наконец голос, который заявит, что литература также имеет подобное право? Молчание старой критики и ее неудачу можно если не объяснить, то по крайней мере описать другими словами. Старый критик является жертвой того хорошо известного исследователям языка состояния, которое называется асимболией58; в этом состоянии человек не способен ни воспринимать сим¬волы, то есть совокупность сосуществующих смыслов, ни оперировать ими; как только подобный больной выходит за тесные рамки сугубо рационального ис¬пользования языка, символическая функция, обладаю¬щая весьма широким диапазоном и позволяющая лю¬дям конструировать идеи, образы и произведения, ока¬зывается нарушенной, подвергнутой ограничениям или цензуре.
Разумеется, о литературном произведении можно рассуждать, вовсе не прибегая к понятию символа. Это зависит от избранной точки зрения; о ней надо только объявить. Не касаясь здесь литературы как не-объятного социального института, порожденного историеи 59, и держась лишь отдельного произведения, можно считать очевидным, что если мне приходится говорить об «Андромахе» с точки зрения рецептов ее сценической постановки или же о рукописях Пруста с точки зрения той роли, которую играют в них помарки, то мне, действительно, нет надобности верить или не ве¬рить в символическую природу литературных произведе-
58 Несаen H. et Angelergues R. Pathologie du langage. Larousse, 1965, p. 32.
59 Ср. «О Расине» («История или литература?», с. 220 и cл. наст. сб.).
344
ний: ведь и афатик способен великолепно плести кор¬зины или столярничать. Однако как только мы захотим изучить произведение как таковое, как конституиро¬ванное целое, окажется невозможным не выдвинуть самых широких требований, связанных с его символи¬ческим прочтением.
Именно это и сделала новая критика. Все знают, что вплоть до сегодняшнего дня она работала совер¬шенно открыто, исходя из представления о символичес¬кой природе произведения, а также учитывая явле¬ние, которое Башляр назвал вероломством образа. Между тем никому из тех, кто навязывал новой критике полемику, даже и на минуту не пришло в голову, что символы-то и могли стать предметом обсуждения и что, следовательно, спорить надо о свободе и границах от¬крыто заявленной символической критики: нам говори¬ли о безраздельных правах буквы, и никто ни разу не предположил, что символ также может обладать своими правами, причем правами, отнюдь не сводимыми к нескольким второстепенным свободам, которые буква соблаговолила оставить символу. Исключает ли буква символ или же, наоборот, допускает его? Несет ли произведение буквальный или символический смысл — означает «буквально, а также и во всех прочих смыс¬лах», говоря словами Рембо 60? Вот каков мог быть пред¬мет спора. В предисловии к книге «О Расине» я спе¬циально отметил, что весь критический разбор, пред¬принятый в ней, основан на определенной логике сим¬волов. Следовало либо в целом оспорить факт сущест¬вования или даже возможности существования такой логики (это, по крайней мере, создало бы так назы¬ваемую «почву для дискуссии»), либо показать, что автор книги «О Расине» не сумел как следует исполь¬зовать правила этой логики, что он охотно признал бы, особенно два года спустя после выхода этой книги и через шесть лет после ее написания. Нам дают весьма странный урок чтения, когда спорят против каждого конкретного места в книге, ни разу не обмолвившись
Рембо писал матери, не понявшей «Лето в аду»: «Я хотел сказать то, что сказал, — буквально, а также и во всех прочих смыслах» (?uv¬res completes. P.: Pleiade, p. 656).
345
о том, уловлена ли ее общая идея, или, проще говоря, ее смысл. Старый критик во многом напоминает тех «дикарей», о которых рассказывает Омбредан: впервые увидев кинофильм, они не заметили в показанной им сцене ничего, кроме курицы, бежавшей через деревен¬скую площадь. Нет никаких причин наделять, букву абсолютной властью, а затем, ни слова не говоря, от¬вергать любой символ во имя принципа, который к символам вообще неприложим. Неужели же вы станете упрекать китайца (раз уж новая критика представляется вам каким-то чужеземным языком) за то, что, говоря по-китайски, он делает ошибки во французской грам¬матике?
Однако откуда же в конце концов взялась эта глу¬хота к символам, эта асимболия? Какую угрозу таит в себе символ? Почему множественный смысл, будучи основой всякой книги, ставит под угрозу слово по поводу этой книги? И почему, спросим еще раз, это происходит именно сегодня?
II
Нет ничего более важного для общества, чем тот способ, каким оно классифицирует свои языки. Изменить этот способ, сместить слово — значит совершить револю¬цию. Если на протяжении целых двух столетий француз¬ский классицизм определялся самим фактом разгороженности, иерархической организации и неподвижности составлявших его типов письма, то романтическая революция подорвала саму идею классификации. Далее, вот уже в течение ста лет, то есть, очевидно, со времен Малларме, в нашей литературе происходит как бы перераспределение мест; процесс обмена, взаимопро¬никновения и консолидации протекает внутри двойст¬венной — поэтической и критической — функции пи¬сьма 61, дело не только в том, что отныне многие пи¬сатели сами занимаются критикой, но и в том, что не¬редко их творчество как таковое начинает свидетель¬ствовать об обстоятельствах ее рождения (Пруст) или
61 Ср.: Genette Gerard. Rhetorique et enseignement au XXe siecle — In: Genette G. Figures II. P.: Seuil, 1969.
346
ее отсутствия (Бланшо). Один и тот же язык стремится распространиться по всем уголкам литературы и даже встать за своей собственной спиной; книга оказывается захваченной с тыла тем самым человеком, который ее пишет; отныне нет больше ни поэтов, ни романистов, существует одно только письмо 62.
Кризис Комментария
Но вот возникает встречный процесс, приводящий к тому, что критик в свою очередь становится писателем. Разумеется, желание быть писателем — это не претензия на определенный статус в обществе, а бытийная устрем¬ленность. Какое нам дело, что считается более пре¬стижным — положение романиста, поэта, эссеиста или репортера. Писатель определяется не в социально-ро¬левых или оценочных категориях, но исключительно через свойственное ему сознание слова. Писатель — это человек, которому язык является как проблема и который ощущает глубину языка, а вовсе не его инст¬рументальность или красоту. Вот почему на свет по¬явились критические работы, требующие тех же самых способов прочтения, что и собственно литературные произведения, несмотря на то, что их авторы являются критиками, а отнюдь не писателями. Если новая кри¬тика и впрямь существует, то реальность этого сущест¬вования — не в единстве ее методов и тем более не в снобизме, на котором, как охотно утверждают, она держится, но в самом одиночестве критического акта, который — отметая алиби, предоставляемые наукой или социальными институтами, — утверждает себя именно как акт письма во всей его полноте. Если старый истре¬панный миф противопоставлял писателя критику как «величавого творца его смиренному служителю, каж¬дый из которых необходим на своем месте», и т. п., то ныне они воссоединяются, разделяя общую нелегкую судьбу перед лицом общего для них объекта — языка.
62 «Поэзия, романы, новеллы — все это курьезные древности, не способные больше обмануть никого или почти никого. Поэмы, расска¬зы — зачем это все нужно? Отныне нет ничего, кроме письма». Л e Клезио Ж. М. Г. (предисловие к «Лихорадке»).
347
Это нарушение субординации, как можно было убе¬диться, встречает нетерпимое к себе отношение. Тем не менее, хотя правомерность такого нарушения все еще приходится отстаивать, похоже, что уже грядет, что на горизонте уже маячит новая перестройка: теперь уже не только критика предпринимает то «путешествие сквозь письмо» 63, которое, быть может, останется ха¬рактерной приметой нашего времени; в это путешествие оказывается вовлечен весь интеллектуальный дискурс как таковой. Еще четыре столетия назад Игнатий Лойола, основатель ордена, более всего способствовавшего развитию риторики, создал в «Духовных упражнениях» модель драматизированного дискурса, подчиненного иной власти, нежели власть силлогизмов или абстракт¬ных понятий, что, со свойственной ему проницатель¬ностью, не преминул отметить Жорж Батай 64. С тех пор в творчестве таких писателей, как, например, Сад или Ницше, правила интеллектуального дискурса перио¬дически подвергаются «сожжению» (в обоих смыслах этого слова). Похоже, что и ныне проблема открыто сводится именно к этому. Интеллект начинает приоб¬щаться к новой логике, он вступает в необжитую об¬ласть «внутреннего опыта»: одна и та же истина, объеди¬няющая романическое, поэтическое и дискурсивное сло¬во, пускается на поиски самой себя, ибо отныне она является истиной слова как такового. Когда говорит Жак Лакан 65, то он осуществляет тотальное вторжение образа в сферу речи — образа, вытесняющего традици¬онную абстрактность понятий, так что конкретный пример становится неотделим от иллюстрируемой им мысли, а само слово оказывается воплощенной истиной. На другом полюсе стоит книга Клода Леви-Стросса «Сырое, и вареное», которая также порывает с привыч-
63 Sollers Philippe. Dante et la traversee de l'ecriture. — «Tel Quel», № 23, automne 1965.
64 «...Здесь перед нами раскрывается второй смысл слова "драма¬тизировать"; это — проникающее в дискурс стремление вырваться за пределы обычного изложения мысли, всей оголенной плотью почувство¬вать пронизывающий холод ветра... В данном отношении классической ошибкой является отнесение „Упражнений" св. Игнатия к дискурсивному методу» (L'experience interieure. P.: Gallimard, 1954, p. 26).
65 На своем семинаре в Практической школе высших знаний.
348
ным представлением о «развитии» мысли и предлагает новую риторику, основанную на принципе варьирования, тем самым возлагая на форму такую ответственность, которая — в области гуманитарных наук — для нас весьма непривычна. Нет сомнения, что в области дис¬курсивной речи происходит в настоящее время процесс трансформации, сближающий критика с писателем: мы вступаем в эпоху общего кризиса Комментария — кризиса, быть может, столь же значительного, как и тот, которым, приблизительно в той же области, был отмечен переход от средних веков к Возрождению.
В самом деле, этот кризис становится неизбежен с момента открытия (или повторного открытия) симво-лической природы языка либо, если угодно, лингви¬стической природы символа. Это-то как раз и происхо-дит сейчас в результате совокупных усилий психоанализа и структурализма. В течение длительного времени классическое буржуазное общество усматривало в слове либо инструмент, либо украшение: ныне же мы видим в нем знак и воплощение истины. Вот почему все, к чему только прикасается язык, — философия, гуманитарные науки, литература — в определенном смысле оказывается заново поставлено под вопрос.
Несомненно, это и есть та проблема, в рамки кото¬рой должен быть перенесен и вопрос о литературной критике, та ставка, куда и критика входит составной частью. Каковы отношения между произведением и языком? Если произведение символично, то каких правил прочтения оно требует? Возможно ли существование науки о письменно зафиксированных символах? Может ли быть символическим язык самого критика?
Множественный язык
Жанр интимного Дневника был рассмотрен социо¬логом Аленом Жираром и писателем Морисом Бланшо с двух весьма различных точек зрения 66. Для Жирара Дневник — это способ запечатления известного числа социальных, семейных, профессиональных и т. п. об-
66 Girard Alain. Le Journal intime. P.: P. U. F., 1963; B l a n с h o t Maurice. L'Espace litteraire. P.: Gallimard, 1955, p. 20.
349
стоятельств; для Бланшо — это мучительный способ отсрочить неминуемое одиночество, на которое обрекает письмо. Таким образом, Дневник несет в себе по мень¬шей мере два смысла, каждый из которых правомерен в силу того, что обладает внутренней связностью. Это самое обычное явление, и примеры ему можно найти как в истории критики, так и в самой изменчивости прочтений, которые способно породить одно и то же произведение; подобные факты по меньшей мере сви¬детельствуют о том, что произведение обладает несколь¬кими смыслами. В самом деле, любая эпоха может во¬ображать, будто владеет каноническим смыслом произ¬ведения, однако достаточно немного раздвинуть гра¬ницы истории, чтобы этот единственный смысл превра¬тился во множественный, а закрытое произведение — в открытое 67. При этом меняется само определение произведения: отныне оно оказывается уже не истори¬ческим, а антропологическим явлением, поскольку никакая история не в силах его исчерпать. Сказанное означает, что разнообразие смыслов проистекает отнюдь не от релятивистского взгляда на человеческую натуру; оно свидетельствует не о склонности общества к за¬блуждению, а о предрасположенности произведения к открытости; произведение разом содержит в себе несколько смыслов в силу своей структуры, а не в силу ущербности тех людей, которые его читают. Именно в этом и состоит его символичность: символ — это не образ, это сама множественность смыслов 68.
67 См.: Eco Umberto. L'?uvre ouverte. P.: Seuil, 1965.
68 Мне, конечно, известно, что в семиологии слово символ имеет совершенно иной смысл; там, напротив, символическими считаются системы, в которых «можно установить такую форму, где каждой единице выражения взаимно-однозначно соответствует определенная единица содержания»; эти системы отличаются от семиотических систем (язык, сновидения), где необходимо «постулировать две различных формы — одну для плана выражения, а другую для плана содержа¬ния, — не предполагающих соответствия между ними» (Ruwet N. La Linguistique generale aujourd'hui. — «Arch, europ. de Sociologie», V (1964), p. 287. Очевидно, что, согласно этому определению, символы принадлежат не области символики, а области семиотики. Однако пока что я сохраню за словом символ тот общий смысл, который придает ему П. Рикёр и который удовлетворяет моим дальнейшим рассуждениям («Символ имеет место там, где язык создает сложно организованные знаки и где смысл, не довольствуясь указанием на предмет, одновременно указывает и на другой смысл, способный раскрыться только внутри и через посредство первого смысла» (De l'interpretation, essai sur Freud. P.: Seuil, 1965, p. 25).
350
Символ устойчив. Меняться может лишь осознание его обществом, равно как и права, которыми общество его наделяет. В средние века символическая свобода была не только узаконена, но в известном отношении даже кодировалась, как это видно из теории четырех смыслов 69; напротив, классическое общество обычно приспосабливалось к этой свободе с немалым трудом; оно либо игнорировало эту свободу, либо подвергало ее контролю (что, кстати сказать, имеет место и в современных пережиточных формах такого общества): история символов и их свободы нередко оказывается историей насилия над ними, и, конечно же, в этом тоже есть свой смысл: символы не позволяют цензуровать себя безнаказанно. Как бы то ни было, это уже инсти¬туциональная, а не структуральная, если можно так выразиться, проблема; что бы ни воображали и ни декретировали те или иные общества, произведение преодолевает их границы, проходит сквозь них напо¬добие формы, которую поочередно наполняют более или менее возможные, исторические смыслы: произведе¬ние «вечно» не потому, что оно навязывает различным людям некий единый смысл, а потому, что внушает различные смыслы некоему единому человеку, который всегда, в самые различные эпохи, говорит на одном и том же символическом языке: произведение предлагает, человек располагает.
Всякий читатель — если только он не позволяет цен¬зуре буквы запугать себя — знает об этом: разве не чувствует он, что вступает в контакт с неким запре¬дельным по отношению к тексту миром — так, словно первичный язык произведения взращивает в нем какие-то другие слова и учит говорить на некоем вторичном языке? Это называется: грезить. Однако и в грезах, по выражению Башляра, проложены свои маршруты, которые расстилает перед словом вторичный язык произ-
69 Буквальный, аллегорический, моральный и анагогический. Само собой разумеется, что при этом существовало русло, по которому все смыслы устремлялись к анагогическому.
351
ведения. Литература — это способ освоения имени: всего из нескольких звуков, составляющих слово Гер-манты, Пруст сумел вызвать к жизни целый мир. В глу¬бине души писатель всегда верит, что знаки не произ-вольны, что имя присуще каждой вещи от природы: писатели держат сторону Кратила, а не Гермогена. Это значит, что мы должны читать тем же способом, каким пишем: лишь в этом случае мы окажемся способ¬ны «восхвалить» литературу («восхвалить» — значит «об¬наружить в существе восхваляемого»); ведь если бы у слов был только один смысл — тот, который указан в словаре, — если бы вторичный язык не оказывал возму¬щающего, раскрепощающего воздействия на «достовер¬ные факты языка», не было бы и литературы 70. Вот почему правила чтения произведения — это не правила, диктуемые буквой, а правила, диктуемые аллюзией; это не филологические, а лингвистические правила 71. В самом деле, задача филологии — в установлении буквального смысла высказывания, однако ей совершен¬но неподвластны его вторичные смыслы. Напротив, линг¬вистика стремится не к устранению языковых двусмы¬сленностей, но к их пониманию, и, если можно так вы¬разиться, к их институированию. Явление, с давних вре¬мен известное поэтам под названием суггестии, или внушающей силы слова, ныне начинает привлекать и внимание лингвистов, которые пытаются придать науч¬ный статус самой переливчатости смыслов. Роман Якоб¬сон особо настаивал на том, что множественность
70 Малларме: «Насколько я Вас понимаю, — писал он Франсису Вьеле-Гриффену, — Вы связываете привилегированное положение поэта как творца с несовершенством того инструмента, которым он вынужден пользоваться; если бы существовал некий язык, способный адекватно передать его мысль, он уничтожил бы литератора, которому пришлось бы называться „господин Первый Встречный"» (цит. по.: Ri¬chard J. P. L'univers imaginaire de Mallarme. P.: Seuil, 1961, p. 576).
71 Не так давно новую критику неоднократно упрекали в том, что она препятствует выполнению педагогических задач, сводящихся, по-видимому, к тому, чтобы научать читать. Со своей стороны, старая риторика претендовала на то, чтобы научить писать: она устанавлива¬ла правила творчества (подражания), а не правила восприятия. Можно спросить себя: не умаляем ли мы роли чтения, обособляя свойственные ему правила? Умение хорошо читать потенциально предполагает умение хорошо писать, иными словами: писать в соответствии с логикой символа.
352
смысла обычна для поэтического (литературного) сооб¬щения; это отнюдь не значит, что подобная многосмыс¬ленность вытекает из известной эстетической концепции, утверждающей «свободу» в истолковании текста, в еще меньшей степени она предполагает моральный контроль над вытекающими отсюда опасностями; это значит, что подобную многосмысленность можно сформулировать в категориях кода: символический язык, на котором пишут¬ся литературные произведения, по самой своей структуре является языком множественным, то есть языком, код которого построен таким образом, что любая порождае¬мая им речь (произведение) обладает множеством смыс¬лов. Подобная предрасположенность свойственна уже языку в собственном смысле слова, содержащему гораздо больше неопределенности, чем принято думать; этим явлением как раз и начинает заниматься лингвистика 72. Тем не менее неоднозначность практического языка — ничто по сравнению с многосмысленностью языка лите¬ратурного. В самом деле, двусмысленности практического языка устранимы за счет самой ситуации, в рамках которой они появляются: любой, пусть даже самой не¬однозначной фразе всегда сопутствует нечто, лежащее вне ее (контекст, жест, воспоминание) и подсказывающее нам, каким образом мы должны ее понимать, коль скоро хотим практически использовать сообщаемую инфор¬мацию; смысл становится ясным благодаря внешним условиям, в которых находится текст.
Ничего подобного не происходит с произведением: оно лишено для нас внешних условий, и, быть может, это-то и определяет его лучше всего — оно не окружено, не обозначено, не предохранено, не ориентировано какой бы то ни было ситуацией; здесь отсутствует жизнь конкретного индивида, которая могла бы подсказать, каким именно смыслом следует наделить произведение. В нем всегда есть нечто от цитаты — неоднозначность явлена в нем в чистом виде: сколь бы пространным ни было произведение, ему непременно свойственна какая-то пророческая лаконичность, оно состоит из слов, соответ-
72 См.: Greimas A. J. Cours de Semantique, в особенности гл. VI об Изотопии дискурса (Курс, размноженный на ротаторе в Практической школе высших знаний в Сен-Клу, 1964).
353
ствующих первичному коду (ведь и Пифия не говорила несуразностей), и в то же время пребывает открытым навстречу сразу нескольким смыслам, ибо слова эти были произнесены вне контекста, образованного той или иной ситуацией, если не считать ситуацию самой многосмысленности: ситуация, в которой находится произведение, это всегда пророческая ситуация. Разумеется, привнося свою ситуацию в совершаемый мною акт чтения, я тем самым могу устранить многосмысленность произведения (что обычно и происходит); однако, всякий раз меняясь, ситуация формирует произведение, но отнюдь его не обнаруживает: с того момента, как я сам подчиняюсь требованиям символического кода, лежащего в основе произведения, иными словами, выказываю готовность вписать свое прочтение в пространство, образованное символами, — с этого момента произведение оказывается неспособным воспротивиться тому смыслу, которым я его наделяю; однако оно не может и установить подлинность этого смысла, поскольку вторичный код произведения имеет не предписывающий, а ограничительный характер: он очерчивает смысловые объемы произведения, а не его смысловые границы; он обосновывает многосмыслен¬ность, а не один какой-нибудь смысл.
Именно потому, что произведение изъято из какой бы то ни было ситуации, оно и позволяет осваивать себя; для того, кто пишет или читает такое произведе¬ние, оно превращается в вопрос, заданный языку, чью глубину мы стремимся промерить, а рубежи — прощу¬пать. В результате произведение оказывается воплоще¬нием грандиозного, нескончаемого дознания о словах 73. Обычно символ принято считать свойством одного только воображения. Между тем символ обладает еще и крити¬ческой функцией, и объектом такой критики оказывается не что иное, как сам язык. Можно вообразить себе, что Критики Разума, которые дала нам философия, будут дополнены Критикой Языка, и этой критикой ока¬жется сама литература.
Итак, если верно, что произведение, в силу самой своей структуры, обладает множественным смыслом, то
73 Дознание писателя о языке: эта тема была выделена и рассмот¬рена Мартой Робер применительно к Кафке (см. ее книгу: Kafka. P.: Gallimard, «Bibliotheque ideale», 1960).
354
это значит, что оно порождает существование двух различных видов дискурса: с одной стороны, можно нацелиться разом на все смыслы, которые оно объемлет, иными словами, на тот полый смысл, который всем им служит опорой, а с другой — лишь на какой-нибудь один из этих смыслов. Эти два дискурса ни в коем случае не следует смешивать, ибо различны как их объекты, так и полномочия, которыми они располагают. Можно пред¬ложить назвать наукой о литературе (или о письме) тот общий дискурс, объектом которого является не какой-либо конкретный смысл произведения, но сама множе¬ственность этих смыслов, а литературной критикой — другой дискурс, который открыто, на свой страх и риск, возлагает на себя задачу наделить произведение тем или иным смыслом. Однако этого разграничения недостаточ¬но. Поскольку акт наделения смыслом может осуществить¬ся не только посредством письма, но и в полном без-молвии, мы станем отличать чтение произведения от его критики: чтение имеет непосредственный характер, крити¬ка же опосредована неким промежуточным языком, ка¬ковым и является письмо самого критика. Итак, Наука, Критика и Чтение — вот те три типа дискурса, которые нам необходимо рассмотреть, чтобы сплести вокруг про¬изведения его языковой венок.
Наука о литературе
Мы располагаем историей литературы, но у нас нет науки о литературе, и причина этого, несомненно, в том, что до сих пор нам не удавалось в полной мере уяснить природу литературного объекта, являющегося объектом, существующим в письме. Однако если мы согласимся допустить (и извлечь из такого допущения соответствую¬щие выводы), что произведение является продуктом письма, сразу же возникнет возможность появления определенной науки о литературе. Если подобная наука однажды возникнет, то ее цель не сможет состоять в навязывании произведению одного какого-нибудь смысла, во имя которого она присвоит себе право отвергать все остальные смыслы: в таком случае она попросту скомпро¬метирует себя (как это и бывало вплоть до настоящего времени). Подобная наука сможет быть не наукой о
355
содержаниях (последние подвластны только самой стро¬жайшей исторической науке), но лишь наукой об усло¬виях существования содержания, иначе говоря, наукой о формах: в первую очередь ее будут интересовать смысло¬вые вариации, порождаемые и, если так можно выразить¬ся, способные порождаться произведением: объектом ее интерпретации станут не символы, но только их поли¬валентность; короче, не полнота смыслов произведения, но, напротив, тот пустой смысл, который всем им служит опорой.
Очевидно, что модель такой науки будет носить лингвистический характер. Будучи не в силах охватить все фразы данного языка, лингвист довольствуется тем, что строит гипотетическую модель описания, на основе которой получает возможность объяснить, каким образом порождается бесконечное число фраз этого языка 74. Каковы бы ни были возможные здесь уточнения, в прин¬ципе нет никаких препятствий к тому, чтобы попытаться применить подобный метод к литературным произведе¬ниям: эти произведения сами подобны громадным «фра¬зам», построенным на базе общего для них языка симво¬лов путем набора упорядоченных трансформаций или, в более общем смысле, путем применения известной знаковой логики, которая как раз и подлежит описанию. Иными словами, лингвистика способна дать литературе ту самую порождающую модель, которая составляет принцип всякой науки, поскольку в любом случае дело идет о том, чтобы, располагая некоторым числом правил, уметь объяснить некоторые результаты. Таким образом, цель науки о литературе будет состоять не в том, чтобы показать, почему тот или иной смысл должен быть при¬нят или даже почему он был принят (это, повторяем, дело историка), а почему он приемлем — приемлем не с точки зрения филологических правил, диктуемых бук¬вой, но с точки зрения лингвистических правил, диктуе¬мых символом. Таким образом, здесь, на уровне науки о дискурсе, мы вновь обнаруживаем задачу новейшей лингвистики, состоящую в описании грамматичности фразы, а вовсе не ее значения. Точно так же наука о
74 Я, разумеется, имею здесь в виду работы Н. Хомского и положе¬ния, выдвинутые трансформационной грамматикой.
356
литературе попытается описать приемлемость произведе¬ний, а не их смысл. Она станет систематизировать сово¬купность возможных смыслов не в качестве некоей неподвижной упорядоченности, но как отпечатки громад¬ной «операциональной» (ибо она позволяет создавать произведения) диспозиции, расширяющейся от автора к обществу. Наряду с языковой способностью, постули¬рованной Гумбольдтом и Хомский, человек, возможно, обладает еще и литературной способностью, речевой энергией, которая не имеет ничего общего с его «гением», так как она заключена не во вдохновении и не в индиви¬дуальных волевых устремлениях, а в правилах, сформи¬ровавшихся за пределами авторского сознания. Мифиче¬ский голос музы нашептывает писателю не образы, не идеи и не стихотворные строки, а великую логику симво¬лов, необъятные полые формы, позволяющие ему гово¬рить и действовать.
Нетрудно себе представить, на какие жертвы подоб¬ная наука обречет человека, которого мы любим (или утверждаем, что любим в своих рассуждениях о лите¬ратуре) и которого именуем обычно автором. И все же: каким образом могла бы наука говорить о некоем отдель¬но взятом авторе? Наука о литературе способна лишь сблизить литературное произведение — вопреки тому, что под ним стоит подпись, — с мифом, под которым подобной подписи нет 75. Как правило (по крайней мере так обстоит дело сегодня), мы склонны полагать, что писатель владеет всеми правами на смысл своего произ¬ведения и в его власти определять правомерность этого смысла; отсюда — нелепые вопросы, с которыми критик обращается к умершему писателю, к его жизни, к различ¬ным свидетельствам о его замыслах, чтобы тот сам удо¬стоверил идею своего произведения: мы во что бы то ни стало желаем заставить заговорить мертвеца или то, что может сказать за него, — эпоху, жанр, словарный фонд эпохи, короче, всю современность писателя, к кото-рой, метонимически, переходят права на его творчество.
75 «Миф — это высказывание, по всей видимости, не имеющее фактического отправителя, который взял бы на себя ответственность за его содержание и предъявил права на его смысл; следовательно, это загадочное высказывание» (S e b a g L. Le mythe: code et message. — «Temps modernes», mars 1965).
357
Но бывает и хуже — когда, например, нас специально просят подождать смерти писателя, чтобы наконец-то получить возможность говорить о нем «объективно»; любопытная перестановка: оказывается, произведение следует трактовать как точный факт именно с того мо¬мента, когда оно приобретает черты мифа.
Роль смерти состоит в другом: она ирреализует подпись автора и превращает произведение в миф — тщетны будут всякие попытки истины, заключенной в различных историях о писателе, сравняться с истиной, заключенной в символах 76. Народному мироощущению хорошо знакомо это чувство: мы ходим в театр не для того, чтобы посмотреть то или иное «произведение Ра¬сина», а «на Расина», подобно тому, как ходим в кино «на боевик» — так, словно в известные дни недели мы, по своему желанию, вкушаем понемногу от плоти некоего обширного мифа и тем утоляем свой голод; мы ходим не на «Федру», а «на Берма в „Федре"», точно так же, как читаем Софокла, Фрейда, Гёльдерлина и Киркегора в «Эдипе» или в «Антигоне». И мы пребываем в истине, поскольку не позволяем мертвому хватать живого, по¬скольку освобождаем произведение от давления автор¬ской интенции и тем самым вновь обретаем мифологи¬ческий трепет его смыслов. Стирая авторскую подпись, смерть устанавливает истину произведения, которая есть не что иное, как таинство. Разумеется, к «цивилизован¬ному» произведению нельзя подходить с теми же мерками, что и к мифу в этнологическом смысле слова: разница, однако, заключается не столько в наличии или отсутст¬вии подписи под сообщением, сколько в самой его суб¬станции: современные произведения — это писанные произведения, что накладывает на них смысловые ограни¬чения, неведомые устному мифу — в них нам приходится иметь дело с мифологией письма; объектом такой мифо¬логии станут не детерминированные произведения (то есть не такие, которые вписаны в процесс детерминации, имеющий своим источником некую личность — автора),
76 «Причина того, что потомки судят о человеке более справедливо, нежели его современники, заключается в смерти. Лишь после смерти мы вольны развиваться свободно». (Kafka F. Preparatifs de noce a la campagne. P.: Gallimard, 1957, p. 366).
358
a произведения, как бы пронизанные тем великим мифологическим письмом, где человечество опробует создаваемые им значения, иначе говоря, испытываемые им желания.
Таким образом, нам придется по-новому взглянуть на сам объект литературной науки. Автор, произведение — это всего лишь отправная точка анализа, горизонтом которого является язык: отдельной науки о Данте, о Шекспире или о Расине быть не может; может быть лишь общая наука о дискурсе. В ней вырисовываются две большие области в соответствии с характером знаков, которые станет изучать эта наука; первая включает в себя знаки, подначальные фразе, такие, например, как риторические фигуры, явления коннотации, «семантиче¬ские аномалии» и т. п., короче, все специфические единицы литературного языка в целом; вторая же зай¬мется знаками, превышающими по размерам предложе¬ние; такими частями дискурса, которые позволяют объ¬яснить структуру повествовательного произведения, поэтического сообщения, дискурсивного текста 78 и т. п. Очевидно, что крупные и мелкие единицы дискурса связа¬ны между собой отношением интеграции, подобным тому, какое существует между фонемами и словами, между словами и предложениями; при этом, однако, все они образуют самостоятельные уровни описания. Подобный подход позволит подвергнуть литературный текст точно-
77 Тоdorov T. Les anomalies semantiques. — «Langages», 1966, № 1
78 Структурный анализ повествовательных текстов привел в настоя¬щее время к появлению ряда предварительных исследований, осуще¬ствляемых, в частности, в Центре по изучению массовых коммуникаций при Практической школе высших знаний на основе работ В. Проппа и Кл. Леви-Стросса. О поэтическом сообщении см.: Jakobson R. Essais de linguistique generale. P.: Minuit, 1963, ch. 11 [рус. пер.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика.—В кн.: «Структурализм „за" и „против"». М.: Прогресс, 1975); Ruwet N. L'analyse structurale de la poesie. — «Linguistics», 2, dec. 1963, а также: Analyse structurale d'un poeme francais. — «Linguistics», 3, janv. 1964. Ср. также: Levi-Strauss CL, Jakobson R. Les Chats de Charles Baudelaire. — «L'Homme», II, 1962, 2 [рус. пер.: Якобсон Р., Леви-Стросс Кл. «Кошки» Шарля Бодлера. — В кн.: Структурализм: „за" и „про¬тив"». М.: Прогресс, 1975]; Cohen J. Structure du langage poetique. P.: Flammarion, 1966.
359
му анализу, хотя и ясно, что за пределами такого ана¬лиза останется громадный материал. По большей части материал этот будет соответствовать всему тому, что мы полагаем ныне наиболее существенным в произведении (индивидуальная гениальность автора, мастерство, че¬ловеческое начало), если, конечно, мы не обретем новый интерес и новую любовь к истине, заключенной в мифах.
Объективность, доступная этой новой науке о литера¬туре, будет направлена уже не на произведение в его непосредственной данности (в этом своем качестве произведение находится в ведении истории литературы и филологии), а на его интеллигибельность. Подобно тому как фонология, отнюдь не отвергая экспериментальных фонетических данных, выработала новую объектив¬ность — объективность фонического смысла (а не только физического звука), существует и объективность симво¬ла, отличная от объективности, необходимой для уста¬новления буквальных значений текста. Сам по себе объект содержит лишь те ограничения, которые связаны с его субстанцией, но в нем нет правил, регулирующих значения: «грамматика» произведения — это вовсе не грамматика того естественного языка, на котором оно написано, и объективность нашей новой науки будет связана именно с этой второй грамматикой, а не с пер¬вой. Науку о литературе будет интересовать не сам по себе факт существования произведения, а то, что люди его понимали и все еще продолжают понимать: источни¬ком ее «объективности» станет интеллигибельность.
Итак, придется распроститься с мыслью, будто наука о литературе сможет научить нас находить тот единствен¬но верный смысл, который следует придавать произведе¬нию: она не станет ни наделять, ни даже обнаруживать в нем никакого смысла, она будет описывать логику порождения любых смыслов таким способом, который приемлем для символической логики человека, подобно тому как фразы французского языка приемлемы для «лингвистического чутья» французов. Разумеется, нам придется проделать долгий путь, прежде чем мы сумеем разработать лингвистику дискурса, то есть подлинную науку о литературе, соответствующую вербальной приро¬де ее объекта. Ведь если лингвистика и способна оказать нам помощь, то сама по себе она все же не в состоянии
360
разрешить тех проблем, которые ставят перед ней такие новые объекты, как части дискурса или вторичные смы¬слы. Лингвистике, в частности, понадобится помощь истории, которая подскажет, в каких (подчас необъят¬ных) временных границах существуют те или иные вто¬ричные коды (например, риторический), равно как и помощь антропологии, которая путем ряда последова¬тельных операций сопоставления и интеграции позволит описать всеобщую логику означающих.
Критика
Критика не есть наука. Наука изучает смыслы, кри¬тика их производит. Как уже было сказано, она занимает промежуточное положение между наукой и чтением; ту речь в чистом виде, каковой является акт чтения, она снабжает языком, а тот мифический язык, на котором написано произведение и который изучается наукой, она снабжает особым (наряду с прочими) типом речи.
Отношение критики к произведению есть отношение смысла к форме. Критик не может претендовать на то, чтобы «сделать перевод» произведения, в частности про¬яснить его, поскольку не существует ничего более ясного, чем само произведение. Что он может, так это «породить» определенный смысл из той формы, которую представля¬ет собой произведение. Если он читает выражение «дочь Миноса и Пасифаи», то его роль заключается вовсе не в том, чтобы констатировать, что речь идет о Федре (с этим прекрасно справятся и филологи), а в том, чтобы установить такую смысловую систему, где, подчи¬няясь определенным логическим требованиям (к которым мы вернемся чуть ниже), смогли бы занять свое место хтонический и солярный мотивы. Критик расщепляет смыслы, над первичным языком произведения он над¬страивает вторичный язык, то есть внутренне организо¬ванную систему знаков. В сущности, дело идет о своеоб¬разном анаморфозе, причем само собой разумеется, что, с одной стороны, произведение в принципе не поддается зеркальному отображению (словно какое-нибудь яблоко или коробка), а с другой — сам этот анаморфоз пред¬ставляет собой контролируемую трансформацию, под¬чиняющуюся законам оптики, а именно: он должен
361
трансформировать все элементы отражаемого объекта, трансформировать их лишь в соответствии с известными правилами, трансформировать неизменно в одном и том же смысле. Таковы три ограничения, накладываемые на критику.
Критик не может говорить о произведении «все, что ему взбредет в голову» 79. Однако удерживает его вовсе не нравственный страх перед опасностью «впасть в бред» — во-первых, потому, что в эпоху, когда под сомне¬ние поставлены сами границы, отделяющие разум от безумия 80, критик оставляет другим недостойную заботу о вынесении окончательного приговора относительно этих границ, а во-вторых, также и потому, что право на «бред» было завоевано литературой по крайней мере уже во времена Лотреамона, и она могла бы начать бредить, руководствуясь сугубо поэтическими мотивами — стоило ей только заявить об этом; наконец, еще и потому, что нередко то, что сегодня считается бредом, завтра становится истиной: разве Буало не посчитал бы бредо¬выми рассуждения Тэна, а Брюнетьер — мысли Жоржа Блена? Если уж критик намеревается сказать нечто (а отнюдь не все, что ему взбредет в голову), это значит, что он признает наличие у слова (как у слова автора, так и у своего собственного) знаковой функции и что, следовательно, анаморфоз, которому он подвергает про¬изведение (и которого не властен избежать ни один человек в мире), подчиняется ряду формальных смысло¬вых ограничений: смыслы создаются отнюдь не произ-вольно (если у вас есть сомнения, то попытайтесь проде¬лать это сами); в компетенции критика находится не смысл произведения, но смысл того, что критик о нем говорит.
Первое ограничение требует признания того факта, что в произведении значимо все: грамматика какого-либо языка не может считаться удовлетворительно описанной, если описание неспособно объяснить всех предложений этого языка; сходным образом, любая смысловая система
Обвинение, брошенное новой критике Р. Пикаром (op. cit., p. 66). 80 Следует ли напоминать, что у безумия есть своя история и что эта история еще не закончена? (Foucault Michel. Folie et deraison, histoire de la folie a l'age classique. P.: Plon, 1961).
362
будет страдать неполнотой, если в ее рамках нельзя будет объяснить все порождаемые ею высказывания: достаточно одного лишнего элемента — и описание при¬дется признать неудовлетворительным. Это правило, тре¬бующее, чтобы описание было исчерпывающим, хорошо известно лингвистам; однако оно играет совершенно иную роль, нежели тот своеобразный статистический контроль за текстом, который, похоже, кое-кто стремится вменить в обязанность критику81. Существует некая навязчивая точка зрения, опять-таки возникшая под влиянием так называемой естественнонаучной модели, которая требует от критика, чтобы он фиксировал в произведении лишь те элементы, которые встречаются в нем часто, повторяются; в противном случае он оказы¬вается повинен в «предвзятых обобщениях» и в «произ¬вольных экстраполяциях»; вы не имеете права, заявляют ему, возводить в ранг «всеобщности» такие ситуации, которые можно обнаружить лишь в двух или трех тра¬гедиях Расина. Придется еще раз напомнить82, что со структурной точки зрения, смысл рождается отнюдь не в результате повтора тех или иных элементов, а в силу существования между ними различий, и потому, попав в систему эксклюзивных и реляционных отношений, лю¬бой редкий элемент обретает значение в той же самой мере, что и элемент, встречающийся часто: так, слово баобаб во французском языке имеет не больше и не меньше смысла, чем слово друг. Конечно, подсчет зна¬чимых единиц по-своему также интересен, и некоторая часть лингвистов этим занимается; однако такой подсчет раскрывает степень информативности текста, а вовсе не его значение. С точки зрения критики, он способен завести лишь в тупик, ибо после того, как мы определим пользу, которую может представлять фиксация того или иного элемента, или, если угодно, степень убедительности определенной единицы, по числу ее вхождений в текст, нам необходимо будет решить вопрос о количестве этих единиц: какое именно число трагедий Расина дает мне право на «обобщение» расиновской ситуации? Пять,
81 Picard R., op. cit., p. 64.
82 Ср.: Barthes Roland. A propos de deux ouvrages de Claude Levi-Strauss: Sociologie et socio-logique. — «Informations sur les Scien¬ces sociales», Unesco, dec. 1962, I, 4, p. 116).
363
шесть, десять? Обязан ли я превысить некий «средний показатель», чтобы единица стала считаться подлежащей фиксации и чтобы возник смысл? Но в таком случае как быть с редко встречающимися единицами? Отделать¬ся от них, стыдливо назвав «исключениями» и «откло¬нениями»? Всех этих несообразностей как раз и позволя¬ет избежать семантика. В семантике слово «обобщение» означает не количественную (когда об истинности эле¬мента судят по числу его вхождений в текст), а каче¬ственную (когда любой, пусть даже самый редкий эле¬мент включают в общую систему реляционных связей) операцию. Конечно, никакой отдельно взятый образ сам по себе еще не создает систему образов 83, однако и система образов, со своей стороны, не может быть описа¬на помимо вот этого конкретного образа, сколь бы случайным и одиноким он ни казался; она не может быть описана без учета неустранимого присутствия этого образа. «Обобщения», свойственные языку критики, свя¬заны с объемом той реляционной системы, куда входит фиксируемый элемент, но отнюдь не с числом его факти¬ческих употреблений в тексте: элемент этот может по¬явиться в произведении всего однажды и тем не менее, благодаря известному числу трансформаций, которые как раз и характеризуют всякую структурную организацию, присутствовать в нем «повсюду» и «всегда» .
Со своей стороны, эти трансформации также подчине¬ны определенным требованиям, а именно — требованиям символической логики. «Бреду» новой критики ее против¬ники противопоставляют «элементарные правила научной или даже просто членораздельной мысли» 85; это глупо; существует логика означающих. Конечно, мы знаем ее еще недостаточно, и пока что не так просто решить, предметом какой «области знания» она должна являться; однако уже теперь можно нащупать подходы к ней, как это делают психоанализ и структурализм; уже теперь нам известно, что о символах нельзя рассуждать как взбредет в голову; уже теперь мы располагаем рядом моделей (пусть и предварительных), позволяющих объ-
83 Picard R., op. cit., p. 43.
84 Ibid., p. 19.
85 Ibid., p. 58.
364
яснить, какими путями формируются цепочки символи¬ческих смыслов. Эти модели смогут оградить нас от того чувства удивления (самого по себе удивительного), которое испытывает старая критика, видя, как исследо¬ватель сближает такие действия, как удушение и отрав¬ление, или такие понятия, как лед и огонь 86. На подобно¬го рода трансформации одновременно указали психо¬анализ и риторика 87. Таковы, например, субституция в собственном смысле слова (метафора), опущение (эл¬липсис), конденсация (омонимия), перенос (метонимия), отрицание (антифразис). Критик пытается обнаружить именно упорядоченные, а отнюдь не произвольные транс¬формации, распространяющиеся на цепочки очень боль¬шой протяженности (птица, полет, цветок, фейерверк, веер, бабочка, танцовщица у Малларме 88) и позволяю¬щие установить хотя и отдаленные, но тем не менее совершенно правомерные связи между элементами (реки спокойный плеск, с одной стороны, и осенний лес — с дру¬гой), так что произведение, отнюдь не становясь объек¬том «бредового» прочтения, постепенно пронизывается все более и более полным единством. Легко ли устанав-ливаются подобные связи? Не легче, чем они устанавли¬ваются в самой поэзии.
Книга — это своего рода мир. Перед лицом книги критик находится в той же речевой ситуации, что и писатель — перед лицом мира. Здесь-то мы и подходим к третьему требованию, предъявляемому к критике. Как и писательский анаморфоз, анаморфоз, которому критик подвергает свой объект, всегда определенным образом ориентирован: он всегда должен быть направлен в одну какую-нибудь сторону. В какую же? Быть может, в сто¬рону «субъективности» — понятие, которым орудуют про¬тив нового критика словно дубиной? Под «субъективной» критикой понимают обычно дискурс, всецело зависящий от произвола субъекта, который совершенно не принима-
86 Ibid., p. 15, 23.
87 Ср.: Benveniste E. Remarques sur la fonction du langage dans la decouverte freudienne. — «La Psychanalyse», № 1, 1956, p. 3-39. [рус. пер.: Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда. — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974].
88 Richard J.-P., op. cit., p. 304 s.
365
ет во внимание объект, предаваясь (как подчеркивают, чтобы сильнее его уколоть) беспорядочному выбалтыва¬нию своих индивидуальных ощущений. На это сразу же можно было бы ответить, что систематизированная, иными словами, культивированная (порожденная культу¬рой) субъективность, подчиненная множеству ограниче¬ний, в свою очередь зависящих от типа символов в дан¬ном произведении, имеет, быть может, больше шансов приблизиться к литературному объекту, нежели мало¬грамотная, слепая к самой себе объективность, прячу¬щаяся за буквой произведения, словно за неким его природным свойством. Однако, сказать по правде, речь идет не совсем об этом; критика не есть наука: в критике субъекту следует противопоставлять вовсе не объект, но предикат этого субъекта. Другими словами, объектом, с которым имеет дело критик, является не произведение, а его собственный язык. В каком же отношении может находиться критик к языку? Именно с этой стороны сле¬дует попытаться определить «субъективность» критика. Классическая критика питала наивное убеждение, будто субъект представляет собой некую «полноту» и что отношение субьекта к языку есть отношение содержа¬ния к формам его выражения. Обращение к символи¬ческому дискурсу приводит, по-видимому, к прямо проти¬воположной точке зрения: субъект не есть некая индиви¬дуальная полнота, которую мы имеем (или не имеем) право проецировать на язык (в зависимости от избранно¬го литературного «жанра»); напротив, он представляет собой пустоту, которую писатель как бы оплетает до бесконечности трансформируемым словом (то есть, сло¬вом, включенным в цепочку трансформаций), так что любое письмо, которое не лжет, указывает не на внутрен¬ние атрибуты субъекта, но на факт его отсутствия 89. Язык не является предикатом какого бы то ни было субъекта — невыразимого или же, наоборот, такого, вы¬ражению которого служил бы язык; он сам является субъектом 90. Мне кажется (и я думаю, что не одинок
Здесь нетрудно узнать, пусть и искаженный, отзвук мыслей, развивавшихся доктором Лаканом на его семинаре в Практической школе высших знаний.
«Субъективное принципиально невыразимо», — заявляет Р. Пикар (op. cit., p. 13). Сказать так — значит слишком уж легко отделаться от отношений между субъектом и языком, в которых иные, нежели Р. Пикар, «мыслители» усматривают чрезвычайно сложную проблему.
366
в своем мнении), что литературу определяет именно следующая особенность: если бы дело шло всего лишь о том, чтобы выжать (как из лимона) из одинаково полных субъектов и объектов их субстанцию в виде определенных «образов», то в таком случае зачем нужна была бы литература? Для этого вполне хватило бы и дискурса нечистой совести. К возникновению символа приводит именно необходимость снова и снова указывать на я как на ничто, которым я являюсь. Дополняя язык автора своим собственным языком, а символы произведе¬ния — своими собственными символами, критик отнюдь не «деформирует» объект, чтобы выразиться в нем, он вовсе не превращает его в предикат собственной лично¬сти; он лишь в очередной раз воспроизводит свободный от контекста и беспрестанно варьируемый знак самих произведений, которые до бесконечности сообщают не о чьей бы то ни было «субъективности», но о самом сов¬падении субъекта и языка, так что и критика, и произ¬ведение словно повторяют все время: я есмь литература, а сама литература, где переплелись голоса критики и произведения, говорит только об одном — об отсутствии субъекта.
Разумеется, критика есть акт глубокого (точнее, про¬филированного) прочтения, она открывает в произведе-нии известный смысл и в этом отношении действительно служит средством дешифровки и интерпретации. И все же то, что она обнаруживает в произведении, ни в коем случае не может оказаться его означаемым (ибо это означаемое отступает все дальше и дальше в глубину той пустоты, которой является субъект) ; раскрываются лишь известные цепочки символов, гомологические отно¬шения: «смысл», которым критика с полным на то правом наделяет произведение, — это в конечном счете лишь еще одно, новое цветение символов, составляющих произве¬дение. Когда критик, анализируя слова «птица» и «веер» у Малларме, выводит общий для них «смысл» — движе¬ние взад и вперед, виртуальность 91, — он вовсе не указы¬вает на некую окончательную истину данного образа,
91 Richard J.-P., op. cit., III, VI.
367
он лишь предлагает новый образ, который также ни в коей мере не является окончательным. Критика—это не перевод, это перифраз. Она не может претендовать на раскрытие глубинной «сути» произведения, ибо этой сутью является сам субъект, иными словами — отсут¬ствие: всякая метафора — это бездонный знак, и симво¬лический процесс, во всей своей неисчерпаемости, указы¬вает именно на эту недостижимость означаемого; критик не может свести метафоры произведения к тому или ино¬му однозначному смыслу, он может лишь продолжить их; повторим еще раз: если бы в произведении существовало некое «потаенное», «объективное» означаемое, само вы¬ражение символ превратилось бы в эвфемизм, литера¬тура — в маскарад, а критика — в филологию. Любая попытка свести произведение к его сугубо эксплицитному значению бесплодна, ибо в тот же самый момент мы лишимся возможности сказать о произведении что бы то ни было, а его функцией окажется наложение печати на уста тех, кто его читает; однако едва ли не столь же бесплодно стремление обнаружить в произведении нечто такое, что оно говорит и в то же время как будто не говорит, то есть предполагать в нем наличие высшей тайны, открыв которую мы опять-таки лишимся возмож¬ности что-либо добавить: что бы мы ни говорили о произведении, в нем — как и в первый момент его суще¬ствования — всегда останутся язык, субъект и отсут¬ствие.
Мерой критического дискурса является его правиль¬ность (justesse), внутренняя согласованность. Подобно тому как в музыке (где взять правильную ноту отнюдь не значит взять ноту «истинную») истина мелодии в конечном счете зависит от ее правильности, поскольку эта правильность создается за счет слаженности звуча¬ния и гармонии звуков, — точно так же и критик, чтобы высказать истинное суждение, должен следовать крите¬рию правильности, попытавшись воспроизвести на своем собственном языке и по законам «некоей интеллектиаль ной мизансцены» 92 символический статус произведения; в противном случае критик не сможет сохранить «вер-
92 Mallarme. Preface a «Un coup de des jamais n'abolira le hasard» (?uvres completes. P.: Pleiade, p. 455).
368
ность» по отношению к произведению. В самом деле, символ способен ускользнуть от нас двумя существенно различными путями. Первый, как мы видели, чрезвычай¬но прост: он состоит в отвержении символа как такового, когда весь значащий профиль произведения начинают сводить к самоочевидности его якобы буквальных значений или же загонять его в тупик тавтологии. Второй путь, напротив, заключается в том, чтобы дать научное истолкование символа: при этом, с одной стороны, заявляют, что произведение поддается дешиф¬ровке (тем самым признавая его символическую приро¬ду), а с другой — само дешифрующее слово остается буквальным, лишенным глубины, бездонности; оно приз¬вано остановить бесконечную подвижность той метафо¬ры, которой является произведение, затем, чтобы овла-деть его окончательной «истиной» — к этой разновидности принадлежит символическая критика, стремящаяся к научности (например, социологическая или психоанали¬тическая). В обоих случаях символ ускользает от иссле¬дователей потому, что язык критики и язык произведе¬ния оказываются взаимно произвольными и несогласо¬ванными: свести символ к тому или иному однозначному смыслу — это такая же крайность, как и упорное нежела¬ние видеть в нем что-либо, кроме его буквального значе¬ния. Нужно, чтобы символ двигался по направлению к другому символу, чтобы один язык в полный голос заговорил на другом языке: лишь в этом случае, в конеч¬ном счете, можно будет сохранить верность и буквально¬му значению текста. Такой поворот, возвращающий, на¬конец, критику литературе, отнюдь не бесполезен — он позволяет бороться против двойной опасности: ведь действительно, всякое рассуждение о произведении гро¬зит обернуться либо совершенно пустым словом о нем — болтовней или молчанием, либо же словом, приводящим к затвердению, к полной неподвижности предположитель¬но найденного им означаемого. В критике существование правильного слова возможно лишь в том случае, если ответственность «толкователя» по отношению к произве¬дению оказывается не чем иным, как ответственностью критика по отношению к своему собственному слову. Даже если критик и принимает во внимание суще¬ствование науки о литературе, он тем не менее остается
369
совершенно обезоруженным, поскольку неспособен вос¬пользоваться языком как неким достоянием или инстру¬ментом: критик — это человек, который не знает, на что бы он мог опереться в науке о литературе. Даже если определить эту науку как сугубо «излагающую» (а не объясняющую) дисциплину, критик все равно останется в изоляции от нее, ибо то, что он излагает, есть сам язык, а вовсе не его объект. Впрочем, такая дистанция между критикой и наукой о литературе чревата не одни¬ми только убытками, коль скоро она позволяет критике развить качество, которого как раз недостает науке и которое можно назвать одним словом — ирония. Ирония есть не что иное, как вопрос, заданный языком по поводу языка 93. Усвоенная нами привычка придавать символу религиозное или политическое измерение мешает заме¬тить, что существует ирония символов, своеобразный способ поставить язык под вопрос благодаря наличию в нем совершенно явных, совершенно очевидных изли¬шеств. В противоположность скудной вольтеровской иро-нии (этому нарциссическому продукту языка, преиспол¬ненного самоуверенности), можно вообразить себе дру¬гую иронию, которую, за неимением лучшего, мы назо¬вем барочной, ибо она играет с формами, а не с сущно¬стями, и, не стремясь втиснуть язык в какие-либо узкие рамки, напротив, позволяет ему свободно расцвести 94. Почему, собственно, такая ирония должна считаться чем-то запретным для критики? Быть может, это един-
93 В той мере, в какой существует определенное сходство между критиком и романистом, ирония критика (но отношению к собствен¬ному языку как к объекту созидания) по сути ничем не отличается от иронии или юмора, являющегося — согласно Лукачу, Рене Жирару и Л. Гольдману — тем способом, при помощи которого романист пре¬одолевает сознание своих героев (см.: Goldman L. Introduction aux problemes d'une sociologie du roman. — «Revue de l'Institut de Sociologie». Bruxelles, 1963, 2, p. 229). Не стоит и говорить, что против¬ники новой критики в принципе не способны заметить этой иронии (или самоиронии).
94 Гонгоризм, если его рассматривать трансисторически, всегда содержит в себе некое рефлексивное начало; звуча в совершенно различных тональностях, способных меняться от ораторской приподня¬тости до обычного каламбура, всякая эксцессивная фигура несет в себе рефлексию о языке, чья серьезность подвергается испытанию (ср.: Sarduy Severo. Sur Gongora. — «Tel Quel», 1966, № 25).
370
ственное серьезное слово, предоставленное в ее распоря¬жение, в той мере, в какой статус науки и языка еще не окончательно определился, — а именно так, по-видимому, все еще обстоит дело сегодня. В таком случае ирония дана критику непосредственно: это, по выражению Каф¬ки не способность видеть истину, это способность быть истиной 95, так что мы оказываемся вправе потребовать у критика: заставьте меня поверить в вашу решимость сказать то, что вы говорите (а отнюдь не: заставьте меня поверить в то, что вы говорите).
Чтение
Остается еще одна, последняя из иллюзий, от которой необходимо избавиться: критик ни в чем не может за-менить собою читателя. Тщетны будут его кичливые попытки (или обращенные к нему просьбы) предоста-вить — разумеется, со всей возможной почтитель¬ностью — свой голос для выражения мнения остальных читателей; тщетно будет он воображать себя читателем, которому — по причине его особых познаний и тонкости в суждениях — остальные читатели поручили выразить их собственные чувства; короче, он напрасно будет по¬лагать, будто представляет права собственности того или иного коллектива на произведение. Почему? Потому что даже если определить критика как пишущего читателя, то тем самым окажется, что такой читатель встречает на своем пути подозрительного посредника — письмо. Писать — значит в известном смысле расчленять мир (или книгу) и затем составлять их заново. Вспомним, каким образом средневековье — с обычной для него глу¬биной и тонкостью — устанавливало отношение между книгой (античным сокровищем) и всеми теми, кому надлежало провести эту абсолютную (абсолютно почи-таемую) субстанцию сквозь новое слово о ней. Ныне нам известны лишь две фигуры: историк и критик (при-чем нам стремятся внушить ложное представление, будто они должны совпасть в одном лице); средневековье же как бы приставило к книге четырех различных слу-
95 «Не каждый может увидеть истину, но каждый может ею быть. (Ф. Кафка, цит. по: Robert Marthe, op. cit., p. 80).
371
жителей, каковыми являлись scriptor (который просто переписывал текст, ничего к нему не добавляя), compilator (который ничего не добавлял от себя), commentator (который вторгался в переписанный текст лишь затем, чтобы прояснить его смысл), и наконец, auctor (который излагал собственные мысли, непременно опираясь при этом на другие авторитеты). Эта система, намеренно созданная с единственной целью сохранить «верность» древнему тексту, то есть единственно признаваемой Кни¬ге (можно ли вообразить большую «почтительность», нежели та, которую средневековье питало к Аристотелю или Присциану?), — эта система, тем не менее, породила такое «толкование» античности, которое наша современ¬ность поспешила отвергнуть и которое нынешней «объек¬тивной» критике показалось бы совершенно «бредовым». Причина в том, что на деле критическое видение начи¬нается уже на уровне самого compilator'a: ведь для того, чтобы «деформировать» текст, нет совершенно ни¬какой надобности добавлять в него что-либо от себя: для этого достаточно его процитировать, иными слова¬ми — расчленить; в результате немедленно возникает но¬вый смысл; причем сам факт существования этого смыс¬ла окажется совершенно независим от того, в какой мере он был принят или отвергнут. Критик — это не кто иной, как commentator — в полном смысле этого слова (и этого вполне достаточно, чтобы определить его роль), поскольку, с одной стороны, он служит посредником, заново вводя в наш кругозор материал прошлых эпох (который нередко в этом нуждается: ведь, в конце кон¬цов, разве Расин не обязан кое в чем Жоржу Пуле, а Верлен — Жан-Пьеру Ришару 96), а с другой стороны, критик выступает оператором, перераспределяющим элементы произведения таким образом, чтобы придать ему известную осмысленность, иными словами — устано¬вить по отношению к нему некоторую дистанцию.
Есть и другое различие между читателем и критиком: если мы ничего не знаем о том, как читатель разгова-ривает с книгой, то критик, напротив, обязан избрать
96 Poulet Georges. Notes sur le temps racinien. — In: «Etudes sur le temps humain». P.: Plon, 1950. — Richard J.-P. Fadeur de Verlai¬ne. — In.: Poesie et Profondeur. P.: Seuil, 1955.
372
определенный «тон», и тон этот в конечном счете может быть только утвердительным. В глубине души критик может переживать массу сомнений и мук, причем по таким поводам, о которых не смогут догадаться даже самые недоброжелательные из его хулителей, — и все же в итоге ему придется прибегнуть именно к письму во всей его полноте, иными словами — в его утвердитель¬ной функции. Любая попытка — под предлогом ли скромности, неуверенности или осторожности — укло¬ниться от того институирующего акта, который лежит в основе всякого письма, окажется напрасной: все это — лишь обычные условные знаки, которые ровным счетом ни от чего не могут гарантировать. Любое письмо есть акт декларирования, и именно поэтому оно является письмом. Разве способна критика принять вопроситель¬ную, желательную или дубитативную форму, не превра¬тившись при этом в воплощение нечистой совести? Ведь критика есть письмо, а писать как раз и значит идти на апофантический риск, всякий раз оказываясь перед неизбежной альтернативой: истина/ложь. Если и су¬ществует догматизм письма, то он заявляет лишь об одном — об ангажированности пишущего, а вовсе не о его самоуверенности или самодовольстве: письмо — это не что иное, как определенный акт, та малая доля акта, которая содержится в письме.
Таким образом, в результате самого «прикосновения» к тексту — прикосновения не глазами, но письмом — между критикой и чтением разверзается целая пропасть, и это та самая пропасть, которую всякое значение прокла¬дывает между двумя своими сторонами: означающим и означаемым. Ведь ни один человек в мире ничего не знает о том смысле (о том означаемом), которым наде¬ляется произведение в процессе чтения, и причина, быть может, в том, что смысл этот, будучи воплощенным вожделением, возникает как бы по ту сторону языкового кода. Одно только чтение испытывает чувство любви к произведению, поддерживает с ним «страстные» отно¬шения. Читать — значит желать произведение, жаждать превратиться в него; это значит отказаться от всякой попытки продублировать произведение на любом другом языке, помимо языка самого произведения: единствен¬ная, навеки данная форма комментария, на которую
373
способен читатель как таковой, — это подражание (о чем говорит пример Пруста — любителя чтения и подража¬ний). Перейти от чтения к критике—значит переменить самый объект вожделения, значит возжелать не произ¬ведение, а свой собственный язык. Но тем самым это значит превратить произведение в объект желания со стороны письма, порожденного этим желанием. Вот так слово и кружит вокруг книги: чтение, письмо — всякая литература попеременно становится объектом их вожде¬ления. Разве мало было писателей, начавших писать лишь потому, что до этого они что-то читали? И раз¬ве мало критиков, читавших лишь затем, чтобы по¬лучить возможность писать? Они как бы соединяли две стороны книги, две стороны знака так, чтобы в ре¬зультате получилось некое единое слово. Критика — лишь один из моментов той истории, в которую мы ныне вступаем и которая ведет нас к единству — к истине письма.
1966.
От науки к литературе.
Перевод С. Н. Зенкина .... 375
Нельзя изречь свою мысль, не осмысляя свою рёчь.
Бональд
Во французских университетах имеется официальный перечень традиционно преподаваемых социальных и гуманитарных наук, который определяет дипломные специальности выпускников, — вы можете быть доктором эстетики, психологии, социологии, но не геральдики, семантики или виктимологии. Таким образом, природа человеческого знания непосредственно определяется со¬циальными институтами, которые навязывают нам свои способы членения и классификации, точно так же как язык, благодаря своим «обязательным категориям» (а не только запретам), заставляет нас мыслить так, а не иначе. Другими словами, определяющим для науки (под этим словом здесь и далее подразумевается совокупность социальных и гуманитарных наук) является не особое содержание (его границы зачастую неопределенны и подвижны), не особый метод (в разных науках он раз¬ный: что общего между исторической наукой и экспери¬ментальной психологией?), не особые моральные прин¬ципы (серьезность и строгость свойственны не только науке), не особый способ коммуникации (научные зна¬ния излагаются в книгах, как и все прочее) — но исклю¬чительно ее особый статус, то есть ее социальный приз¬нак: ведению науки подлежат все те данные, которые общество считает достойными сообщения. Одним словом, наука — это то, что преподается.
Литература обладает всеми вторичными признаками, то есть всеми неопределяющими атрибутами науки. Содержание у нее то же, что и у науки: нет, без сомне¬ния, ни одной научной материи, которой не касалась когда-то мировая литература; мир литературного произ¬ведения всеобъемлющ и охватывает все виды знания (социальное, психологическое, историческое) — так что
375
литература являет нам то великое единство мироздания, насладиться которым дано было древним грекам и в котором отказано нам из-за раздробленности нашего знания на отдельные науки. Кроме того, литература, подобно науке, методична: в ней есть программы изыс¬каний, меняющиеся в зависимости от школы и эпохи (так же, впрочем, как и в науке), правила исследования, порой даже претензии на экспериментальность. У лите¬ратуры, как и у науки, есть своя особая мораль — пред¬ставив себе свою сущность, она выводит отсюда правила для своей деятельности и, следовательно, подчиняет свои начинания известному духу абсолюта.
И еще одна черта объединяет науку и литературу, но она же и разделяет их вернее всяких иных различий: и та и другая суть виды дискурса (что хорошо выражено в античной идее логоса), но, формируясь в языке, они каждая по-своему, его принимают или, если угодно, ис¬поведуют. Для науки язык лишь орудие, и его желатель¬но сделать как можно более прозрачным и нейтральным, поставить в зависимость от субстанции научного изложе¬ния (операций, предположений, выводов), которая считается по отношению к нему внеположной и первич¬ной. Мы имеем, с одной стороны, и прежде всего, со¬держание научного сообщения, в котором и есть вся суть, а с другой стороны, и только потом, выражающую его словесную форму, которая сама по себе ничто. Отнюдь не случайность, что начиная с XVI в. одновременный подъем эмпиризма, рационализма, а в религии — принци¬па непосредственной очевидности (в связи с Реформа¬цией), то есть научности в самом широком смысле слова, сопровождался упадком самостоятельности языка, отне¬сенного к низшему разряду в качестве орудия или же «изящного стиля», тогда как в средние века человеческая культура уделяла тайнам речи и тайнам природы почти равное место в рамках септениума.
Напротив того, для литературы — по крайней мере, для той ее части, которая переросла рамки классицизма и гуманизма, — язык уже не может оставаться удобным орудием или же пышным украшением для предшествую¬щей ему «действительности» (будь то действительность социальных отношений, человеческих страстей или поэти¬ческого чувства), которую он помимо прочего должен
376
и выражать, подчиняясь для этого определенным стили¬стическим правилам. Язык — самое существо литературы, мир, где она живет; литература ныне всецело заклю¬чается в акте письма, а не в «мышлении», «изображении», «повествовании» или «переживании». В техническом пла¬не, согласно определению Романа Якобсона, «поэтич¬ность» (то есть литературность) означает особый тип сообщения, предметом которого служит его собственная форма, а не содержание. В этическом плане литература, двигаясь сквозь язык, колеблет основные понятия нашей культуры, и прежде всего понятие «реальность». В поли¬тическом плане литература революционна постольку, поскольку признает и демонстрирует, что ни один язык не бывает политически непорочным, и пользуется своего рода «целостным языком». Сегодня, таким образом, одна лишь литература берет на себя полную ответственность за язык; наука, разумеется, нуждается в языке, но, в отличие от литературы, она не живет внутри него. Наука преподается, то есть высказывается и излагается, лите¬ратура же не столько сообщается, сколько совершается (преподают только ее историю). Наука говорится, лите¬ратура пишется; одна управляется голосом, другая следует движениям руки; за ними стоит не одно и то же тело и не одно и то же желание.
Оппозиция науки и литературы, по сути своей выяв¬ляя два подхода к языку — в одном случае он замас-кирован, в другом открыто принят, — имеет принципи¬альное значение для структурализма. Правда, названием этим (обычно его навешивают как ярлык) ныне покры¬ваются самые различные тенденции, нередко разнона¬правленные, порой даже противоборствующие, так что выступать от его имени не вправе никто. Автор этих строк далек от подобных притязаний; нынешний «струк¬турализм» он берет лишь в наиболее специальном и потому наиболее правомерном толковании, подразумевая под этим словом определенный способ анализа явлений культуры, исходящий из методов современной лингвисти¬ки. Таким образом, для структурализма, который сам порожден одной из моделей языка, литература, как продукт языка, оказывается предметом не просто близ¬ким, а единосущным. Такое совпадение не исключает, однако, некоторых затруднений и даже внутреннего
377
раскола, связанного с тем, стремится ли структурализм сохранять по отношению к своему объекту научную дис¬танцию или же, напротив, готов загубить свою аналитич¬ность, растворив ее в бесконечности языка, носитель¬ницей которой в настоящее время является литература; словом, вопрос в том, желает ли структурализм быть наукой или письмом.
Структурализм-наука, можно сказать, «встречается с самим собой» на всех уровнях литературного произве¬дения. Прежде всего, на уровне содержания, точнее, формы содержания, ибо он стремится описать «язык» рассказываемых историй, их составные части и единицы, логику сочленения тех и других, одним словом, общую мифологию, к которой принадлежит любое литературное произведение. Далее, на уровне дискурсивных форм: в силу своего метода структурализм обращает особое вни¬мание на рубрики, разряды, распределение единиц; глав¬ная его цель — таксономия, то есть дистрибутивная модель, которая неизбежно обнаруживается во всем, что создано человеком (будь то книга или социальный институт), ибо без классификации нет и культуры. Что же касается дискурса, то есть сверхфразового единства слов, то его формы организации те же, что и у фразы, — это тоже классификация, причем классификация значи¬мая; здесь у литературного структурализма есть славный родоначальник, чью историческую роль обычно недооце¬нивают и очерняют по мотивам идеологического харак¬тера, — Риторика, эта впечатляющая попытка целой культуры проанализировать и упорядочить формы речи, сделать мир языка понятным для ума. И наконец, на уровне слов: у фразы есть не только буквальный, дено¬тативный смысл; она полна и дополнительных значений. «Литературное» слово — это одновременно и отсылка к культурной традиции, и реализация риторической модели, оно содержит намеренную смысловую неоднознач¬ность и в то же время является простой денотативной единицей; оно обладает пространственной глубиной, и в этом-то пространстве работает структурный анализ, чья задача гораздо шире, нежели у прежней стилистики, целиком основанной на ложной идее «выразительности». Итак, на всех своих уровнях — на уровне сюжета, дис¬курса и слова — литературное произведение предстает
378
для структуралиста как структура, всецело подобная структуре самого языка (это все более подтверждается новейшими исследованиями); структурализм, возникнув из лингвистики, встречается в лице литературы с пред¬метом, который сам возник из языка. Отсюда ясно, почему в структурализме предпринимаются попытки создать науку о литературе, точнее лингвистику дис¬курса; ее объектом будет «язык» литературных форм, рассматриваемых на многих уровнях. Подобный замысел весьма нов, так как до сих пор «научный» подход к литературе был принадлежностью лишь сугубо перифе¬рийных дисциплин, таких, как история произведений, писателей и школ или же история текстов (филология).
При всей своей новизне данный замысел все же неудовлетворителен — во всяком случае, недостаточен. Он не затрагивает дилемму, о которой сказано выше и которая аллегорически выражается в оппозиции науки и литературы — в том смысле, что литература берет на себя ответственность за свой собственный язык (под названием «письма»), наука же от этого уклоняется, де¬лая вид, что считает его не более чем орудием. Проще говоря, структурализму суждено остаться всего лишь еще одной «наукой» (каких рождает по нескольку каж¬дое столетие, и некоторые из них недолговечны), если главным его делом не станет подрыв самого языка науки, то есть если он не сумеет «написать себя»: да и как ему не поставить под вопрос сам язык, служащий ему для познания языка? Логическое продолжение структу¬рализма может состоять лишь в том, чтобы воссоеди¬ниться с литературой не просто как с «объектом» анали¬за, но и в самом акте письма, чтобы устранить заим¬ствованное из логики разграничение, объявляющее про¬изведение литературы языком-объектом, а науку — мета¬языком; это значит подвергнуть риску иллюзорную при¬вилегию науки на владение бесправным языком-рабом.
Итак, структуралисту предстоит превратиться в «писателя» — но вовсе не затем, чтобы чтить и отправ¬лять обряды «изящного стиля», а дабы заново обратить¬ся к насущным проблемам всякой речевой деятельности, поскольку ее более не окутывает благостное облако иллюзий реалистического свойства, представляющих язык в виде простого посредника мысли. Для такого
379
превращения — откровенно говоря, пока что оно остается скорее в области теории — нужно прояснить (или приз¬нать) несколько обстоятельств. Прежде всего, приходит¬ся иначе, чем в золотые времена позитивизма, осмыс¬лить отношения субъективности и объективности, или, если угодно, место субъекта в процессе его работы. Нам все уши прожужжали разговорами об объективности и строгости — двух непременных атрибутах ученого; на са¬мом деле эти качества по сути своей предназначены для предварительных операций, они необходимы при работе, и здесь нет никаких причин относиться к ним с недоверием или отбрасывать их вообще. Но качества эти нельзя перенести в дискурс — разве что посредством фокуса, чисто метонимического приема, когда научная осмотрительность лишь имитируется в речи. В любом высказывании подразумевается его субъект — выражает ли он себя открыто и прямо, говоря «я», либо косвенно, обозначая себя «он», или вообще никак, пользуясь безличными оборотами. Все это чисто грамматические уловки, от которых зависит лишь то, как субъект форми¬руется в дискурсе, то есть каким образом (театрально или фантазматически) он представляет себя другим людям с помощью грамматических категорий; следова¬тельно, ими обозначаются разные формы воображаемого. Наиболее коварная из них — привативная форма; она-то как раз и используется обычно в научном дискурсе, из которого ученый объективности ради самоустраняется; однако устраняется всякий раз только «личность» (с ее переживаниями, страстями, биографией), но ни в коем случае не субъект. Наоборот, субъект, можно сказать, обретает себя именно в акте самоустранения, которому он демонстративно подвергает свою личность, так что на уровне дискурса — а это роковой уровень, не следует забывать, — объективность оказывается просто одной из форм воображаемого. В сущности, только полная фор¬мализация научного дискурса (разумеется, речь идет о дискурсе гуманитарных наук, так как в других науках это уже в значительной мере достигнуто) гарантировала бы от проникновения в него воображаемого — если только, конечно, наука не решится пользоваться этим воображаемым вполне осознанно, что достигается лишь в письме; одно лишь письмо способно рассеять неискрен-
380
ность, тяготеющую над любым языком, который не соз¬нает себя.
Далее, лишь в письме — это можно считать его предварительным определением — язык осуществляется во всей своей целостности. Пользоваться научным дис¬курсом как орудием мысли — значит предполагать, что существует некий нейтральный уровень языка, а те или иные специальные языки, например литературный или поэтический, суть производные от него, выступающие как отклонения от нормы или как украшения речи; такой нейтральный уровень служил бы основным кодом для всех «эксцентрических» языков, а они были бы прос¬то его частными субкодами. Отождествляя себя с этим основным кодом, на котором якобы зиждется всякая норма, научный дискурс присваивает себе высший авторитет, оспаривать который как раз и призвано пись¬мо; действительно, в понятии письма содержится пред¬ставление о языке как об обширной системе кодов, ни один из которых не является привилегированным или, если угодно, центральным; составные части этой системы находятся между собой в отношении «плавающей иерар¬хии». Научный дискурс считает себя высшим кодом — письмо же стремится быть всеобъемлющим кодом, вклю¬чающим в себя даже саморазрушительные силы. Поэтому только письмо способно сокрушить утверждаемые наукой теологические представления, отвергнуть террор отече¬ского авторитета, что несут в себе сомнительные «истины» содержательных посылок и умозаключений, открыть для исследования все пространство языка, со всеми его нарушениями логики, смешениями кодов, их взаимопере¬ходами, диалогом, взаимным пародированием; только письмо способно противопоставить самоуверенности ученого — в той мере, в какой его устами «вещает» наука, — то, что Лотреамон называл «скромностью» писателя.
Наконец, на пути между наукой и письмом есть еще и третья область, которую науке предстоит вновь освоить, — область удовольствия. В рамках цивилизации, всецело основанной на монотеизме и идее Греха, где всякая ценность создается страданием и трудом, слово это звучит плохо — в нем слышится нечто легкомыслен¬ное, низменное, неполноценное. Кольридж писал: «А
381
poem is that species of composition which is opposed to works of science, by purposing, for its immediate object, pleasure, not truth» *, — двусмысленное заявление, так как в нем хотя и признается в какой-то мере эротическая при¬рода поэтического произведения (литературы), но ей по-прежнему отводится особый, как бы поднадзорный, участок, отгороженный от основной территории, где властвует истина. Между тем «удовольствие» (сегодня мы охотнее это признаем) подразумевает гораздо более широкую, гораздо более значительную сферу опыта, нежели просто удовлетворение «вкуса». До сих пор, однако, никогда не рассматривалось всерьез удовольст¬вие от языка; о нем, по-своему, еще имела некоторое представление античная Риторика, учредив особый жанр речи, рассчитанный на зрелищный эффект, — эпидейкти¬ческий жанр; классическое же искусство, на словах вменяя себе в обязанность «нравиться» (Расин: «Первое правило — нравиться...»), на деле всячески ограничивало этот принцип рамками «естественности»; одно лишь ба¬рокко, чей литературный опыт всегда встречал в нашем обществе (по крайней мере, во французском) отношение в лучшем случае терпимое, отважилось в какой-то мере разведать ту область, которую можно назвать Эросом языка. Научный дискурс далек от таких попыток: ведь, допустив их возможность, ему пришлось бы отказаться от своих привилегий, гарантированных социальным институтом, и покорно возвратиться в лоно «литератур¬ной жизни», о которой Бодлер писал, по поводу Эдгара По, что «только в этой стихии и могут дышать неко¬торые изгои».
Изменить самосознание, структуру и цели научного дискурса — такова, возможно, задача современности, притом что на первый взгляд гуманитарные науки сейчас прочно стоят на ногах, процветают и все более теснят литературу, упрекать которую в недостатке реализма и человечности стало общим местом. На самом деле именно литература и должна активно представлять перед глаза¬ми науки как социального института отвергаемую этим
* «Поэтическое произведение — это род сочинения, отличающийся от научных трудов тем, что своей непосредственной целью он полагает удовольствие, а не истину» (англ.). — Прим. перев.
382
институтом суверенность языка. При этом непосредствен¬ным возмутителем спокойствия вполне мог бы выступить структурализм: только он, остро осознавая языковую природу произведений культуры, способен ныне к пере¬смотру языкового статуса науки. Избрав своим предме¬том язык — все возможные языки, — он вскоре осознал себя как метаязык всей нашей культуры; пора, однако, пойти дальше, ибо разграничение языка-объекта и со¬ответствующего ему метаязыка в конечном счете все еще зависит от отеческого авторитета науки, существующей якобы вообще вне языка. Перед структуралистским дискурсом встает задача сделаться полностью единосущ¬ным своему объекту; решить эту задачу можно лишь на двух одинаково радикальных путях — либо посредством исчерпывающей формализации, либо посредством тоталь¬ного письма. При этом втором решении (именно оно здесь и отстаивается) наука станет литературой в той же мере, в какой литература уже есть и всегда была наукой (кстати говоря, ее традиционные жанры — стихотворение, рассказ, критическая статья, очерк — все более разрушаются). Действительно, все нынешние открытия гуманитарных наук, будь то социология, психо¬логия, психиатрия, лингвистика и т. д., были известны литературе всегда; разница лишь в том, что они в ней не говорились, а писались. Перед лицом этой целостной истины письма «гуманитарные науки», поздно сложив¬шиеся в русле буржуазного позитивизма, предстают как средства самооправдания, с помощью которых наше об¬щество поддерживает в себе иллюзию божественной истины, величественно — и безосновательно — возвыша¬ющейся над языком.
1967, «Times Littetary Supplement».
Смерть автора.
Перевод С. Н. Зенкина.......... 384
Бальзак в новелле «Сарразин» пишет такую фразу, говоря о переодетом женщиной кастрате: «То была истинная женщина, со всеми ее внезапными страхами, необъяснимыми причудами, инстинктивными тревогами, беспричинными дерзостями, задорными выходками и пле¬нительной тонкостью чувств». Кто говорит так? Может быть, герой новеллы, старающийся не замечать под обличьем женщины кастрата? Или Бальзак-индивид, рассуждающий о женщине на основании своего личного опыта? Или Бальзак-писатель, исповедующий «литера¬турные» представления о женской натуре? Или же это общечеловеческая мудрость? А может быть, романтиче¬ская психология? Узнать это нам никогда не удастся, по той причине, что в письме как раз и уничтожается всякое понятие о голосе, об источнике. Письмо — та область неопределенности, неоднородности и уклончиво¬сти, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождествен¬ность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего.
*
Очевидно, так было всегда: если о чем-либо расска¬зывается ради самого рассказа, а не ради прямого воз-действия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятель¬ности как таковой, — то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо. Однако в разное время это явление ощущалось по-разному. Так, в первобытных обществах рассказыванием занимается не простой человек, а спе-
384
циальный медиатор — шаман или сказитель; можно вос¬хищаться разве что его «перформацией» (то есть мас¬терством в обращении с повествовательным кодом), но никак не «гением». Фигура автора принадлежит новому времени; по-видимому, она формировалась на¬шим обществом по мере того, как с окончанием средних веков это общество стало открывать для себя (благода¬ря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, «человеческой личности». Логично поэтому, что в области литературы «личность» автора получила наиболь¬шее признание в позитивизме, который подытоживал и доводил до конца идеологию капитализма. Автор и поныне царит в учебниках истории литературы, в биогра¬фиях писателей, в журнальных интервью и в сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою лич-ность и творчество в форме интимного дневника. В средо¬стении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, исто¬рия его жизни, его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день все творчество Бодлера — в его житей¬ской несостоятельности, все творчество Ван Гога — в его душевной болезни, все творчество Чайковского — в его пороке; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз «исповедуется» голос одного и того же лица — автора.
*
Хотя власть Автора все еще очень сильна (новая критика зачастую лишь укрепляла ее), несомненно и то, что некоторые писатели уже давно пытались ее поколе¬бать. Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем. Малларме полагает — и это совпадает с нашим нынешним представлением, — что говорит не ав¬тор, а язык как таковой; письмо есть изначально обез¬личенная деятельность (эту обезличенность ни в коем
385
случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, — а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя. Валери, связанный по рукам и ногам психологической теорией «я», немало смягчил идеи Малларме; однако в силу своего клас¬сического вкуса он обратился к урокам риторики, а потому беспрестанно подвергал Автора сомнению и ос¬меянию, подчеркивал чисто языковой и как бы «непред¬намеренный» «нечаянный» характер его деятельности и во всех своих прозаических книгах требовал признать, что суть литературы — в слове, всякие же ссылки на душевную жизнь писателя — не более чем суеверие. Даже Пруст, при всем видимом психологизме его так называемого анализа души, открыто ставил своей зада¬чей предельно усложнить — за счет бесконечного уг¬лубления в подробности — отношения между писателем и его персонажами. Избрав рассказчиком не того, кто нечто повидал и пережил, даже не того, кто пишет, а того, кто собирается писать (молодой человек в его романе — а впрочем, сколько ему лет и кто он, собствен¬но, такой?— хочет писать, но не может начать, и роман заканчивается как раз тогда, когда письмо наконец дела¬ется возможным), Пруст тем самым создал эпопею сов¬ременного письма. Он совершил коренной переворот: вместо того чтобы описать в романе свою жизнь, как это часто говорят, он самую свою жизнь сделал лите¬ратурным произведением по образцу своей книги, и нам очевидно, что не Шарлю списан с Монтескью, а, наобо¬рот, Монтескью в своих реально-исторических поступках представляет собой лишь фрагмент, сколок, нечто произ¬водное от Шарлю. Последним в этом ряду наших пред¬шественников стоит Сюрреализм; он, конечно, не мог признать за языком суверенные права, поскольку язык есть система, меж тем как целью этого движения было, в духе романтизма, непосредственное разрушение всяких кодов (цель иллюзорная, ибо разрушить код невозможно, его можно только «обыграть»); зато сюрреализм посто¬янно призывал к резкому нарушению смысловых ожида¬ний (пресловутые «перебивы смысла»), он требовал,
386
чтобы рука записывала как можно скорее то, о чем даже не подозревает голова (автоматическое письмо), он принимал в принципе и реально практиковал групповое письмо — всем этим он внес свой вклад в дело десакрализации образа Автора. Наконец, уже за рамками лите¬ратуры как таковой (впрочем, ныне подобные разграни¬чения уже изживают себя) ценнейшее орудие для анали¬за и разрушения фигуры Автора дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как тако¬вое — пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности.
*
Удаление Автора (вслед за Брехтом здесь можно говорить о настоящем «очуждении» — Автор делается меньше ростом, как фигурка в самой глубине литера¬турной «сцены»)—это не просто исторический факт или эффект письма: им до основания преображается весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Иной стала, прежде всего, вре¬менная перспектива. Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между до и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну. Что же касается современ¬ного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, У него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время — вре¬мя речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас. Как следствие (или причина) этого смысл глаго-
387
ла писать должен отныне состоять не в том, чтобы нечто фиксировать, запечатлевать, изображать, «рисовать» (как выражались Классики), а в том, что лингвисты вслед за философами Оксфордской школы именуют перформативом — есть такая редкая глагольная форма, употребляемая исключительно в первом лице настоящего времени, в которой акт высказывания не заключает в себе иного содержания (иного высказывания), кроме самого этого акта: например, Сим объявляю в устах царя или Пою в устах древнейшего поэта. Следовательно, со¬временный скриптор, покончив с Автором, не может более полагать, согласно патетическим воззрениям своих предшественников, что рука его не поспевает за мыслью или страстью и что коли так, то он, принимая сей удел, должен сам подчеркивать это отставание и без конца «отделывать» форму своего произведения; наоборот, его рука, утратив всякую связь с голосом, совершает чисто начертательной (а не выразительный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной точки, — во всяком случае, оно исходит только из языка как таково¬го, а он неустанно ставит под сомнение всякое представ¬ление об исходной точке.
*
Ныне мы знаем, что текст представляет собой не ли¬нейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова
388
объясняются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности. Так случилось, если взять яркий пример, с юным Томасом де Квинси: он, по словам Бодлера, на¬столько преуспел в изучении греческого, что, желая пере¬дать на этом мертвом языке сугубо современные мысли и образы, «создал себе и в любой момент держал нагото¬ве собственный словарь, намного больше и сложнее тех, основой которых служит заурядное прилежание в чисто литературных переводах» («Искусственный рай»). Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности.
*
Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значе¬нием, замкнуть письмо. Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает тогда своей важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или же различные его ипостаси, такие как общество, история, душа, сво¬бода): если Автор найден, значит, текст «объяснен», критик одержал победу. Не удивительно поэтому, что царствование Автора исторически было и царствованием Критика, а также и то, что ныне одновременно с Автором оказалась поколебленной и критика (хотя бы даже и но¬вая). Действительно, в многомерном письме все прихо¬дится распутывать, но расшифровывать нечего; структуру можно прослеживать, «протягивать» (как подтягивают спущенную петлю на чулке) * во всех ее повторах и на всех ее уровнях, однако невозможно достичь дна; пространство письма дано нам для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивает-
* Из многих значений глагола filer здесь обыгрывается по крайней мере три: 'следить' (ср. в русском языке филёр)', 'тянуть', 'подтягивать' (о петле на чулке); 'плести', 'вплетать' (например, в тексте: une metaphore filee — сквозная метафора). — Прим. перев.
389
ся, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртео¬логической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла — значит в ко¬нечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси — рациональный порядок, науку, закон.
*
Вернемся к бальзаковской фразе. Ее не говорит никто (то есть никакое «лицо»): если у нее есть источник и голос, то не в письме, а в чтении. Нам поможет это понять одна весьма точная аналогия. В исследованиях последнего времени (Ж.-П. Вернан) демонстрируется основополагающая двусмысленность греческой трагедии: текст ее соткан из двузначных слов, которые каждое из действующих лиц понимает односторонне (в этом по¬стоянном недоразумении и заключается «трагическое»); однако есть и некто, слышащий каждое слово во всей его двойственности, слышащий как бы даже глухоту действующих лиц, что говорят перед ним; этот «некто» — читатель (или, в данном случае, слушатель). Так обнару¬живается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отно¬шения диалога, пародии, спора, однако вся эта множест¬венность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а чита¬тель. Читатель — это то пространство, где запечатле¬ваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письмен¬ный текст. Смехотворны поэтому попытки осуждать но¬вейшее письмо во имя некоего гуманизма, лицемерно выставляющего себя поборником прав читателя. Критике
390
классического толка никогда не было дела до читателя; для нее в литературе существует лишь тот, кто пишет. Теперь нас более не обманут такого рода антифрасисы, посредством которых почтенное общество с благородным негодованием вступается за того, кого на деле оно от¬тесняет, игнорирует, подавляет и уничтожает. Теперь мы знаем: чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть * миф о нем — рождение читателя приходит¬ся оплачивать смертью Автора.
1968, «Manteia».
* В подлиннике обыгрывается второе значение глагола renverser -'выворачивать наизнанку'. — Прим. ред.
391
Эффект реальности.
Перевод С. Н. Зенкина........592
Когда Флобер, описывая зал, где проводит время г-жа Обен, хозяйка Фелисите, сообщает нам, что «на ста-реньком фортепьяно, под барометром, высилась пирами¬да из коробок и картонок»1; когда Мишле, рассказывая о казни Шарлотты Корде, о том, как в тюрьме незадолго до прихода палача ее посетил художник, написавший ее портрет, добавляет, что «часа через полтора у нее за спиной тихонько постучали в небольшую дверцу»2, — то эти авторы (как и многие другие) вводят здесь в текст особого рода элементы, которыми до сих пор обыч¬но пренебрегает структурный анализ, занятый вычлене¬нием и систематизацией крупных повествовательных единиц. Все «лишние» по отношению к структуре детали либо сбрасываются им со счетов (о них просто не упоми¬нается), либо трактуются (так пытался поступать и автор этих строк) 3 в качестве «прокладок» (катализов), обладающих косвенной функциональной значимостью, поскольку в совокупности они составляют индекс, ха¬рактеризующий героя или обстановку действия, — то есть в конце концов все же включаются в структуру.
Представляется, однако, что, стремясь к исчерпываю¬щему анализу (а какая цена методу, если он не позво-ляет постичь объект во всей его целостности, то есть, в данном случае, повествовательную ткань во всей ее про¬тяженности?), стараясь отметить и включить в структуру
1 Flaubert Q. Un coeur simple. — In: Flaubert G. Trois contes. P.: Charpentier-Fasquelle, 1893, p. 4. Русск. перевод E. Любимо-вой: Флобер Г. Собр. соч. в 3-х т., т. 3. М.: Худ. литература, 1984, с. 32.
2 Michelet J. Histoire de France, La Revolution, t. V. Lausanne: Ed. Rencontre, 1967. p. 292.
3 «Introduction a l'analyse structurale des recits». — «Communicati¬ons», № 8, 1966, p. 1—27.
392
мельчайшие детали, неделимые атомы, неуловимые пере¬ходы, мы неизбежно встретимся и с такими элементами, которые не могут быть оправданы никакой функцией, даже самой косвенной. С точки зрения структуры подоб¬ные элементы нарушают всякий порядок и кажутся, что еще тревожнее, своего рода повествовательными изли¬шествами, как будто повествование расточительно сорит «ненужными» деталями, повышая местами стоимость нарративной информации. Если, скажем, во флоберов¬ском описании фортепьяно еще может рассматриваться как индекс буржуазного благосостояния хозяйки, а «пирамида из коробок и картонок»— как коннотативный знак безалаберной и словно выморочной атмосферы дома Обенов, то никакой функцией, по-видимому, не объясни¬мо упоминание о барометре; этот предмет ничем не экзотичен, не показателен и вроде бы не входит в раз¬ряд вещей, заслуживающих упоминания. Столь же трудно структурно истолковать и все детали во фразе Мишле: для изложения событий важно лишь то, что вслед за живописцем явился палач, — не важно, ни сколь¬ко длился сеанс, ни какой величины была дверца, ни где она располагалась (зато сами мотивы двери и ти¬хонько стучащей в нее смерти, бесспорно, обладают символической значимостью). Как видно, такие «ненуж¬ные детали», даже если они и немногочисленны, все же неизбежны: какое-то их количество содержится в любом повествовательном тексте, по крайней мере в любом за¬падном повествовательном тексте обычного типа.
Подобные незначимые элементы текста («незначи¬мые» в точном смысле слова — исключенные по види-мости из семиотической структуры повествования) 4 сродни описаниям, даже если предмет, казалось бы, на¬именован одним-единственным словом (в действитель¬ности изолированного слова не бывает: тот же барометр упомянут у Флобера не сам по себе, он занимает особое место одновременно в синтаксическом и референциальном ряду); этим лишний раз подчеркивается загадоч-
4 В этом кратком сообщении мы не будем приводить примеров «незначимых» элементов, так как незначимость обнаруживается только на уровне крупной структуры; вне структуры элемент не является ни значимым, ни незначимым, его требуется включить в заранее изучен¬ный контекст.
393
ность всякого описания, о которой следует сказать особо. Общая структура повествования, по крайней мере в том виде, как она до сих пор изучалась различными исследо¬вателями, представляется по сути своей предиктивной; предельно схематизируя, не принимая во внимание многочисленные осложняющие схему отступления, за¬держки, возвращения назад и обманутые ожидания, можно сказать, что в каждой узловой точке повествова¬тельной синтагмы герою (или читателю, это не важно) говорится: если ты поступишь так-то, если ты выберешь такую-то из возможностей, то вот что с тобой случится (подсказки эти хотя и сообщаются читателю, тем не менее не теряют своей действенности). Совсем иное дело — описание: предсказательность в нем никак не от¬мечена; структура его «аналогическая», чисто суммирую¬щая, она не выстраивается в ряд выборов и альтерна¬тивных возможностей, которые делают повествование похожим на обширный dispatching *, обладающий референциальный (а не только дискурсивным) времен¬ным порядком. Данная оппозиция существенна для антропологии: когда под влиянием работ фон Фриша предположили, что у пчел имеется язык, то пришлось все же признать, что, даже если у этих насекомых и есть предиктивная система танцев (для сбора пищи), с описанием эта система не имеет ничего общего 5. Описа¬ние представляется, следовательно, «исключительной принадлежностью» так называемых высших языков — как ни странно, именно потому, что оно лишено какой-либо целенаправленности в плане поступков или в плане коммуникации. Своей обособленностью в повествователь¬ной ткани описание (как и «ненужная деталь») ставит вопрос, чрезвычайно важный для структурного анализа повествовательных текстов. Вопрос этот следующий: все ли в повествовании значимо? А если не все, если в по¬вествовательном ряду сохраняются кое-где «незначитель¬ные», незначимые участки, то в чем же, так сказать, зна¬чение этой незначимости?
Нужно прежде всего напомнить, что в одном из
5 Bresson F. La signification. — In: Bresson F. Problemes de psycho-linguistique. P.: PUF, 1963.
* Распределительная схема (англ.). — Прим. ред.
394
важнейших течений западной культуры описание отнюдь не выводилось за рамки смысловых категорий, и ему приписывалась цель, вполне признанная литературой как социальным институтом. Течение это — риторика, а цель эта — «красота»; на протяжении долгих веков описание выполняло эстетическую функцию. Уже в античности к двум открыто функциональным жанрам красноречия, судебному и политическому, очень рано прибавился тре¬тий, эпидейктический, — жанр торжественной речи, имеющей целью вызвать у слушателей восхищение (а не убедить их в чем-либо); независимо от ритуальных правил его употребления, будь то восхваление героя или надгробное слово, в нем содержалась в зародыше сама идея эстетической целенаправленности языка. В александрийской неориторике (II в. н. э.) культивиро¬вался экфрасис — жанр блестящего обособленного отрыв¬ка, самоценного, не зависящего от какой-либо функции в рамках целого и посвященного описанию места, времени, тех или иных лиц или произведений искусства. Такая традиция сохранялась на всем протяжении средних веков; в эту эпоху, как хорошо показал Курциус6, описание не подчиняется никакому реалистическому заданию; мало существенна его правдивость, даже правдоподобие; львов и оливы можно с легкостью помещать в страны Севера — существенны одни лишь нормы описательного жанра. Правдоподобие имеет здесь не референциальный, а от¬крыто дискурсивный характер, все определяется правила¬ми данного типа речи.
Если после этого вновь обратиться к Флоберу, то мы увидим, что эстетическая направленность описания все еще очень сильна. В «Госпоже Бовари» описание Руана— самого что ни на есть реального референта — подчинено строжайшим нормам особого эстетического правдоподо¬бия, о чем свидетельствует правка, вносившаяся в этот отрывок в ходе шести последовательных переработок 7. Ясно прежде всего, что поправки никоим образом не вызваны более тщательным учетом особенностей самого
6 С u r t i u s E. R. La Litterature europeenne et le Moyen Age latin. P.: PUF, 1956, chap. X.
7 Шесть редакций этого описания приведены в книге: А1balat A. Le Travail du style. P.: Armand Colin, 1903, p. 72 sq.
395
объекта: в глазах Флобера Руан остается неизменным, или, вернее, если он слегка и меняется от одной редак¬ции к другой, то лишь потому, что требовалось сделать более сжатым тот или иной образ, или устранить скопле¬ние одинаковых звуков, порицаемое правилами изящного стиля, или же «вставить» случайно найденное удачное выражение 8. Ясно, далее, что ткань описания, где, каза¬лось бы, первостепенное значение (по объему, по детализа¬ции) уделяется Руану как объекту, — в действительности лишь основа, на которую нашиваются жемчужины редких метафор, нейтрально-прозаический наполнитель, которым разбавлено драгоценное вещество символики; словно во всем Руане писателю важны только риторические фигуры, которыми он описывается, словно Руан достоин упоми¬нания только в виде замещающих его образов (мачты, словно игольчатый лес, острова, как большие неподвижно застывшие рыбы, облака... воздушными волнами без¬звучно разбивались об откос)*. Ясно, наконец, что все описание Руана выстроено таким образом, чтобы уподо¬бить Руан живописному полотну, — средствами языка воссоздается картина, словно уже написанная на холсте («Отсюда, сверху, весь ландшафт представлялся не¬подвижным, как на картине»). Писатель реализует здесь платоновское определение художника как подражателя третьей степени, так как он подражает тому, что уже само есть имитация некоей сущности 9. Таким образом, хотя описание Руана абсолютно «нерелевантно» для повество¬вательной структуры «Госпожи Бовари» (его нельзя соот¬нести ни с одним функциональным отрезком, ни с каким обозначением характеров, обстановки или общих сужде¬ний), — оно тем не менее отнюдь не выбивается из общего порядка; оно оправдано если и не внутренней логикой про¬изведения, то по крайней мере законами литературы; у него есть «смысл», зависящий от соответствия не предмету,
8 Подобный механизм точно отмечен у Валери в «Литературе», где разбирается бодлеровская строчка «Великодушная служанка...» 'La servante au grand c?ur...': «Этот стих сам собой пришел в голову Бодлеру... И Бодлер стал продолжать. Он похоронил кухарку на лужай¬ке, что противно обычаю, зато в рифму, и т. д.»
* Фрагменты, вошедшие в окончательный текст «Госпожи Бова¬ри», приводятся в переводе Н. Любимова. — Прим. перев.
9 Платон. Государство, X, 599.
396
а правилам изображения, принятым в данной культуре. В то же время во флоберовском описании с эстети-ческой задачей смешиваются и «реалистические» тре¬бования — создается впечатление, что возможность и необходимость описания или (в случае однословных опи¬саний) наименования референта определяются только его точностью, которая стоит выше всех других функций или особняком от них. Эстетические правила вбирают в себя правила референциальные — по крайней мере, мас¬кируются ими; очень может быть, что вид Руана из окна дилижанса, спускающегося по склону, «объективно» ничем и не отличается от панорамы, описанной Флобе¬ром. Такое смешение, подмена норм дает двоякий вы¬игрыш. С одной стороны, эстетическая функция сообща¬ет «отрывку» смысл, и у нас больше не закружится го¬лова от обилия деталей: ведь если бы речевой поток не направлялся и не сдерживался требованиями повество¬вательной структуры с ее функциями и индексами, мы уже не знали бы, где остановиться на пути детализа¬ции, — любой «вид», не будь он подчинен эстетическому или риторическому заданию, стал бы неисчерпаем для дискурса, в нем всегда оставались бы какие-нибудь еще не описанные уголки, мелкие предметы, пространственные изгибы или оттенки цвета. С другой стороны, предпо¬лагая референт реально существующим, воспроизводя его с деланной покорностью, реалистическое описание из¬бегает соскальзывания в фантазматичность, а это счита¬лось необходимым условием «объективности» изложения. В классической риторике фантазм был в какой-то мере официально признан под названием особой фигуры — «гипотипозы», которая «представляет вещи перед взором слушателя», причем не просто констатирует их наличие, а изображает их во всем блеске вожделения (она входи¬ла в состав выразительной, красочной речи — illustris oratio) ; реализм, открыто отказавшись от норм ритори¬ческого кода, вынужден поэтому искать новую мотиви¬ровку для описаний.
Неделимые остатки, образующиеся при функциональ¬ном анализе повествования, отсылают всякий раз к тому, что обычно называют «конкретной реальностью» (мелкие жесты, мимолетные позы, незначительные предметы, из¬быточные реплики). Таким образом, чистое «изображе-
397
ние реальности», голое изложение «того, что есть» (или было) как бы сопротивляется смыслу, подтверждая тем самым распространенную мифологическую оппозицию пережитого (то есть живого) и умопостигаемого. Доста¬точно напомнить, что в современной идеологии навязчи¬вые призывы к «конкретности» (которые риторически адресуются гуманитарным наукам, литературе, нормам поведения) всегда нацелены своим острием против смыс¬ла, словно в силу какого-то особого положения ничто живое не может быть значимым, и наоборот. Вымыш¬ленное повествование строится, по определению, соглас¬но модели, основная норма которой связана с умопостигаемостью, и «реальность» (разумеется, воплощенная в письме) оказывает здесь весьма незначительное сопротив¬ление структуре. Зато в историческом повествовании, обя¬занном излагать «то, что реально произошло», отсылка к этой реальности становится основной; тут уже неважно, что деталь нефункциональна, главное, чтобы она прямо указывала на «то, что имело место»; «конкретная реаль¬ность» сама по себе является достаточной причиной, чтобы о ней говорить. Именно история (исторический дискурс — historia rerum gestarum *) и служит образцом для тех видов повествования, где межфункциональные промежутки заполняются структурно излишними элемен¬тами; логично поэтому, что реализм в литературе сложился примерно в те же десятилетия, когда воцарилась «объек¬тивная» историография; сюда же относится и нынешнее развитие технических средств, форм и институтов, по¬рожденных постоянной потребностью удостоверяться в доподлинности «реального», — такова фотография (пря¬мое свидетельство о том, «что было здесь»), репортаж, выставки древностей (вспомнить хотя бы успех тутанхамоновского шоу), туристические поездки к памятникам и местам исторических событий. Все это говорит о том, что «реальность» как бы довлеет себе, что у нее хватает силы отрицать всякую «функциональность», что сообще¬ние о ней совершенно не нуждается во включении в какую-либо структуру и что «там-так-было» — это уже достаточная опора для слова.
Еще со времен античности «реальность» относилась
* Изложение деяний (лат.). — Прим. перев.
398
к сфере Истории и тем четче противопоставлялась прав¬доподобию, то есть внутреннему порядку повествова¬ния («подражания» или «поэзии»). Классическая куль¬тура веками жила мыслью о том, что реальность никоим образом не может смешиваться с правдоподобием. Прежде всего, правдоподобное — это всего лишь то, что признается таковым (opinable), оно всецело подчинено мнению (толпы); по словам Николя, «вещи следует рассматривать не так, как они суть сами по себе, и не так, как о них известно говорящему или пишущему, но лишь соответственно тому, что о них знают читатели или слушатели» 10. Далее, правдоподобное — это общее, а не частное, которым занимается История; отсюда тенденция классических текстов к функционализации всех деталей, к тотальной структурированности, не оставляющей как бы ни единого элемента под ручательство одной лишь «реальности». Наконец, в рамках правдоподобия ни один элемент не исключает противоположного ему, так как опирается на мнение большинства, но не на абсолют¬ный авторитет. В зачине всякого классического текста (то есть подчиненного правдоподобию в его древнем смысле) подразумевается слово Esto (пусть, например... , предположим...). Что же касается «реальных», дробных, «прокладочных» элементов, о которых у нас идет речь, то они отрицают этот неявный зачин и располагаются в структурной ткани без всяких предварительных условий. Именно здесь проходит водораздел между античным правдоподобием и реализмом новой литературы; но здесь же появляется и новое правдоподобие, которое есть не что иное, как сам реализм (будем называть так всякий дискурс, включающий высказывания, гарантиро¬ванные одним лишь референтом).
С семиотической точки зрения «конкретная деталь» возникает при прямой смычке референта с означающим; из знака исключается означаемое, а вместе с ним, разу¬меется, и возможность разрабатывать форму означаемо¬го, то есть, в данном случае, повествовательную структуру (конечно, реалистическая литература и сама является по¬вествовательной, но лишь потому, что реализм в ней
10 Цит. по: Bray R. Formation de la doctrine classique. P.: Nizet, 1963, p. 208.
399
сводится к дробным, разбросанным там и сям «деталям»; в целом любой повествовательный текст, сколь угодно реалистический, развивается на нереалистических путях). Такое явление можно назвать референциальной ил¬люзией11. Истина этой иллюзии в том, что «реальность», будучи изгнана из реалистического высказывания как денотативное означаемое, входит в него уже как означае¬мое коннотативное; стоит только признать, что известно¬го рода детали непосредственно отсылают к реальности, как они тут же начинают неявным образом означать ее. «Барометр» у Флобера, «небольшая дверца» у Мишле говорят в конечном счете только одно: мы — реальность; они означают «реальность» как общую категорию, а не особенные ее проявления. Иными словами, само от¬сутствие означаемого, поглощенного референтом, стано¬вится означающим понятия «реализм»: возникает эф¬фект реальности, основа того скрытого правдоподобия, которое и формирует эстетику всех общераспростра¬ненных произведений новой литературы.
Это новое правдоподобие резко отличается от старо¬го, поскольку сущность его не в соблюдении «законов жанра», или даже в их видимости, а в стремлении нару¬шить трехчленную природу знака, сделать так, чтобы предмет встречался со своим выражением без посред¬ников. В этой предпринятой реализмом попытке, безус¬ловно, присутствует тенденция к расщеплению знака — по-видимому, важнейшее отличие всей современной куль¬туры, — но присутствует как бы в регрессивной форме, ибо знак расщепляется во имя восстановления во всей его полноте референта, тогда как сегодня задача состоит в том, чтобы, напротив, опустошить знак, бесконечно оттесняя все дальше его предмет, — вплоть до радикаль¬ного пересмотра всей многовековой эстетики «изображе¬ния».
1968, «Communications».
11 Эту иллюзию ярко иллюстрирует программа, которую выдвигал перед историком Тьер: «Быть правдивым — и только, самому уподобить¬ся фактам, слиться с фактами, жить только фактами, следовать фактам, не идя дальше них» (цит. по: J u l l i a n С. Historiens francais du XIXe siecle. P.: Hachette, s.d., p. LXIII).
С чего начать?
Перевод С. Н. Зенкина........ . . 401
Допустим, некий студент решил предпринять анализ структуры литературного произведения. Он достаточно сведущ и не удивляется разноречивости концепций, ко¬торые порой неправомерно объединяются под названием структурализма; он достаточно рассудителен и понимает, что в структурном анализе не существует, как в социоло¬гии или филологии, канонического метода, который бы позволял автоматически выявлять всю структуру текста; он достаточно мужествен, заранее предвидит и стойко переносит все ошибки, неполадки, неудачи и разочаро¬вания («к чему все это?»), которые непременно встре-тятся ему на пути анализа; он достаточно раскован и смело пускает в ход всю свою восприимчивость к различ¬ным структурам, все свое чутье множественных смыслов; наконец, он достаточно диалектичен и ясно понимает, что дело не в «истолковании» текста, не в достижении «позитивного результата» (то есть означаемого в послед¬ней инстанции — будь то истинный смысл произведения или обусловившая его причина), а, наоборот, в том, чтобы в ходе анализа (или чего-то подобного анализу) самому вступить в игру означающих, в процесс письма, одним словом, осуществить в свoeй рaбoтe множественность текста. Если даже найдется такой герой (или мудрец), то перед ним еще возникнет затруднение кон¬кретно-практического порядка, простой вопрос, встаю¬щий перед каждым, кто приступает к новому делу: с чего начать? Казалось бы, это затруднение касается лишь чисто практических шагов, даже жестов (вопрос в том, какой первый жест мы делаем при встрече с текстом), но, в сущности, именно из него выросла вся современная лингвистика; чтобы преодолеть невыносимую, подав¬ляющую разнородность человеческого языка (такое ощу-
401
щение как раз и бывает, когда не можешь начать), Соссюр решил выбрать и проследить одну нить из клуб-ка, один уровень явлений — уровень смысла; так и была построена система языка. Сходным образом и в тексте, уже на вторичном уровне дискурса, одновременно раз¬вертываются многие коды, не сразу поддающиеся сис¬тематизации, а еще точнее, наименованию. Действитель¬но, здесь все способствует тому, чтобы текст предстал как бы очищенным от всяких структур: и развертывание дискурса, и естественность строения фраз, и кажущееся равноправие значимых и незначимых элементов, и наши школьные предрассудки (представления о «плане», «пер¬сонаже», «стиле»), и одновременное появление различ¬ных смыслов, и прихотливость, с которой возникают и исчезают в толще текста те или иные тематические жилы. Феномен текста переживается в своем богатстве и природности (и то и другое способствует его сакрализа-ции) — как распознать и вытянуть из него первоначаль¬ную нить, как определить коды, которые надо анализи¬ровать в первую очередь? Эта практическая проблема и будет здесь намечена на примере первоначального ана¬лиза романа Жюля Верна «Таинственный остров» 1.
По словам одного лингвиста, «в каждом процессе переработки информации можно выделить некоторую совокупность А исходных сигналов и некоторую совокуп¬ность В наблюдаемых заключительных сигналов. Задача научного описания состоит в том, чтобы объяснить, как происходит переход от А к В, каковы связи между ними. Промежуточные звенья между А и В могут быть или слишком многообразными (и поэтому ускользающи¬ми от нашего наблюдения) или же просто недоступными никакому наблюдению. В этом случае в кибернетике го¬ворят о «черном ящике» 2. Формулировкой Ревзина мож¬но руководствоваться и приступая к изучению романа —
1 Серия «Livre de poche». P.: Hachette, 1966, 2 v. [Цитаты и указа¬ния страниц в тексте соответствуют изданию: В e p н Ж. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 5. М., 1956. Перевод Н. Немчиновой и А. Худадовой. — Прим. перев.].
2 Revzin I. I. Les principes de la theorie des modeles en linguisti¬que. — «Langages», № 15, septembre 1969, p. 28 (CM. P e в з и н И. И. Ме¬тод моделирования и типология славянских языков. М.: Наука, 1967, с. 25. — Прим. ред.).
402
этой «движущейся» информационной системы: определим вначале два предельных множества (исходное и финаль¬ное), а затем проследим, какими путями второе множе¬ство смыкается с первым или отличается от него, что при этом преобразуется, что приходит в движение; в об¬щем, следует изучить переход от одного состояния рав¬новесия к другому, пройти сквозь «черный ящик». Однако понятия исходного или заключительного множества от¬нюдь не просты. Не все повествовательные тексты вы¬строены так образцово-дидактически, как романы Баль¬зака, которые открываются длинным статично-синхрони¬ческим описанием, обширным и неподвижным нагромож¬дением исходных данных, которое именуется картиной («картина» — одно из понятий риторики, заслуживающее особого рассмотрения в том смысле, что оно идет напе¬рекор движению языка); во многих случаях читатель попадает сразу in medias res *, детали картины рассеи¬ваются на всем протяжении диегесиса, который начи¬нается с первым же словом текста. Так происходит и в «Таинственном острове»: дискурс сразу обращается прямо к фабуле (недаром речь идет о буре). Чтобы зафиксировать исходную картину, остается одно средство — диалектически использовать заключительную картину (или, в зависимости от материала, наоборот). «Таинственный остров» заканчивается двумя сценами: первая изображает шестерых колонистов на голой скале, где их ждет смерть от лишений, если на выручку не придет яхта лорда Гленарвана; во второй сцене спасен¬ные от смерти колонисты живут на цветущей земле, освоенной ими в штате Айова. Эти две последние сце¬ны, разумеется, парадигматически соотнесены: процве¬тание противопоставляется бедствию, богатство — ли¬шениям; такая заключительная парадигма должна иметь какой-то коррелят вначале, если же такого коррелята нет или он представлен лишь частично, значит, в «черном ящике» произошла потеря, растворение или преобразо¬вание информации. Именно, так и обстоит дело: коло¬низация острова служит предваряющим коррелятом ко-лонизации в Айове, но этот коррелят совпадает с самим диегесисом, он разворачивается на протяжении всех
* В разгар действия (лат.). — Прим. перев.
401
событий романа и потому не составляет «картины»; зато финальная сцена лишений (на скале) симметрична на¬чальной и перекликается с мотивом лишений, пережи¬тых колонистами вначале, когда после аварии воздуш¬ного шара они все попадают на остров и вынуждены обживать его начиная с нуля (у них только и есть что собачий ошейник да пшеничное зернышко). Так благо¬даря симметрии восстанавливается исходная картина — это совокупность данных, содержащихся в первых главах романа, до тех пор пока колонисты, разыскав пропавшего Сайреса Смита, не собираются в полном составе и не сталкиваются в алгебраически чистом виде с совершен¬ным отсутствием орудий труда («Огонь потух» — этими словами заканчивается глава VIII и вместе с нею исход¬ная картина романа). Итак, информативная система строится как повторение одной и той же парадигмы («лишения / колонизация»), но в этом повторении есть изъян: лишения в обоих случаях оформляются как «картины», а колонизация представляет собой «фабулу». Такая несогласованность и служит первоначальным клю¬чом, «открывающим» аналитический процесс; в ходе анализа выделяются два кода — один, статический, свя¬зан с ситуацией Адама, в которой оказываются колони¬сты (это особенно очевидно в исходной и заключительной картинах), а второй, динамический (что не отменяет смысловой природы его элементов), связан с эвристиче¬ским трудом колонистов, которые «открывают», «выяв¬ляют» природу острова и одновременно «проникают» в его тайну.
После этого первоначального размежевания оба выде¬ленных кода можно уже легко (пусть и не быстро) под¬вергнуть постепенной разработке. Адамовский код (вернее, поле мотивов, связанных с изначальными лише¬ниями; оно само объединяет в себе несколько кодов) включает в себя морфологически разнородные элементы: элементы действия, индексы, семы, констатации, поясне¬ния. Вот, к примеру, два связанных с ним событийных ряда. Первым из них роман открывается — это сниже¬ние воздушного шара. Здесь как бы сплетаются две нити — событийно-физическая, на которой располагают¬ся один за другим все этапы спуска летательного аппара¬та (такого рода элементы легко поддаются вычленению,
404
учету и структурной систематизации), и «символиче¬ская», на которой нанизываются все признаки, марки-рующие (в лингвистическом смысле слова) утрату иму¬щества, вернее, добровольное расставание с ним, в ре¬зультате чего колонисты остаются на острове без вещей, без орудий и без ценностей. Особенно символичен здесь отказ от золота (10 000 франков выбрасываются за борт в попытке набрать высоту), тем более что это золото вра¬гов-южан; символичен и ураган, ставший причиной ава¬рии, — его исключительность, катастрофичность реши¬тельно отрывают людей от всяких общественных связей (в мифе о Робинзоне буря, открывающая повествование, служит не просто логическим элементом, объясняющим причину кораблекрушения, но и элементом символиче¬ским, изображающим революционное освобождение от собственности, превращение человека общественного в человека первозданного). Второй ряд, соотносящийся с темой Адама, — первая разведка, в ходе которой ко¬лонисты выясняют, выбросило ли их на остров или на континент. Этот ряд строится в форме загадки, причем эпизод разгадки весьма поэтичен, ибо истина наконец обнаруживается лишь благодаря лунному свету; ясно, что в интересах дискурса земля должна оказаться остро¬вом, и островом необитаемым, так как для дальнейшего развития дискурса требуется, чтобы человеку было дано сырье без орудий труда, но и без противодействия дру¬гих людей. Оттого всякий человек, не принадлежащий к числу колонистов, — враг не только поселенцам, но и самому дискурсу; как Робинзон, так и потерпевшие ава¬рию в романе Жюля Верна одинаково боятся чужих людей, незваных гостей, которые бы нарушили последо¬вательность изложения и чистоту дискурса; блистатель¬ное завоевание Орудия («Таинственный остров» прямо противоположен научно-фантастическим романам о бу-дущем — это роман о самом далеком прошлом, об изго¬товлении первых орудий) не должно омрачаться никаким вмешательством человека (не считая самих членов группы).
К теме Адама относятся также и все мотивы изо¬бильной природы — их можно назвать кодом Эдема (Адам I Эдем — любопытное фонетическое соответст¬вие). Райское изобилие принимает три формы; во-пер-
405
вых, природа острова сама по себе совершенна — «земля здесь казалась плодородной, а природа красивой и бога¬той многими дарами» (с. 40); во-вторых, в ней всегда кстати находится все необходимое (хочешь ловить птиц на удочку? — тут же, поблизости оказываются и лианы для лесы, и колючки для крючка, и черви для приман¬ки); в-третьих, возделывая природу, колонисты не испы¬тывают никакой усталости, или, по крайней мере, их усталость устраняется дискурсом. Суть этой третьей фор¬мы райского изобилия в том, что всемогущий дискурс отождествляется со щедрой природой, вносит во все легкость и радость, сокращает время, усталость и труд¬ности; если нужно чуть ли не голыми руками повалить огромное дерево, то достаточно одной фразы — и дело сделано. При дальнейшем анализе следовало бы подроб¬нее остановиться на этой благодати, которую верновский дискурс ниспосылает на всякое дело.
С одной стороны, здесь все происходит в противо¬положность «Робинзону Крузо» — у Дефо труд не просто изнурителен (чтобы это сказать, хватило бы одного-единственного слова), но он еще и показан во всей своей мучительности через тягостный отсчет дней и не¬дель, необходимых для малейшей трансформации приро¬ды (в одиночку): сколько времени и усилий нужно, чтобы одному, каждый день понемножку, передвинуть тяжелую пирогу! У Дефо дискурс призван показать труд словно замедленной съемкой, свести его к «затратам рабо¬чего времени» (в чем и заключается отчуждение труда). С другой стороны, здесь прекрасно видно диегетическое и вместе с тем идеологическое всеси¬лие дискурсивного акта: прием эвфемизма позволяет верновскому дискурсу стремительно продвигаться в освоении природы, шагая от задачи к задаче, а не от усилия к усилию; в нем возвеличивается научное знание и вместе с тем замалчивается труд. Верновский дискурс — это поистине идиолект «инженера» (каковым и является Сайрес Смит), технократа, хозяина науки; он воспевает преобразовательный труд и вместе с тем скрадывает его, препоручая другим; своими эллипсисами верновский дискурс радостно перепрыгивает через время и усилия, то есть через тяготы труда, — и тем самым от¬брасывает все это в область несуществующего, неназван-
406
ного; труд, словно вода, уходит в песок, исчезает в пус¬тых промежутках фразы.
Еще один субкод адамовской темы — код колониза¬ции. Уже по природе своей это слово многозначно— здесь и «детский лагерь отдыха» (colonie de vacances), и «колония насекомых», и «исправительная колония», и «колониализм»; в данном же случае потерпевшие кру¬шение становятся колонистами, но колонизуют они не¬обитаемый остров, девственную природу. На этой идилли¬ческой картинке стыдливо стерто все социальное, земля преобразуется без какой бы то ни было помощи рабского труда — перед нами просто земледельцы, а не колониза¬торы. Однако, составляя перечень кодов, полезно было бы отметить, что отношения между персонажами, хотя и слабо, условно намеченные, складываются все же на отдаленном фоне колониальной проблематики. Все колонисты трудятся не покладая рук — но все-таки труд между ними иерархически разделен (Сайрес — вождь-технократ; Спилет — охотник; Герберт — наследник; Пенкроф — квалифицированный рабочий; Наб — слуга; Айртон — каторжник, занятый колонизацией в самой примитивной форме, уходом за скотом); кроме того, негр Наб по сущности своей раб — не потому, что с ним об¬ращаются грубо или хотя бы высокомерно (напротив, в романе господствуют гуманность и равенство), даже не потому, что он выполняет черную работу, а потому, что в самой «природе» его душевного склада есть нечто животное: интуитивно восприимчивый, постигающий мир чутьем и предчувствием, он близок к собаке Топу: это низшая ступень лестницы, основание пирамиды, на вер¬шине которой царит всемогущий Инженер. Не следует, наконец, забывать и о том, что историческая обста¬новка действия тоже имеет колониальный характер: ге¬рои романа становятся изгнанниками из-за Гражданской войны в США, которая через их посредство порождает и несет в мир новую колонизацию, благодаря свойствам дискурса магически очищенную от всякого социального отчуждения (отметим кстати, что и приключения Робин¬зона Крузо начинаются с чисто колониальной задачи — Робинзон рассчитывает обогатиться на торговле черными рабами, переселяя их из Африки на сахарные плантации Бразилии: миф о необитаемом острове опирается на
407
животрепещущую проблему — как возделывать землю без рабов?); и когда колонисты, лишившись своего острова, основывают новую колонию в Америке, то про¬исходит это в западном штате Айова, с территории которого столь же магически «исчезло» коренное насе¬ление (индейцы сиу), как и все туземцы с Таинственного острова.
Второй код, который следует (для начала) разо¬брать, — это код распашки-разгадки (defrichement-de-chiffrement), если воспользоваться созвучием слов. К нему относятся все многочисленные элементы, марки-рующие одновременно вторжение в природу и раскрытие ее тайн (так, чтобы, дойдя до ее сути, сделать ее доход¬ной) . Данный код содержит два субкода. Первый вклю¬чает в себя преобразование природы, так сказать, природными средствами — знаниями, трудом, настойчи¬востью. Задача здесь в том, чтобы открыть природу, найти пути к ее использованию, — то есть это код «эври¬стический». В нем изначально имеется особая символи¬ка — мотивы «проникновения в недра», «взрыва», одним словом, как уже сказано, вторжения; природа — это твердая кора, состоящая прежде всего из минералов, соответственно функция и энергия Инженера направлены на проникновение в ее глубины; чтобы «заглянуть внутрь», нужно «взорвать», чтобы высвободить сокро¬вища недр, нужно «взрезать» землю. «Таинственный остров» — плутонический роман, где пущена в ход мощ¬ная (в силу своей амбивалентности) теллурическая образность: недра земли предстают одновременно и как убежище, которым можно завладеть (Гранитный дворец, подземный грот «Наутилуса»), и как логово разруши¬тельных сил (вулкан). Жан Помье уже выдвигал (при-менительно к XVII в.) плодотворную идею изучения ха¬рактерных метафор эпохи; в этом смысле несомненна связь верновского плутонизма и технических задач промышленного века, который повсеместно вгрызался в землю, в tellus, с помощью динамита для разработки рудников, прокладки шоссейных и железных дорог, со¬оружения мостов. Землю вскрывают, чтобы извлечь железо (показательно, что благодаря Эйфелю этот вул¬канический, огненный материал приходит на смену кам¬ню — материалу, унаследованному от предков и «соби-
408
раемому» прямо на поверхности), а железо, в свою очередь, помогает окончательно пробить земную твердь и воздвигнуть средства сообщения (мосты, рельсы, вок¬залы, виадуки).
Плутоническая символика строится на особом техни¬ческом мотиве — мотиве орудия. Подобно языку и брач¬ному обмену (как показали Леви-Стросс и Якобсон), орудие труда порождено стремлением к. умножению и само по сути своей является средством умножения: от природы (или от провидения) колонисты получают зер¬нышко или спичку, оказавшиеся в кармане у мальчика, и они превращают единицу во множество. «Таинственный остров» изобилует примерами такого умножения: орудие создает новые орудия — такова сила числа, сила мно¬жителя, о порождающей способности которого подробно рассказывает Сайрес; в этой силе есть и магия («При желании все можно сделать!» — с. 38), и разум (знаме¬натель прогрессии как раз и называется raison *, бух¬галтерская арифметика этимологически и идеологически сливается с ratio), и отрицание случайности (число-мно¬житель позволяет не начинать, как в игре, с нуля после каждой попытки, после каждого погасшего костра, после каждого урожая). Соответственно и код орудия зиж¬дется на мотиве трансформации — мотиве одновременно техническом (превращение материи), магическом (мета¬морфоза) и лингвистическом (порождение знаков). Хотя трансформация всегда получает научное объяснение в понятиях кода школьных знаний (Физики, Химии, Бо¬таники, уроков «Вещи вокруг нас»), она всякий раз стро¬ится как неожиданность, зачастую как загадка (быстро разгадываемая). Во что бы такое можно превратить тюленей? — Ответ (отсроченный по закону повествова¬тельной задержки): в кузнечные мехи и свечи. Не только наука (она здесь лишь предлог), но и прежде всего сам дискурс требует, чтобы, во-первых, начало и конец такой операции, исходное сырье и конечный продукт (водоросли и нитроглицерин) как можно дальше отстоя¬ли друг от друга, а во-вторых, чтобы согласно принципу бриколажа каждый природный или извне полученный предмет извлекался из своего «здесь-бытия» и использо-
* Буквально: 'разум' (фр.). — Прим. перев.
409
вался в неожиданном применении; так, полотнище аэро¬стата, многофункциональное в силу своей бросовой при¬роды (обломок аварии), превращается и в белье, и в мельничные крылья. Как легко понять, этот код, откры¬вающий бесконечную игру новыми, неожиданными клас¬сификациями, весьма близок к языковой деятельности: преобразующая способность Инженера состоит во власти над словами, так как в обоих случаях происходит ком¬бинирование элементов (слов, материалов) для образо¬вания новых систем (фраз, вещей) и в обоих случаях используются устойчивые коды (язык, научное знание), содержание которых стереотипно, но это не мешает по¬этическому (и пойетическому) эффекту. С трансформа¬тивным кодом (одновременно лингвистическим и демиургическим) можно также соотнести особый субкод, вклю¬чающий множество элементов, — код номинации. Едва добравшись до вершины горы, откуда видна панорама всего острова, колонисты тут же начинают составлять его карту, то есть зарисовывать его очертания и давать им названия; этот первичный акт осознания и освоения мира оказывается актом языковым, так что вся подле-жащая трансформации неопределенная субстанция ост¬рова становится практической действительностью лишь пройдя сквозь сеть языка; составляя карту своего остро¬ва, то есть своей «действительности», колонисты в итоге лишь реализуют на практике определение языка как «mapping'a» * действительности.
Как уже было сказано, от-крытие (de-couverte) остро¬ва служит основой для двух кодов, первый из которых — код эвристический, совокупность элементов и моделей, связанных с преобразованием природы. Второй код, гораздо более условный с точки зрения романной тради¬ции, — это код герменевтический; в нем берут начало разнообразные загадки (всего около десятка), которыми обосновывается название книги («Таинственный остров») и которые разгадываются лишь в конце, когда колони¬стов зовет к себе капитан Немо. Подобный код уже изу¬чен в связи с другим текстом 3, и здесь достаточно за-
* Съемка, картографирование (англ.). — Прим. перев. 3 «S/Z», анализ новеллы Бальзака «Сарразин» (P.: Seuil, «Tel Quel». 1970).
410
верить, что в «Таинственном острове» присутствуют все его формальные составные части: постановка загад¬ки, ее тематизация, формулировка, различные элементы ретардации (отсрочивающие ответ), разгадка-раскрытие. Эвристика и герменевтика весьма близки друг к другу, так как в обоих случаях нужно снять покровы с тайны острова, проникнуть в его суть: поскольку он воплощает собой природу, нужно добыть ее богатства, поскольку же это обиталище капитана Немо, нужно распознать его чудесного хозяина. Весь роман построен на расхожей пословице: помогай себе сам (работай сам над укро¬щением природы), и небо тебе поможет (Немо, убедив¬шись в твоем высоком человеческом достоинстве, отне¬сется к тебе с доброжелательностью божества). От этих двух сближающихся друг с другом кодов зависят две различные, хотя и взаимодополнительные символики: мо¬тивы вторжения в природу, ее подчинения, укрощения, преобразования, применения знаний (как уже сказано, именно знаний прежде всего, а не труда) отсылают к от¬казу от наследства, к символике Сына, тогда как дей¬ствия Немо (правда, у взрослого Сына — Сайреса — по¬рой не хватает терпения их выносить) влекут за собой символику Отца (см. ее анализ у Марселя Море) 4; странный, однако, этот отец, странный бог, который зо¬вется Никто.
Может показаться, что такое первоначальное «распу¬тывание» текста принадлежит скорее к тематической, чем к формальной критике; однако такая методологиче¬ская вольность необходима; анализ текста нельзя начать (а вопрос стоял именно так) без предварительного се¬мантического, содержательного взгляда на этот текст — будь то под тематическим, символическим или идеоло¬гическим углом зрения. Остается теперь выполнить работу (огромную) по прослеживанию первоначально намечен¬ных кодов, по определению их элементов, по прочер¬чиванию рядов, но также и по выявлению других кодов, которые проступают на фоне первичных. Можно сказать, что исходить (как и сделано в данном случае) из некоторого сгущения смысла мы вправе лишь постольку, поскольку при дальнейшем (бесконечном) анализе зада-
4 More Marcel. Le tres curieux Jules Verne. P.: Gallimard, 1960.
411
чей будет, напротив, взорвать текст, рассеять первона¬чальное облако смыслов, первоначальный образ содержа¬ния. Структурный анализ нацелен не на истинный смысл текста, а на его множественность; потому работа наша должна заключаться не в том, чтобы, отправляясь от форм, распознавать, освещать и формулировать содер¬жание (для этого никакой структурный метод не нужен), а в том, чтобы, напротив, рассеивать, раздвигать, при¬водить в движение первоначально данное содержание под действием науки о формах. Такой метод пойдет на пользу аналитику, давая ему, во-первых, возможность начать анализ, исходя из нескольких хорошо известных кодов, а во-вторых, право отбросить эти коды (преобра¬зовать их) в дальнейшем развитии уже не текста (в тек¬сте все коды прочерчиваются одновременно, в объемном пространстве), но своей собственной работы.
1970, «Poetique».
От произведения к тексту.
Перевод С. Н. Зенкина...... 413
Известно, что за последние годы в наших представ¬лениях о языке и, следовательно, о произведении (ли-тературном), которое обязано языку уже своим сущест¬вованием как феномен действительности, произошло (или происходит) определенное изменение. Это изме¬нение очевидным образом связано с новейшими до-стижениями таких дисциплин, как лингвистика, антро¬пология, марксизм, психоанализ (слово «связано» имеет здесь нарочито нейтральный смысл: речь не идет о зависимости, будь то даже зависимость гибкая и диа¬лектическая). Новый взгляд на понятие произведения возник не столько вследствие внутреннего обновления каждой из этих дисциплин, сколько вследствие их встречи друг с другом на уровне объекта, традиционно не подлежавшего ведению ни одной из них. Действи¬тельно, работа на стыке дисциплин, которой в науке придают сейчас важное значение, не может быть ре¬зультатом простого сопоставления различных специаль¬ных знаний; это дело небезобидное, и по-настоящему (а не просто в виде благих пожеланий) оно начинается тогда, "когда единство прежних дисциплин раскалы¬вается — порой даже насильственно, с шумными потря¬сениями, обусловленными модой, — и уступает место новому объекту и новому языку, причем ни тот ни другой не умещаются в рамках наук, которые пред¬полагалось тихо и мирно состыковать друг с другом; затруднения в классификации как раз и служат симп¬томом перемен. Перемены, коснувшиеся и понятия «произведения», не следует, однако, переоценивать: они — лишь часть общего эпистемологического сдвига (скорее именно сдвига, чем перелома), перелом же, как не раз отмечалось, произошел в прошлом веке, с появлением марксизма и фрейдизма; никаких новых решительных перемен с тех пор не последовало, так что в известном смысле можно сказать, что мы вот уже
413
сто лет как заняты повторением пройденного. Исто¬рия — наша История — ныне позволяет нам лишь сме-щать и варьировать кое-какие представления, кое в чем идти дальше, кое от чего отказываться. Подобно тому как учение Эйнштейна требует включать в со¬став исследуемого объекта относительность системы отсчета, так и в литературе совместное воздействие марксизма, фрейдизма и структурализма заставляет ввести принцип относительности во взаимоотношения скриптора, читателя и наблюдателя (критика). В проти¬вовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньюто¬новски), возникает потребность в новом объекте, полу¬ченном в результате сдвига или преобразования преж¬них категорий. Таким объектом является Текст. Пони¬маю, что слово это сейчас в моде (я и сам склонен его употреблять достаточно часто) и тем самым вызы¬вает у некоторых недоверие; потому-то мне и хотелось бы сформулировать себе для памяти основные пропо¬зиции, в пересечении которых и располагается, на мой взгляд, Текст. Слово «пропозиция», «предложение» следует здесь понимать скорее в грамматическом, чем в логическом смысле; это не доказательства, а просто высказывания, своего рода «пробы», попытки подхода к предмету, в которых допускается метафоричность. Ниже следуют эти пропозиции; они касаются таких вопросов, как «метод», «жанры», «знак», «множест¬венность», «филиация», «чтение» и «удовольствие».
*
1. Текст не следует понимать как нечто исчислимое. Тщетна всякая попытка физически разграничить произ-ведения и тексты. В частности, опрометчиво было бы утверждать: «произведение — это классика, а текст — авангард»; речь вовсе не о том, чтобы наскоро соста¬вить перечень «современных лауреатов» и расставить одни литературные сочинения in *, а другие out ** по хронологическому признаку; на самом деле «нечто от Текста» может содержаться и в весьма древнем произ¬ведении, тогда как многие создания современной литера-
* Внутри (англ.). — Прим. перев. ** Вне (англ.). — Прим. перев.
414
туры вовсе не являются текстами. Различие здесь вот в чем: произведение есть вещественный фрагмент, зани¬мающий определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст — поле методологи¬ческих операций (un champ methodologique). Эта оппозиция отчасти напоминает (но отнюдь не дубли¬рует) разграничение, предложенное Лаканом: «реаль¬ность» показывается, а «реальное» доказывается; сход¬ным образом, произведение наглядно, зримо (в книж¬ном магазине, в библиотечном каталоге, в экзаменацион¬ной программе), а текст — доказывается, высказывает¬ся * в соответствии с определенными правилами (или против известных правил). Произведение может помес¬титься в руке, текст размещается в языке, существует только в дискурсе (вернее сказать, что он является Тек¬стом лишь постольку, поскольку он это сознает). Текст — не продукт распада произведения, наоборот, произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом. Или иначе: Текст ощущается только в процессе работы, произ¬водства. Отсюда следует, что Текст не может неподвижно застыть (скажем, на книжной полке), он по природе своей должен сквозь что-то двигаться — например, сквозь произведение, сквозь ряд произведений.
*
2. Точно так же Текст не ограничивается и рамками добропорядочной литературы, не поддается включению в жанровую иерархию, даже в обычную классификацию. Определяющей для него является, напротив, именно способность взламывать старые рубрики. К какой руб¬рике отнести Жоржа Батая? Кто этот писатель — рома¬нист, поэт, эссеист, экономист, философ, мистик? От¬вет настолько затруднителен, что обычно о Батае предпочитают просто не упоминать в учебниках литерату¬ры; дело в том, что Батай всю жизнь писал тексты или, вернее, быть может один и тот же текст. Текст делает проб¬лематичной всякую классификацию (в этом и состоит
* В подлиннике обыгрываются возвратные глаголы se demontrer, se montrer, se parler; дословный перевод: «„реальность" показывается, а „реальное" обнаруживается..., текст обнаруживается, выговаривает¬ся...» — Прим. ред.
415
одна из его «социальных» функций), так как он всякий раз предполагает, по выражению Филиппа Соллерса, познание пределов. Еще Тибоде (хотя и в более узком смысле) говорил о предельных, пограничных произве-дениях (такова, например, «Жизнь Ранее» Шатобриана, которая, действительно, ныне представляется нам «текстом»); а Текст — это и есть то, что стоит на грани речевой правильности (разумности, удобочитаемости и т. д.). Сказано это не для красного словца, не ради «героического» жеста; Текст пытается стать именно запредельным по отношению к доксе (чем еще опре¬деляется это расхожее общее мнение, составляющее, при мощном содействии средств массовой коммуника¬ции, основу наших демократических обществ, как .не своими пределами, своей энергией отторжения, своей цензурой?); можно сказать, что Текст всегда в бук¬вальном смысле парадоксален.
*
3. Текст познается, постигается через свое отноше¬ние к знаку. Произведение замкнуто, сводится к опреде-ленному означаемому. Этому означаемому можно при¬писывать два вида значимости: либо мы полагаем его явным, и тогда произведение служит объектом науки о буквальных значениях (филологии), либо мы считаем это означаемое тайным, глубинным, его нужно искать, и тогда произведение подлежит ведению герменевтики, интерпре¬тации (марксистской, психоаналитической, тематической и т. п.). Получается, что все произведение в целом функ¬ционирует как знак; закономерно, что оно и состав¬ляет одну из основополагающих категорий цивилизации Знака. В Тексте, напротив, означаемое бесконечно откладывается на будущее; Текст уклончив, он рабо¬тает в сфере означающего. Означающее следует пред-ставлять себе не как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, а, наоборот, как его вторичный продукт (apres-coup). Так же и в бесконечности означающего предполагается не невыразимость (озна¬чаемое, не поддающееся наименованию), а игра; порождение означающего в поле Текста (точнее, сам Текст и является его полем) происходит вечно, как в
416
вечном календаре, — причем не органически, путем вызревания, и не герменевтически, путем углубления в смысл, но посредством множественного смещения, взаимоналожения, варьирования элементов. Логика, регулирующая Текст, зиждется не на понимании (вы¬яснении, «что значит» произведение), а на метони¬мии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, пере¬носов находит себе выход символическая энергия; без такого выхода человек бы умер. Произведение в лучшем случае малосимволично, его символика быст¬ро сходит на нет, то есть застывает в неподвижности; зато Текст всецело символичен; произведение, поня¬тое, воспринятое и принятое во всей полноте своей символической природы, — это и есть текст. Тем самым Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет за-крытости. (К структурализму иногда относятся с пре¬небрежением, как к «моде»; между тем исключитель-ный эпистемологический статус, признанный ныне за языком, обусловлен как раз тем, что мы раскрыли в нем парадоксальность структуры — это система без цели и без центра.)
*
4. Тексту присуща множественность. Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая — множественность неустранимая, а не просто допустимая. В Тексте нет мирного сосуществования смыслов — Текст пересекает их, движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеяние смысла. Действительно, множественность Текста выз¬вана не двусмысленностью элементов его содержания, а, если можно так выразиться, пространственной многолинейностью означающих, из которых он соткан (этимологически «текст» и значит «ткань»). Читателя Текста можно уподобить праздному человеку, который снял в себе всякие напряжения, порожденные вооб¬ражаемым, и ничем внутренне не отягощен; он про¬гуливается (так случилось однажды с автором этих
417
строк, и именно тогда ему живо представилось, что такое Текст) по склону лощины, по которой течет пере-сыхающая река (о том, что река пересыхающая, упо¬мянуто ради непривычности обстановки). Его воспри-ятия множественны, не сводятся в какое-либо единство, разнородны по происхождению — отблески, цветовые пятна, растения, жара, свежий воздух, доносящиеся откуда-то хлопающие звуки, резкие крики птиц, дет¬ские голоса на другом склоне лощины, прохожие, их жесты, одеяния местных жителей вдалеке или сов¬сем рядом; все эти случайные детали наполовину опознаваемы — они отсылают к знакомым кодам, но сочетание их уникально и наполняет прогулку несход¬ствами, которые не могут повториться иначе как в виде новых несходств. Так происходит и с Текстом — он может быть собой только в своих несходствах (что, впрочем, не говорит о какой-либо его индивидуально¬сти); прочтение Текста — акт одноразовый (оттого иллюзорна какая бы то ни было индуктивно-дедук¬тивная наука о текстах — у текста нет «граммати¬ки»), и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков; все это языки культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, кото¬рые проходят сквозь текст и создают мощную стереофо¬нию. Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуаль¬ность не следует понимать так, что у текста есть ка¬кое-то происхождение; всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произве¬дений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — из цитат без кавычек. Произведение не противоречит ни одной философии монизма (при том что некоторые из них, как известно, непримиримые враги); для подобной философии множественность есть мировое Зло. Текст же, в противоположность произведению, мог бы из¬брать своим девизом слова одержимого бесами (Еван¬гелие от Марка, 5, 9): «Легион имя мне, потому что нас много». Текст противостоит произведению своей мно¬жественной, бесовской текстурой, что способно по¬влечь за собой глубокие перемены в чтении, причем в тех самых областях, где монологичность составляет
418
своего рода высшую заповедь: некоторые «тексты» Священного писания, традиционно отданные на откуп теологическому монизму (историческому или анагогическому), могут быть прочитаны с учетом дифракции смыслов, то есть в конечном счете материалистически, тогда как марксистская интерпретация произведений, до сих пор сугубо монистическая, может благодаря множественности обрести еще большую степень ма¬териализма (если, конечно, марксистские «официаль¬ные институты» это допустят).
*
5. Произведение включено в процесс филиации. Принимается за аксиому обусловленность произведе¬ния действительностью (расой, позднее Историей), следование произведений друг за другом, принадлеж¬ность каждого из них своему автору. Автор считается отцом и хозяином своего произведения; литературове¬дение учит нас поэтому уважать автограф и прямо заявленные намерения автора, а общество в целом юридически признает связь автора со своим произве¬дением (это и есть «авторское право» — сравнительно, впрочем, молодой институт, так как по-настоящему узаконен он был лишь в эпоху Революции). Что же касается Текста, то в нем нет записи об Отцовстве. Ме¬тафоры Текста и произведения расходятся здесь еще более. Произведение отсылает к образу естественно разрастающегося, «развивающегося» организма (пока-зательно двойственное употребление слова «развитие» — в биологии и в риторике). Метафора же Текста — сеть; если Текст и распространяется, то в резуль¬тате комбинирования и систематической организации элементов (впрочем, образ этот близок и к воз¬зрениям современной биологии на живые существа). В Тексте, следовательно, не требуется «уважать» никакую органическую цельность; его можно дробить (как, кстати, и поступали в средние века, причем с двумя высокоавторитетными текстами — со Священным писа¬нием и с Аристотелем), можно читать, не принимая в рас¬чет волю его отца; при восстановлении в правах интер-текста парадоксальным образом отменяется право насле-
419
дования. Призрак Автора может, конечно, «явиться» в Тексте, в своем тексте, но уже только на правах гостя; автор романа запечатлевается в нем как один из персонажей, фигура, вытканная на ковре; он не по¬лучает здесь более никаких родительских, алетических преимуществ, а одну лишь игровую роль, он, так ска¬зать, «автор на бумаге». Жизнь его из источника рассказываемых историй превращается в самостоятель¬ную историю, которая соперничает с произведением; происходит наложение творчества писателя на его жизнь, а не наоборот, как прежде. Жизнь Пруста или Жене может читаться как текст благодаря их произведениям; слово «био-графия» обретает здесь свой буквальный, этимологический смысл; одновременно ложной пробле¬мой становится искренность писателя, эта «крестная мука» всей литературной морали, — ведь «я», пишу¬щее текст, это «я», существующее лишь на бумаге.
*
6. Произведение обычно является предметом потреб¬ления; я не хотел бы демагогически ссылаться на так на¬зываемую потребительскую культуру, но приходится все же признать, что ныне различия между книгами опреде¬ляются «качеством» произведения (что в конечном счете подразумевает «вкусовую» оценку), а не способом чтения как таковым: в структурном отношении «серьез¬ные» книги читаются так же, как и «транспортное чти¬во» (в транспорте). Текст, нередко уже в силу своей «неудобочитаемости», очищает произведение (если оно само это позволяет) от потребительства и отцеживает из него игру, работу, производство, практическую дея¬тельность. Это значит, что Текст требует, чтобы мы стремились к устранению или хотя бы к сокращению дистанции между письмом и чтением, не проецируя еще сильнее личность читателя на произведение, а объединяя чтение и письмо в единой знаковой дея¬тельности. Разделяющее их расстояние возникло исторически. Во времена наиболее резкого социального расслоения (до образования демократических культур) умение читать и писать в равной мере составляло клас¬совую привилегию; Риторика, главный литературный
420
код той эпохи, учила писать (хотя обычно тогда писа¬лись не тексты, а рассуждения). Показательно, что с наступлением демократии эта задача сменилась об¬ратной — ныне Школа (средняя школа) ставит себе в заслугу то, что учит уже не писать, а (правильно) чи¬тать. (Сегодня даже вновь стало модным ощущать это как недостаток: от учителя требуют, чтобы он учил лицеистов «выражать свои мысли»; это все равно, что говорить бессмыслицу, дабы обойти табу.) Но одно дело чтение в смысле потребление, а другое дело — игра с текстом. Слово «игра» следует здесь понимать во всей его многозначности. Играет сам текст (так говорят о свободном ходе двери, механизма) *, и читатель тоже играет, причем двояко; он играет в Текст (как в игру), ищет такую форму практики, в которой бы он вос¬производился, но, чтобы практика эта не свелась к пассивному внутреннему мимесису (а сопротивление подобной операции как раз и составляет существо Текста), он еще и играет Текст. Не нужно забывать, что «играть» — также и музыкальный термин, а история музыки (как вида практики, а не как «ис¬кусства») довольно близко соответствует истории Текста; было время, когда «играть» и «слушать» состав¬ляли одну, почти не расчлененную деятельность — из-за обилия музыкантов-любителей (по крайней мере, в определенной классовой среде); затем одна за другой выделились две особые роли — сначала исполнитель, которого буржуазная публика отряжала для игры (хотя и сами буржуа еще худо-бедно музицировали: то был век фортепьяно), а затем любитель музыки (пассивный), который слушает музыку, не умея играть сам (и действительно, на смену фортепьяно пришли грампластинки). Как известно, в современной постсе¬рийной музыке роль «исполнителя» разрушена — его заставляют быть как бы соавтором партитуры, до¬полнять ее от себя, а не просто «воспроизводить». Текст как раз и подобен такой партитуре нового типа: он требует от читателя деятельного сотрудничест¬ва. Это принципиальное новшество — ибо кто же ста¬нет исполнять произведение? (Таким вопросом за-
* См. прим. перев. к с. 291.
421
давался Малларме, желая, чтобы книгу создавала ау¬дитория.) В наши дни произведение исполняет один лишь критик — как палач исполняет приговор. В том, что многие испытывают «скуку» от современного «неудобочитаемого» текста, от авангардистских филь¬мов или картин, очевидным образом повинна привычка сводить чтение к потреблению: человек скучает, когда он не может сам производить текст, играть его, раз¬бирать его по частям, запускать его в действие.
*
7. С учетом этого можно полагать (предлагать) еще один, последний, подход к Тексту — через удовольствие. Не знаю, была ли до сих пор в эстетике хотя бы одна гедонистическая теория; даже в философии эвдемони¬стические системы встречаются редко. Конечно, произ¬ведение (некоторые произведения) тоже доставляет удо¬вольствие: я могу упоенно читать и перечитывать Пру¬ста, Флобера, Бальзака и даже — почему бы и нет? — Александра Дюма. Однако такое удовольствие, при всей его интенсивности, даже полностью избавленное от любых предрассудков, все же остается отчасти удо-вольствием потребительским (разве что прилагать чрез¬вычайные усилия для его критики): ведь хотя я и могу читать этих авторов, я вместе с тем знаю, что не могу их пере-писать (что ныне уже невозможно писать «так»); одно лишь осознание этого довольно грустного факта отторгает меня от создания подобных произве¬дений, причем такая отторгнутость и есть залог моей современности (быть современным человеком — не зна¬чит ли это досконально знать то, что уже нельзя на¬чать сначала?). Что же касается Текста, то он связан с наслаждением, то есть с удовольствием без чувства отторгнутости. Текст осуществляет своего рода социаль¬ную утопию в сфере означающего; опережая Историю (если только История не выберет варварство), он де¬лает прозрачными пусть не социальные, но хотя бы языковые отношения; в его пространстве ни один язык не имеет преимущества перед другим, они свободно циркулируют (с учетом «кругового» значения этого слова).
422
*
Данные пропозиции не обязательно должны стать моментами Теории Текста. Обусловлено это не только недостаточными познаниями того, кто их выдвигает (хотя в ряде случаев он воспользовался и исследова-ниями своих коллег). Это обусловлено тем, что теория Текста не исчерпывается метаязыковым изложением; составной частью подобной теории является разрушение метаязыка как такового или по крайней мере недове¬рие к нему (поскольку до поры до времени им, возмож¬но, и придется пользоваться). Слово о Тексте само должно быть только текстом, его поиском, текстовой работой, потому что Текст — это такое социальное пространство, где ни одному языку не дано укрыться и ни один говорящий субъект не остается в роли судьи, хозяина, аналитика, исповедника, дешифровщика; тео¬рия Текста необходимо сливается с практикой письма.
1971, «Revue d'esthetique».
Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По
Перевод С. Л. Козлова 424
Текстовой анализ
Структурный анализ повествования переживает в наши дни стадию бурной разработки. Все исследова¬ния имеют общую научную основу — семиологию, или науку о значениях; но уже сейчас между разными ис-следованиями обнаруживаются расхождения (и это надо приветствовать), связанные с различными пред-ставлениями о научном статусе семиологии, то есть о своем собственном исследовательском языке. Эти расхождения (конструктивные) могут быть в принципе сведены к. общему различию двух направлений. Первое направление видит свою цель в том, чтобы, исходя из всех существующих повествований, разработать единую нарративную модель, разумеется, формальную. После того, как эта модель (структура или грамматика По¬вествования) будет найдена, можно будет с ее помощью анализировать каждое конкретное повествование в тер¬минах отклонений. Второе направление сразу подводит всякое конкретное повествование (по крайней мере, когда это возможно) под категорию «Текст». Текст при этом понимается как пространство, где идет про¬цесс образования значений, то есть процесс означива¬ния (в конце мы еще вернемся к этому слову). Текст подлежит наблюдению не как законченный, замкнутый продукт, а как идущее на наших глазах производство, «подключенное» к другим текстам, другим кодам (сфера интертекстуальности), связанное тем самым с общест¬вом, с Историей, но связанное не отношениями детер-минации, а отношениями цитации. Следовательно, не¬обходимо в известном смысле различать структурный анализ и текстовой анализ, не рассматривая их, однако, как взаимоисключающие: собственно структурный ана-
© Larousse, 1973
424
лиз применяется главным образом к устному повест¬вованию (мифу); текстовой же анализ (пример которого мы попытаемся ниже продемонстрировать) применяется исключительно к письменному тексту 1.
Текстовой анализ не ставит себе целью описание структуры произведения; задача видится не в том, что¬бы зарегистрировать некую устойчивую структуру, а ско¬рее в том; чтобы произвести подвижную структурацию текста (структурацию, которая меняется от читателя к читателю на протяжении Истории), проникнуть в смысловой объем произведения, в процесс означивания. Текстовой анализ не стремится выяснить, чем детерми¬нирован данный текст, взятый в целом как следствие определенной причины; цель состоит скорее в том, что¬бы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве. Таким образом, мы возь¬мем один повествовательный текст, один рассказ и про¬читаем его настолько медленно, насколько это будет необходимо; прочитаем, делая остановки столь часто, сколь потребуется (раскрепощенность — принципиально важная предпосылка нашей работы). Наша задача: попытаться уловить и классифицировать (ни в коей мере не претендуя на строгость) отнюдь не все смыслы текста (это было бы невозможно, поскольку текст бес¬конечно открыт в бесконечность: ни один читатель, ни один субъект, ни одна наука не в силах остановить движение текста), а, скорее, те формы, те коды, через которые идет возникновение смыслов текста. Мы будем прослеживать пути смыслообразования. Мы не ставим перед собой задачи найти единственный смысл, ни даже один из возможных смыслов текста; наша работа не имеет отношения к литературной критике герменев¬тического типа (то есть критике, стремящейся дать интерпретацию текста с целью выявления той истины, которая, по мнению критика, сокрыта в тексте); к этому типу относится, например, марксистская или психоаналитическая критика. Наша цель — помыслить, вообразить, пережить множественность текста, откры-
1 Я попытался дать текстовой анализ целого повествования в моей книге «S/Z» (P.: Seuil, 1970). В настоящей работе текстовой анализ целого рассказа был невозможен из-за недостатка места.
425
тость процесса означивания. Таким образом, суть дан¬ной работы не сводится ни к проблемам университетско¬го изучения текстов, ни к проблемам литературы во¬обще; суть данной работы соприкасается с вопросами теории, практики, выбора, возникающими в ходе извеч¬ной борьбы между человеком и знаком.
Для проведения текстового анализа рассказа мы используем некоторую совокупность исследовательских процедур (будем их рассматривать как чисто рабочие приемы, а не как методологические принципы: последнее было бы слишком претенциозно и, главное, идеологи¬чески спорно, поскольку «метод» слишком часто предпо¬лагает получение позитивистского результата). Мы све¬дем эти процедуры к четырем пунктам, которые будут изложены в самой сжатой форме; пусть лучше теория сполна проявится в анализе самого текста. Сейчас мы разъясним лишь тот минимум, который необходим, чтобы можно было уже начать анализ выбранного нами рас¬сказа.
1. Предлагаемый для анализа текст расчленяется на примыкающие друг к другу и, как правило, очень ко-роткие сегменты (фраза, часть фразы, максимум груп¬па из трех-четырех фраз); все эти сегменты нумеруются, начиная с цифры 1 (на десяток страниц текста при¬ходится 150 сегментов). Эти сегменты являются еди¬ницами чтения, поэтому я обозначаю их термином «лексия» (lexie)*2. Лексия, конечно, представляет собой текстовое означающее; но, поскольку наша задача со¬стоит не в наблюдении означающих (как в работах по стилистике), а в наблюдении смыслов, от нас не тре¬буется теоретического обоснования принципов члене¬ния текста: имея дело с дискурсом, а не с языком, труд¬но рассчитывать на выявление строгих соответствий между означающим и означаемым; мы не знаем, как со¬относится первое со вторым, и следовательно, мы вы¬нуждены довольствоваться членением означающего, не опирающимся на скрытое за ним членение означае¬мого. В общем, деление повествовательного текста на
* От лат. legere 'читать'. — Прим. перев.
2 Более подробный анализ понятия «лексия» и приемов работы с текстом читатель найдет в моей работе «S/Z», указ. соч.
426
лексии проводится чисто эмпирически и диктуется со¬ображениями удобства: лексия — это произвольный конструкт, это просто сегмент, в рамках которого мы наблюдаем распределение смыслов; нечто, подобное тому, что хирурги называют операционным полем: удобной будет лексия, через которую проходит не бо-лее' одного, двух или трех смыслов (налагающихся друг на друга в семантическом объеме данного фрагмента текста).
2. Затем мы прослеживаем смыслы, возникающие в пределах каждой лексии. Под смыслом мы, конечно же, понимаем не значение слов или словосочетаний, которое фиксируется в словарях и грамматиках и ко¬торым владеет всякий, знающий французский язык. Мы имеем в виду нечто другое: коннотации лексии, ее вторичные смыслы. Эти коннотативные смыслы могут иметь форму ассоциаций (например, описание внешно¬сти персонажа, занимающее несколько фраз, может иметь всего одно коннотативное означаемое — «нер¬возность» этого персонажа, хотя само слово «нервоз¬ность» и не фигурирует в плане денотации); они могут также представать в форме реляций, когда устанавли¬вается определенное отношение между двумя местами текста, иногда очень удаленными друг от друга (напри¬мер, действие, начатое в одном месте текста, может иметь продолжение и завершение в совершенно дру¬гом его месте, значительно дальше). Наши лексии должны стать как бы ячейками сита, предельно мелкими ячейками, с помощью которых мы будем «снимать пен¬ки» смысла, обнаруживать коннотации.
3. Наш анализ будет строиться по принципу по¬степенного продвижения: шаг за шагом мы должны пройти весь текст (таков по крайней мере наш посту¬лат, ибо на практике недостаток места заставляет нас в данном случае ограничиться лишь двумя фрагмента¬ми анализа). Это значит, что мы не будем стремиться к выделению больших (риторических) текстовых масс; не будем составлять план текста, не будем выявлять его тематику; короче, мы не будем заниматься экспли¬кацией текста, если только не брать слово «эксплика-ция» в его этимологическом значении: «развертывание». Мы будем именно «развертывать» текст, страницу за
427
страницей, слой за слоем. Ход нашего анализа будет совпадать с ходом обычного чтения, но это чтение пой¬дет как бы в замедленной съемке. Эта особенность на¬шего анализа очень важна в теоретическом аспекте: она означает, что мы не стремимся реконструировать структуру текста, а хотим проследить за его структурацией и что структурация чтения для нас важнее, чем композиция текста (классическое риторическое понятие).
4. Наконец, нас не будет слишком тревожить, что в процессе анализа мы можем «упустить из виду» ка¬кие-то смыслы. Потеря смыслов есть в известной мере неотъемлемая часть чтения: нам важно показать от¬правные точки смыслообразования, а не его оконча¬тельные результаты (в сущности, смысл и есть не что иное, как отправная точка). Основу текста составляет не его внутренняя, закрытая структура, поддающая¬ся исчерпывающему изучению, а его выход в другие тексты, другие коды, другие знаки; текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интер¬текстуальности. Мы начинаем понемногу осознавать (благодаря другим дисциплинам), что в наших иссле¬дованиях должны сопрягаться две идеи, которые с очень давних пор считались взаимоисключающими: идея струк¬туры и идея комбинаторной бесконечности. Примире¬ние этих двух постулатов оказывается необходимым потому, что человеческий язык, который мы все глуб¬же познаем, является одновременно и бесконечным, и структурно организованным.
Этих предварительных замечаний, я думаю, доста¬точно, чтобы перейти наконец к самому анализу (мы никогда не должны подавлять в себе жажду текста; текст должен доставлять удовольствие — вот наш закон, ко¬торый никогда не следует забывать, вне зависимости от любых исследовательских обязательств). Для ана¬лиза мною был выбран небольшой рассказ Эдгара По в переводе Бодлера: «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» 3*. Мой выбор — если гово-
3 Poе E. A. Histoires extraordinaires (traduction de Ch. Baudelai¬re). P.: NRF; Livre de poche, 1969, p. 329—345.
* Рассказ Э. По цитируется далее в переводе 3. E. Александровой (По Э. А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970, с. 636—642).
В случаях расхождений между русским и французским переводами рассказа в русский текст вносились необходимые изменения. — Прим. перев.
428
рить о сознательных намерениях, ведь на самом деле решать за меня могло и мое бессознательное — опреде¬лялся двумя соображениями дидактического порядка: мне требовался очень короткий текст, чтобы полностью охватить его означающее (последовательность лексий), и мне требовался текст, столь насыщенный символами, чтобы он оказывал на нас непрерывное эмоциональное воздействие независимо от любых индивидуальных осо¬бенностей читателя: ну, а кого может оставить рав¬нодушным текст, темой и сюжетом которого является смерть?
Для полной ясности я должен добавить следующее: анализируя смыслообразование текста, мы сознательно воздержимся от рассмотрения некоторых проблем; мы не будем говорить о личности автора, Эдгара По, не будем рассматривать историко-литературные проблемы, с которыми связано его имя; не будем учитывать и тот факт, что речь идет о переводе; мы просто возьмем текст как он есть, тот самый текст, который мы читаем, и не станем задумываться о том, кому следовало бы изучать этот текст в университете — филологам-англи¬стам, филологам-французистам или философам. Это отнюдь не значит, что нам не придется соприкоснуться с вышеназванными проблемами в ходе нашего анализа; напротив, мы встретимся с ними, соприкоснемся с ними и пойдем дальше, оставляя их позади: анализ — это прогулка по тексту; указанные проблемы предста¬нут перед нами в виде цитат, отсылающих нас к раз¬личным областям культуры, в виде отправных пунктов того или иного кода, но не в виде детерминаций.
Наконец, последнее замечание — или, скорее, закли¬нание: анализируемый нами текст — не лирический и не политический; он говорит не о любви и не о социаль¬ной жизни; он говорит о смерти. Поэтому нам придет¬ся разрушить определенное табу, а именно запрет на страшное. Мы сделаем это, будучи убеждены в том, что все типы цензуры стоят друг друга: когда мы го-
429
ворим о смерти, не прибегая к языку какой бы то ни было религии, мы тем самым преодолеваем одновре-менно и религиозное, и рационалистическое табу.
Анализ лексий 1 —17
(1) Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром
(2) Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром стал предметом обсуждений. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. (3) Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки, хотя бы на время, или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование, — именно вследствие наших стараний сохранить его в тай¬не — (4) в публике распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.
(5) Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты — насколько я сам сумел их понять.
(6) Вкратце они сводятся к следующему.
(7) В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам магнетизма; (8) а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах (9) имелось одно важное и необъяснимое упущение (10) — никто еще не подвергался месмерическому воздействию in articulo mortis *. (11 ) Следовало выяснить, (12) во-первых, восприимчив ли человек в таком со¬стоянии к магнетическому приливу; (13) во-вторых, если восприимчив, то ослаблена его восприимчивость в подобных обстоятельствах или же усилена; (14) а в-третьих, в какой степени и как долго можно задер¬жать указанной процедурой наступление смерти. (15) Возникали и другие вопросы; (16) но именно эти заин-тересовали меня более всего (17) — в особенности по¬следний, чреватый следствиями огромной важности.
* На смертном одре (лат.). — Прим. персе.
430
(1) «Правда о том, что случилось с мистером Вальде¬маром»
Функция заглавий изучена до сих пор недостаточно — по крайней мере в рамках структурного анализа. Все же сразу можно сказать, что, поскольку общество должно, в силу коммерческих причин, приравнивать текст к то¬варному изделию, для всякого текста возникает потреб¬ность в маркировке. Заглавие призвано маркировать начало текста, тем самым представляя текст в виде товара. Всякое заглавие имеет, таким образом, несколько одновременных смыслов, из которых следует выделить как минимум два: 1) высказывание, содержащееся в заглавии и связанное с конкретным содержанием пред¬варяемого текста; 2) само по себе указание на то, что ниже следует некая литературная «вещь» (то есть, по сути, товар). Иначе говоря, заглавие всегда имеет двой¬ную функцию: энонсиативную и дейктическую.
а) Заявить об обнародовании некоей правды — зна¬чит признать существование некоей загадки. Выдвиже-ние загадки обусловлено (в плане означающих) следую¬щими элементами: словом «правда», словом «случилось» (указание на исключительный характер происшедшего: исключительность есть маркированность, маркирован¬ность есть значимость; следовательно, необходимо отыс¬кать смысл происшедшего); определенным артиклем «la», предшествующим слову «verite» 'правда' (есть только одна правда; чтобы добраться до нее, потребуются уси¬лия всего последующего текста); катафорической фор-мой, которую навязывает заглавие: нижеследующее (текст) предстает как реализация вышеобъявленного (заглавие), уже само заглавие извещает нас о том, что загадка разрешена; отметим, что английское заглавие гласит: «The facts in the case...»*: Э. По ориентируется на означаемое эмпирического порядка; французский же переводчик (Бодлер) ориентируется на герменевти¬ческое означаемое: в этом случае правда отсылает и к точным фактическим данным, но сверх того, быть может, и к смыслу этих фактов. Как бы то ни было, закодируем этот первый смысл лексий следующим образом: Загад-
* Букв. 'Факты по делу...' (англ.). — Прим. перев.
431
ка, выдвижение (загадка — общее наименование кода, выдвижение — один из частных элементов данного кода).
б) Можно было бы рассказать правду, не оповещая об этом специально, не прибегая к самому слову «прав-да». Если мы начинаем говорить о том, на какую тему мы намерены говорить, если мы раздваиваем нашу речь на два слоя, из которых один как бы надстраивается над другим, — значит, мы прибегаем к метаязыку. Таким образом, здесь присутствует и метаязыковой код.
в) Это метаязыковое оповещение имеет аперитивную функцию: задача состоит в том, чтобы возбудить у чита¬теля аппетит (прием, родственный «задержке ожида¬ния»). Рассказ—это товар, предложение которого со¬провождается рекламной «приманкой». Эта «приманка», этот «возбудитель аппетита» представляет собою один из элементов нарративного кода (риторика повествова¬ния) .
г) Имя собственное всегда должно быть для критика объектом пристальнейшего внимания, поскольку имя собственное — это, можно сказать, король означающих: его социальные и символические коннотации очень бога¬ты. В имени Вольдемар можно прочитать по меньшей мере две коннотации: 1) присутствие социоэтнического кода: что это за имя — немецкое? славянское? Во всяком случае, не англосаксонское; эта маленькая загадка, имплицитно заданная здесь, будет разрешена в лексии 19 (Вальдемар — поляк); 2) Valdemar означает «мор¬ская долина»: океаническая бездна, морская глубь — излюбленный мотив По; образ бездны отсылает к тому, что находится вне природы: одновременно под водой и под землей. Таким образом, с аналитической точки зрения, здесь имеются следы двух кодов: некоего социоэт¬нического кода и некоего (а может быть, единственного существующего?) символического кода (к этим кодам мы вернемся чуть позже).
д) Сказать «мистер Вальдемар»— не то же самое, что сказать просто «Вальдемар». По использует во мно-гих рассказах простые имена без титулов и фамилий (Лигейя, Элеонора, Морелла). Ввод слова «мистер» привносит ощущение социальной среды, исторической реальности: герой социализован, он составляет часть
432
определенного общества, внутри которого он обладает гражданским титулом. Поэтому записываем: социальный код.
(2) «Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вольдемаром стал предметом обсуждений. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства.»
а) Очевидная функция этой фразы (как и непосредст¬венно следующих за ней) состоит в том, чтобы усилить читательское ожидание; отсюда — явная бессодержа¬тельность этих фраз: мы ждем разрешения загадки, выдвинутой заглавием («правда»), но даже исходное изложение загадки оттягивается во времени. Поэтому кодируем: ретардация в выдвижении загадки.
б) Та же коннотация, что и в (1) в: разжигание чи¬тательского аппетита (нарративный код).
в) Слово «необыкновенный» двусмысленно: оно обоз¬начает нечто, выходящее за пределы нормы, но не обяза¬тельно за пределы естества (если речь идет о «медицин¬ском» случае); вместе с тем оно может относиться и к сверхъестественному явлению, нарушающему законы природы (как раз в этом состоит фантастичность рас¬сказываемых По «необыкновенных историй»). Такая двусмысленность в данном случае значима: речь пойдет о страшной истории, выходящей за пределы естества и однако же прикрытой неким научным алиби (научную коннотацию дает слово «обсуждения», используемое в ученой среде). Этот сплав имеет культурную обуслов¬ленность: в те десятилетия XIX в., к которым относится творчество По, смешение странного с научным достигло апогея; люди были страстно увлечены научным наблю¬дением сверхъестественных феноменов (магнетизм, спири¬тизм, телепатия и т. д.); сверхъестественность получает научные, рационалистические оправдания; если б только можно было научно верить в бессмертие!— вот крик души этого позитивистского века. Этот культурный код, который мы в целях простоты будем называть «научным кодом», окажется очень важным для всего рассказа.
433
(3) «Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки, хотя бы на время, или пока мы не нашли возможности продолжить исследование — именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне [...]»
а) Тот же научный код, вновь вводимый словом «исследование» (учтем также другое значение слова «investigation»: 'расследование'; мы знаем, сколь попу¬лярен стал детективный роман во второй половине XIX в. — как раз начиная с творчества По; и в идеологи¬ческом, и в структурном плане важно именно это соеди¬нение детективного кода с научным кодом, научным дискурсом — на этом примере видно, что структурный анализ прекрасно может взаимодействовать с идеологи¬ческим анализом).
б) Нам не сказано, почему «причастные к этому делу лица» стремятся избежать огласки; это стремление мо-жет быть объяснено двояко, при помощи двух различных кодов, одновременно присутствующих в процессе чтения (читать — это значит, кроме всего прочего, домысливать все то, о чем автор умолчал): 1) научно-этический код: из соображений добросовестности и осторожности врачи и По не хотят разглашать факты, еще не получившие исчерпывающего научного объяснения; 2) символический код: очевидцы должны молчать, потому что они имели дело с табуированный явлением. Это явление — живая Смерть; об этом надо молчать, потому что это слишком страшно. Следует сразу же отметить (хотя нам и при¬дется еще неоднократно возвращаться к этому вопросу), что названные два кода равноценны (невозможно выбрать один и отвергнуть другой) ; именно благодаря такой равно¬ценности рассказ столь сильно действует на читателя.
в) С точки зрения нарративных акций (сейчас мы встретились с первой из них), здесь начинается опреде-ленная последовательность действий: ведь «сокрытие тайны» подразумевает (логически или псевдо-логически) возможность некоторых последующих действий (напри¬мер, «разглашение тайны»). Поэтому здесь надо отметить наличие первого элемента акциональной цепочки «сокры¬тие тайны»; с продолжением этой цепочки мы столкнемся позднее.
434
(4) «[...] в публике распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало не¬доверие».
а) Требование раскрытия правды (то есть представле¬ние о наличии загадки) было уже выдвинуто дважды (словом «правда» и словосочетанием «необыкновенный случай»). Сейчас загадка выдвигается в третий раз (в структуралистской системе понятий «выдвинуть загад¬ку» — значит «высказать утверждение: имеется загадка»). Это выдвижение производится посредством указания на ошибочные толкования, порожденные загадкой: ошибки, упомянутые здесь, ретроспективно оправдывают заглавие («Правда о ...»). Многословность автора при выдвиже¬нии загадки (одна и та же мысль о наличии загадки повторяется на разные лады) имеет аперитивную значи¬мость: надо возбудить читателя, завлечь клиентов.
б) В акциональной цепочке, обозначенной нами как «Сокрытие», появляется второй элемент. Его составляют последствия секретности: слухи, искажения истины, обви¬нения в мистификации.
(5) «Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты — насколько я сам сумел их по¬нять...»
а) Ударение, поставленное на слове «факты», пред¬полагает сплетенность двух кодов, ни один из которых, как и в случае (3)б, невозможно предпочесть другому: 1) законы научной этики заставляют всякого ученого, всякого наблюдателя преклоняться перед фактом: про¬тивопоставление «слухи/факты» является старой мифо¬логической темой; когда вымышленное повествование апеллирует к факту (причем апеллирует с подчеркнутым нажимом, выделяя слово «факты» курсивом), это делает¬ся с совершенно определенной целью: чтобы указать на подлинность данной истории. Разумеется, такой прием имеет чисто структурное значение: подобная уловка не может никого ввести в заблуждение. Цель здесь не в том, чтобы читатель наивно уверовал в подлинность описы¬ваемых событий; цель состоит в ориентации читательско-
435
го восприятия: данный текст должен быть отнесен чита¬телем к «дискурсу реальности», а не к «дискурсу вымыс¬ла». Понятие «факт» включается в такую парадигму, где оно противопоставлено понятию «мистификация» (в одном из своих частных писем По признал, что вся история с мистером Вальдемаром является чистой мисти¬фикацией: «it is a mere hoax»). Таким образом, отсылка к факту оказывается элементом уже знакомого нам науч¬ного кода; 2) вместе с тем, всякое более или менее тор¬жественное поклонение Факту может также рассматри¬ваться как симптом некоего психологического конфликта. Это конфликт, возникающий между субъектом и симво¬лической сферой. Когда человек агрессивно высказывает-ся в поддержку «Факта, и только Факта», когда он скло¬няется перед авторитетом денотата — он тем самым вы¬казывает свое недоверие к значению, он дезавуирует значение, отсекает реальность от ее символических до¬полнений. Человек накладывает цензурный запрет на означающее, поскольку оно перемещает Факт; он отвер¬гает возможность существования другой площадки — площадки бессознательного. Вытесняя символическое дополнение, рассказчик (даже если это выглядит как чисто внешний повествовательный прием) присваивает себе воображаемую роль: роль ученого. В таком случае означаемое только что рассмотренной лексии сводится к асимволизму речевого субъекта: «Я» преподносит себя как асимволическую инстанцию. Однако и само это отри¬цание сферы символического принадлежит, разумеется, именно к символическому коду.
б) Развертывается акциональная цепочка «Сокры¬тие»; здесь появляется третий ее элемент: необходимость исправить искажения истины, отмеченные в (4)б. А это равнозначно намерению раскрыть (тайну). Эта цепочка «Сокрытие» выступает, конечно, как повествовательный возбудитель; в известном смысле она служит оправда¬нием всему рассказу и при этом выражает его ценность (потребительную ценность), превращая рассказ в товар; рассказчик говорит: своим рассказом я удовлетворяю спрос на истину, на опровержение заблуждений (перед нами цивилизация, в которой истина представляет собою ценность, то есть товар). Всегда очень интересно бывает выделить стоимостный эквивалент рассказа: в об-
436
мен на что ведется данный рассказ? В «Тысяче и одной ночи» каждая сказка равна по стоимости одному дню жизни. В рассматриваемом случае нам сообщают, что история о мистере Вальдемаре равна по стоимости истине (предварительно определенной как опровержение за¬блуждений) .
в) В этой лексии впервые эксплицитно вводится по¬нятие «Я» (Je) (имплицитно оно уже содержалось в словах «мы» и «наши старания» в лексии (3)). Говоря конкретнее, данное высказывание включает в себя три «Я», т. e. три воображаемые роли (сказать «Я» — значит вступить в сферу воображаемого): 1) «Я» — повество-ватель, художник, цель которого — достижение худо¬жественного эффекта; этому «Я» соответствует вполне определенное «Ты»: «Ты» — читатель, «тот, кто читает фантастическую новеллу великого писателя Эдгара По»; 2) «Я» — очевидец, который может засвидетельствовать результаты научного опыта; этому «Я» соответствует «Ты» — сообщество ученых, общественное мнение, чита¬тель научной литературы; 3) «Я» — участник действия, экспериментатор, который будет гипнотизировать Вальдемара; в этом случае «Ты» — это сам Вальдемар. Во втором и в третьем из перечисленных случаев целью воображаемой роли является «истина». Перед нами — три элемента единого кода, который мы назовем сейчас (быть может, временно) кодом коммуникации. Разумеет¬ся, за этими тремя ролями скрывается другой язык, который никогда не выговаривается ни в сфере науки, ни в сфере литературы: язык бессознательного. Но этот язык, который в буквальном смысле слова относится не к сфере вы-казанного, а к сфере за-казанного (т. e. за¬прещенного), никогда не пользуется понятием «Я»: наша грамматика с ее тремя лицами никогда прямо не соответ¬ствует грамматике бессознательного.
(6) «Вкратце они сводятся к следующему.»
а) Оповещение о начале повествования относится к сфере метаязыка (и к риторическому коду); это веха, которая отмечает начало истории внутри истории.
б) Слово «вкратце» содержит три коннотации, пере¬мешанные и равноправные: 1) «Не бойтесь, я не буду
437
долго занимать ваше внимание»; это нарративный код в его фатическом аспекте (термин Р. Якобсона): фатическая функция состоит в том, чтобы задержать внима¬ние адресата, ощутить контакт с аудиторией; 2) «Я буду краток, поскольку излагаю факты, и только факты»; это научный код, позволяющий здесь выразить исследова¬тельскую «дисциплину самоограничения»; инстанция факта господствует над инстанцией дискурса; 3) если человек выставляет напоказ свою немногословность — значит, он в известном смысле выказывает недоверие к слову, стремится сузить дополнение дискурса, то есть сферу символического; значит, он использует асимволический код.
(7) «В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам магнетизма;»
а) В любом рассказе следует тщательно следить за хронологическим кодом; в данном случае («в течение последних трех лет») в рамках хронологического кода сплетаются два значения; первое из них можно назвать наивным; указывается одна из временных характери¬стик эксперимента, который будет поставлен: время его подготовки; второе значение не связано с диегетической, операционной функцией (это можно продемонстрировать с помощью мысленной замены: если бы повествователь сказал не «в течение трех лет», а «в течение семи лет» — это бы не имело никаких последствий для рассказа); таким образом, речь идет о чистом «эффекте реально¬сти»: указание точного числа подчеркивает истинность случившегося; точное считается реальным (хотя, вообще говоря, это полная иллюзия — существует, как известно, числовой бред). Отметим также, что в лингвистическом отношении слово «последних» является шифтером, «включателем»: это слово соотносит рассказываемую историю с положением рассказчика во времени, тем са¬мым усиливая непосредственность воздействия расска¬зываемой истории.
б) Здесь начинается длинная (или, во всяком случае, очень дробная) акциональная цепочка; речь идет о под¬готовке эксперимента (мы находимся в зоне действия научного алиби); при этом в структурном отношении
438
следует различать подготовку эксперимента и сам экс¬перимент; пока что перед нами — подготовка, т. e. созда¬ние программы эксперимента. Данная акциональная це¬почка равнозначна формулированию загадки — той загадки, которая была уже многократно выдвинута («имеется загадка»), но до сих пор не была сформули¬рована. Чтобы не утяжелять запись нашего анализа, мы будем в дальнейшем пользоваться одним обозначе¬нием «Программа», имея в виду, что в целом вся ак¬циональная цепочка «Программа» равнозначна одному элементу в коде «Загадка». Сейчас перед нами первый элемент акциональной цепочки «Программа»: выдвиже¬ние научной сферы для эксперимента — сферы магне¬тизма.
в) Обращение к магнетизму диктуется определенным культурным кодом, очень активным в первой половине XIX в. Под влиянием деятельности Месмера (по-англий¬ски магнетизм может обозначаться и словом «месме-ризм»), а также маркиза Армана де Пюисегюра, кото¬рый открыл, что магнетизм может приводить к сомнам-булическим явлениям, во Франции (около 1820 г.) стали плодиться магнетизеры и общества по изучению магнетизма; в 1829 г., судя по некоторым свидетель¬ствам, удалось осуществить безболезненное удаление опухоли под гипнозом; в 1845 г. (это год публикации анализируемого рассказа) манчестерский врач Брейд сформулировал понятие гипнотизма (Брейд вызвал у испытуемого нервное утомление через созерцание бле-стящего предмета); в 1850 г. в Месмерической лечеб¬нице Калькутты удалось провести безболезненные роды. Впоследствии, как известно, Шарко дал классификацию гипнотических состояний и ограничил гипнотизм сферой истерии (1882 г.), но позднее истерию перестали рас¬сматривать как клиническое явление, и она исчезла из стен больниц. 1845 год — это апогей научной иллюзии: гипноз считается физиологической реальностью (хотя По, указывая на «чрезвычайную нервность» Вальдемара, возможно, подразумевает тем самым предрасположен¬ность испытуемого к истерии).
г) В тематическом плане магнетизм коннотирует (по крайней мере, в данную эпоху) идею флюида: нечто передается от одного субъекта к другому; между рас-
439
сказчиком и Вальдемаром возникает некое со-общение: это код коммуникации.
(8) «а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах [...]»
а) Хронологический код («девять месяцев»); здесь действительны те же замечания, что и в случае (7) а.
б) Второй элемент акциональной цепочки «Програм¬ма»: на предшествующем этапе (7)б была выделена определенная научная область (магнетизм); теперь эта область подвергается расчленению; будет выделена кон¬кретная научная проблема.
(9) «[...] имелось одно весьма важное и необъясни¬мое упущение;»
а) Продолжается развертывание цепочки «Програм¬ма»; появляется ее третий элемент: научный опыт, кото-рый до сих пор ни разу не был поставлен — который, следовательно, должен быть поставлен; такова логика всякого любознательного исследователя.
б) Этот опыт был упущен из виду не по какой-то «забывчивости»; во всяком случае, такая забывчивость глубоко знаменательна: она есть не что иное, как отказ думать о Смерти: здесь имеется табу (которое будет за¬тем снято, к величайшему ужасу очевидцев); данная коннотация относится к символическому коду.
(10) « — никто еще не подвергался месмерическому воздействию in articulo mortis.»
а) Четвертый элемент цепочки «Программа»: опреде¬ление лакуны (в риторическом коде здесь происходит, конечно, снятие отношения между констатацией ла¬куны и ее дефиницией: оповещение/конкретизация).
б) Латынь (in articulo mortis), язык юристов и ме¬диков, создает впечатление научности (научный код), но, кроме того, выступает здесь в функции эвфемизма (на малоизвестном языке говорят то, что не осмеливают¬ся сказать на обиходном языке), указывая тем самым на
440
некое табу (символический код). Судя по всему, Смерть подлежит табуированию главным образом как переход, как пересечение порога, как умирание; жизнь и смерть — это состояния, сравнительно легко поддающиеся клас¬сификации, они к тому же образуют парадигматическую оппозицию, они предполагают смысловую устойчивость, которая всегда успокоительна; но переход из одного со¬стояния в другое, или, точнее, вмешательство одного состояния в другое (именно такой процесс будет сей¬час описан в рассказе), разрушает смысл, порождает ужас: происходит нарушение границы между противо¬положностями, нарушение классификации.
(11) «Следовало выяснить [...]»
Оповещение о переходе к подробностям «Програм¬мы» (риторический код и акциональная цепочка «Про-грамма»).
(12) «во-первых, восприимчив ли человек в таком состоянии к магнетическому приливу;»
а) В цепочке «Программа» это первый этап развер¬тывания подробностей, оповещение о которых было дано в (11): первая проблема, подлежащая прояснению.
б) Сама эта проблема I вводит новую цепочку (или особый придаток цепочки «Программа»); перед нами — первый элемент этой новой цепочки: формулирование проблемы; предметом обсуждения здесь является само по себе бытие магнетического контакта: существует он или нет? (на этот вопрос будет дан утвердительный ответ в лексии (78); очень длинная текстовая дистан¬ция, разделяющая вопрос и ответ, характерна для нарративной структуры: она позволяет и даже вынуж¬дает тщательно выстраивать цепочки, каждая из которых представляет собою нить, сложно переплетенную с дру¬гими нитями).
(13) «во-вторых, если восприимчив, то ослаблена его восприимчивость в подобных обстоятельствах или же усилена,»
441
а) В цепочке «Программа» здесь появляется вторая проблема (отметим, что проблема II связана с пробле-мой I отношением импликации: если да... то; но если нет — тогда и рассказа никакого нет; поэтому с точки зрения дискурса, альтернатива здесь фальшивая, иллю¬зорная) .
б) Второй придаток цепочки «Программа»: это проб¬лема II; первая проблема касалась бытия феномена, вторая касается его количественных характеристик (все это очень «научно»); ответ на этот второй вопрос будет дан в лексии (82): восприятие оказывается усилено: «Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, но, к моему удивлению [...]».
(14) «а в-третьих, в какой степени и как долго мож¬но задержать указанной процедурой наступление смерти.»
а) Это проблема III, поставленная в «Программе».
б) Проблема III, как и предыдущие, четко сформу¬лирована — к ее формулировке нас будет настойчиво отсылать лексия (17); данная формулировка включает в себя два подпункта: 1) до какого предела может дойти наступление жизни на смерть благодаря гипнозу? Ответ дается в лексии (ПО): до языка включительно; 2) как долго может длиться такое наступление? На этот вопрос не будет дано прямого ответа: наступление жизни на смерть (существование загипнотизированного мертвеца) прекратится через 7 месяцев, но это случится в результате своевольного вмешательства эксперимента¬тора в эксперимент. Следовательно, мы может предполо¬жить: наступление жизни на смерть может длиться до бесконечности — или, во всяком случае, неопределенно долго при указанной длительности наблюдения.
(15) «Возникали и другие вопросы,»
«Программа» указывает в общей форме на сущест¬вование других возможных вопросов в связи с намечен-ным экспериментом. Эта лексия равнозначна выражению «и прочее». Валери говорил, что в природе не сущест¬вует «и прочего»; можно добавить: в бессознательном тоже. На самом деле «и прочее» — элемент чисто иллю-
442
зионного дискурса; с одной стороны, он способствует продолжению игры в научность, создавая впечатление обширной экспериментаторской программы; с другой сто¬роны, уводя эти «прочие вопросы» в тень, данная лек¬сия усиливает значимость вопросов, сформулированных ранее: все важные в символическом отношении эле¬менты уже выведены на поверхность, дальнейшее — не более, чем дискурсивное притворство.
(16) «но именно эти заинтересовали меня более всего»
В «Программе» сейчас дается обобщенное напомина¬ние трех поставленных проблем («напоминание», или «резюмирование», равно как и «оповещение» — эле¬менты риторического кода).
(17) « — в особенности последний, чреватый следст¬виями огромной важности.»
а) Акцент (элемент риторического кода) сделан на проблеме III.
б) Здесь вновь два равноценных кода: 1) в науч¬ном отношении речь идет о том, чтобы заставить отсту¬пить смерть как биологический факт; 2) в символиче¬ском отношении речь идет о нарушении смысловой гра¬ницы, разделяющей Жизнь и Смерть.
Акциональный анализ лексии 18—102
Среди тех коннотаций, которые повстречались нам (или, по крайней мере, были уловлены нами) в началь-ном фрагменте этой новеллы По, некоторые были ква¬лифицированы как следующие друг за другом элементы цепочек нарративных действий (акций). Позднее, в конце нашей работы, мы еще раз бросим взгляд на различные коды, которые были выявлены в процессе анализа, в том числе и на акциональный код. А пока что, в ожидании теоретических разъяснений, мы можем выделить эти акциональные цепочки и воспользоваться ими с тем, чтобы наиболее экономным образом (и в то же время не отказываясь от структурно-аналитического подхода к материалу) сообщить читателю о дальнейшем
443
развитии рассказа. Как, вероятно, уже понял читатель, мы и в самом деле не можем дать подробный (тем бо-лее — исчерпывающий: текстовой анализ вообще не может и не стремится быть исчерпывающим) анализ всей новеллы По: это заняло бы слишком много места. Однако мы намерены возобновить текстовой анализ в кульминационной точке повествования и проанализи¬ровать несколько лексий (103—110). Чтобы сделать общепонятной связь между проанализированным фраг¬ментом и фрагментом, который мы будем анализировать далее, достаточно указать основные акциональные це¬почки, которые развертываются (но не обязательно завершаются) между лексией 18 и лексией 102. К сожа¬лению, за недостатком места мы не можем привести здесь текст новеллы По, находящийся между начальным и заключительным фрагментами, равно как не можем привести и нумерацию промежуточных лексий; мы ука¬зываем лишь акциональные цепочки (не имея даже возможности проанализировать их поэлементно) — в ущерб другим кодам, более многочисленным и, бесспорно, более интересным. Поступаем мы так главным образом потому, что акциональные цепочки образуют, по опреде¬лению, фабульный каркас новеллы (я сделаю небольшое исключение лишь для хронологического кода, указывая в начальных или заключительных ремарках тот момент рассказа, к которому относится начало каждой цепочки).
I. Программа: эта цепочка началась и получила обширное развитие в проанализированном фрагменте. Вопросы, на которые должен ответить планируемый эксперимент, известны. Цепочка продолжается и завер¬шается выбором объекта (пациента), необходимого для проведения опыта: это — Вальдемар (разработка про¬граммы происходит за девять месяцев до момента по¬вествования).
II. Магнетизация (или, точнее, если позволить себе очень неуклюжий неологизм: магнетизабельность). Пре-жде чем остановить свой выбор на м-ре Вальдемаре, П. проверял его восприимчивость к магнетизму; таковая имеет место, но тем не менее полученные результаты разочаровывают: М. В. с трудом и не всегда до конца поддается магнетическому воздействию. В цепочке пере-
444
числяются элементы тестирования, которое предшество¬вало принятию решения об эксперименте и хронологи¬ческие рамки которого не уточняются.
III. Физическая смерть: акциональные цепочки, как правило, растянуты и переплетены друг с другом. С со-общения о плохом состоянии здоровья М. В. и о приго¬воре, вынесенном ему врачами, начинается очень длинная цепочка; она идет через всю новеллу и завершается лишь в последней лексий (150) переходом тела М. В. в жидкое состояние. Эпизоды, составляющие эту це¬почку, многочисленны и прослоены элементами других цепочек, однако с научной точки зрения они вполне логичны: плохое состояние здоровья, диагноз, приговор, постепенное ухудшение состояния, агония, умирание (физиологические признаки смерти) — с этой точки нач¬нется второй текстовой анализ — дезинтеграция, пере¬ход в жидкое состояние.
IV. Соглашение: П. предлагает м-ру Вальдемару подвергнуться гипнозу на пороге смерти (поскольку он знает о своей участи), и М. В. соглашается; экспери¬ментатор и пациент заключают соглашение: условия, предложение, ответное согласие, уточнение деталей, решение об исполнении, официальная регистрация в при¬сутствии врачей (последний пункт представляет собой отдельную придаточную цепочку).
V. Каталепсия (за 7 месяцев до момента повество¬вания, суббота, 7 ч. 55 мин.): Когда наступили послед¬ние минуты жизни М. В., после того, как сам пациент известил об этом экспериментатора, П. начинает сеанс гипноза in articulo mortis, в соответствии с Програм¬мой и с Соглашением. Эту цепочку можно назвать «Каталепсия»; она включает в себя, среди прочих эле¬ментов: магнетические пассы, сопротивление испытуемо¬го, признаки каталептического состояния, контролирую¬щие действия экспериментатора, действия врачей по про¬верке результатов (акции, входящие в цепочку, зани¬мают 3 часа: каталепсия наступает в 10 ч. 55 мин.).
VI. Вопрос I (Воскресенье, 3 ч. утра): П. задает вопросы загипнотизированному м-ру Вальдемару четыре раза; целесообразно будет вычленить четыре акциональ¬ные цепочки, связывая каждую из них с ответом, кото¬рый дает м-р Вальдемар. На первый вопрос следует
445
ответ: «Я сплю» (эти вопросительные цепочки строят¬ся совершенно одинаково: оповещение о вопросе, во-прос, задержка с ответом или нежелание отвечать, ответ).
VII. Вопрос II: этот вопрос задается экспериментато¬ром вскоре после первого вопроса. М-р Вальдемар от-вечает: «Я умираю».
VIII. Вопрос III: экспериментатор вновь спрашивает умирающего и загипнотизированного м-ра Вальдемара («Вы все еще спите?»); тот отвечает, связывая воедино оба предшествовавших ответа: «Да, все еще сплю — умираю».
IX. Вопрос IV: П. пробует еще раз заговорить с М. В.: он повторяет свой предыдущий вопрос (Ответ М. В. последует, начиная с лексии 105, см. ниже).
Сейчас мы приближаемся к тому месту новеллы, с которого мы возобновим наш текстовой анализ по от-дельным лексиям. Между Вопросом III и началом нашего анализа вклинивается важный элемент цепочки «Клини¬ческая смерть», а именно, умирание м-ра Вальдемара (101 —102). Загипнотизированный м-р Вальдемар отны¬не, с медицинской точки зрения, мертв. Как мы знаем, совсем недавно, в связи с проблемой трансплантации органов, вопрос о констатации смерти был рассмотрен заново: сегодня для констатации смерти требуются пока¬зания электроэнцефалограммы. Что же касается Эдгара По, — он, чтобы засвидетельствовать смерть М. В., соеди¬няет (в лексиях 101 и 102) все признаки смерти пациен¬та, которые принимались во внимание наукой того време¬ни: раскрытые глаза с закатившимися зрачками, трупный цвет кожи, исчезновение румянца, отпадение и расслаб¬ление нижней челюсти, почерневший язык, общая без-образность внешнего вида, заставляющая всех при¬сутствовавших отпрянуть от постели (еще раз отметим переплетение кодов: все эти медицинские признаки одно¬временно являются возбудителями ужаса; или, точнее говоря, ужас неизменно подается под прикрытием на¬учного алиби: научный код и символический код актуализуются одновременно, образуя неразрешимую аль¬тернативу) .
446
Поскольку с медицинской точки зрения мистер Валь¬демар мертв, рассказ на этом должен был бы закончить-ся: со смертью героя (за исключением случаев воскре¬сения в религиозных повествованиях) повествование завершается. Продолжение фабулы (начиная с лексии 103) является в данном случае одновременно и нарра¬тивной необходимостью (чтобы текст продолжался), и логическим скандалом. Этот скандал можно назвать «скандалом дополнения»: чтобы у рассказа имелось до¬полнение, надо, чтобы у жизни имелось дополнение; и здесь опять-таки рассказ оказывается равноценен жизни.
Текстовой анализ лексии 103—110
(103) «Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может реши¬тельно отказаться мне верить. Однако мой долг — про¬должать рассказ.»
а) Мы знаем, что оповещение о предстоящем выска¬зывании является элементом риторического (и метаязыкового) кода; нам также известна «аперитивная» значи¬мость этой коннотации.
б) Долг излагать факты, не думая о возможных неприятностях, — составная часть научно-этического кода.
в) Обещание невероятной реальности входит в «товарное» измерение рассказа; такое обещание повы¬шает «цену» рассказа; иначе говоря, здесь мы имеем дело с некоторым субкодом, входящим в состав общего кода коммуникации. Это субкод обмена. Всякий рассказ является элементом этого субкода; ср. (5)б.
(104) «Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и слу¬жителя, [...]»
В вышеуказанной длинной цепочке «Клиническая смерть» умирание было отмечено в лексии (101): здесь оно подтверждается как свершившийся факт; в лексии
447
(101) состояние смерти было описано (через набор симп¬томов); здесь оно удостоверяется посредством метаязыка.
(105) «как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось, может быть, с минуту. Затем [...]»
а) Хронологический код («с минуту») обеспечивает два эффекта: эффект реальности через точность, ср. (7) а, и драматический эффект: мучительное извлечение звука, рождение голоса напоминает о борьбе между жизнью и смертью: жизнь пытается высвободиться из засасывающей трясины смерти, она бьется в конвульсиях (или, точнее говоря, здесь смерть не может высвобо¬диться из объятий жизни: не будем забывать, что М. В. уже мертв; он уже не может бороться за удержание жизни; он может бороться лишь за удержание смерти).
б) Незадолго до момента, к которому мы подошли, П. обратился к М. В. с вопросом в четвертый раз; не успев ответить, М. В. перешел в состояние клинической смерти. Однако цепочка «Вопрос IV» все еще не завер¬шена (здесь и вступает в игру то самое дополнение, о котором мы говорили); движение языка указывает на то, что М. В. собирается заговорить. Поэтому наша цепочка должна выглядеть следующим образом: вопрос (100) / (клиническая смерть) / усилие ответить (цепочка пока еще не закончена).
в) Совершенно очевидно, что язык как орган имеет свою символику. Язык — это слово (отрезать язык — значит изувечить речь; это ярко проявляется в симво¬лической церемонии наказания богохульников); вместе с тем в языке есть нечто от человеческих внутренностей и в то же время — нечто фаллическое. Эта общая симво¬лика усилена здесь тем фактом, что двигающийся, тре¬пещущий язык противостоит (парадигматически) почер¬невшему и распухшему языку мертвеца (101). Таким образом, слову здесь уподобляется жизнь внутренностей, жизнь скрытых глубин, а само слово фетишизируется в виде содрогающегося фаллообразного органа, нахо¬дящегося как бы в предоргазменном состоянии: длящая¬ся минуту вибрация означает и устремленность к наслаж¬дению, и устремленность к слову: это вибрация Жела¬ния, устремленного к некоей цели.
448
(106) « [...] чз неподвижных разинутых челюстей послышался голос [...]»
а) Понемногу развертывается цепочка «Вопрос IV». Здесь появляется самое начало обширного, растянутого элемента «Ответ», который должен будет завершить эту цепочку. Конечно же, промедление с ответом — вещь, хорошо известная в грамматике повествования; но подоб¬ные промедления имеют обычно психологическое значе¬ние; в данном же случае промедление (и связанное с ним членение процесса ответствования на отдельные подробности) является чисто физиологическим; это — рождение голоса, заснятое и записанное в замедленном темпе.
б) Голос идет от языка (105), челюсти — не более, чем. дверные створки; голос идет не от зубов; рождаю-щийся сейчас голос не будет дентальным, овнешнен-ным, цивилизованным (подчеркнутая роль зубов при ар¬тикуляции—признак «утонченности»); нет, этот голос будет нутряным, утробным, мускульным. Культура по¬зитивно оценивает чистоту, твердость, четкость, ясность (зубы); голос же мертвеца идет из вязкости, из мускуль¬ной магмы внутренностей, из глубины. В структурном отношении — перед нами элемент символического кода.
(107) «[...] — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, кото¬рые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха.»
а) Здесь присутствует метаязыковой код: говорение о том, как трудно говорить о данном предмете. Отсюда — использование откровенно метаязыковых терминов: «эпитеты», «рассказать», «описать».
б) Развертывается символика Голоса: у этого голоса два характерных признака — внутреннее происхождение («глухие звуки») и прерывистость («хрипота», «отрывис¬тость»). Тем самым подготавливается логическое проти¬воречие (гарантия сверхъестественности): контраст
449
между разорванностью и клейкостью (108), в то время как «внутреннее происхождение» вызывает у восприни¬мающих чувство удаленности, дистанции.
(108) «Однако две особенности я счел тогда — и счи¬таю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере до меня — словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятным), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.
Я говорю о „звуках" и „голосе". Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе, ужасающе — членораздельными».
а) Здесь присутствуют несколько элементов метаязыкового (риторического) кода: оповещение («две особен-ности»), резюмирование («я говорю о»), ораторское предупреждение («боюсь оказаться непонятным»).
б) Расширяется символическое поле Голоса. Это происходит в результате развития характеристик, введен-ных «отчасти» в лексии (107): 1) отдаленность (абсо¬лютная дистанцированность): голос идет издалека, потому что / для того, чтобы дистанция между Жизнью и Смертью является / являлась тотальной (потому что подразумевает причину, принадлежащую к реальности, к тому, что стоит за бумажной страницей; для того, чтобы указывает на требования дискурса, желающего продолжаться, длиться в качестве дискурса; записывая потому, что / для того, чтобы, мы принимаем факт взаимодействия двух инстанций, которыми являются реальность, с одной стороны, и дискурс — с другой; тем самым мы признаем структурную двойственность всякого письма). Дистанция (между Жизнью и Смертью) под¬черкивается для того, чтобы еще более разительным стало ее последующее отрицание: наличие этой дистан¬ции обеспечивает возможность того «нарушения гра¬ницы», «проникновения», «вмешательства», описание которого и составляет цель данного рассказа; 2) подземность; вообще говоря, тематика Голоса двойственна, противоречива: иногда Голос предстает как нечто легкое,
450
окрыленное, улетающее вместе с жизнью; иногда — на¬оборот, как нечто тяжелое, глухое, идущее из-под земли: это голос пригнетенный, словно придавленный большим камнем; здесь мы имеем дело с древней мифологической темой: хтонический голос, замогильный голос; именно та¬ков разбираемый нами случай; 3) прерывность — необ¬ходимая предпосылка языковой деятельности; поэтому студенистая, клейкая, тягучая речь производит впечат¬ление сверхъестественности; эта характеристика голоса Вальдемара имеет двоякое значение: с одной стороны, она подчеркивает странность этого языка, который противен самой природе языка; с другой стороны, она дополняет парадигму аномальных качеств, вызывающих дискомфорт, отвращение: к разорванности («отрывистые звуки» в лексии 107) прибавляется липкость, вязкость (ср. вытекание гноя из-под век Вальдемара в тот момент, когда его выводят из гипноза, т. e. когда для него наступает настоящая смерть; лексия 133); 4) подчеркну¬тая членораздельность придает словам Мертвеца статус полноценного, развитого, взрослого языка; это язык, взятый в своей сущности, а не бормочущий, прибли¬зительный, несовершенный язык, отягощенный неязыко¬выми вкраплениями; отсюда — испуг и ужас аудитории: между Смертью и Языком существует вопиющее проти¬воречие; противоположностью Жизни является не Смерть (стереотипное представление), а Язык; невозможно решить, умер Вальдемар или жив; бесспорно только одно: он говорит; но его речь нельзя отнести ни к Жизни, ни к Смерти.
в) Отметим одну уловку в рамках хронологического кода: «я счел тогда — и считаю сейчас». Здесь наслаи-ваются друг на друга три временных пласта: время действия, диегесис («я счел тогда»), время писания («и считаю сейчас, когда пишу»), время чтения (захваченные настоящим временем текста, мы и сами начинаем «так считать» в момент чтения). Все это вместе взятое создает эффект реальности.
(109) «Мистер Вальдемар заговорил — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать.»
451
а) Все еще продолжается развертывание цепочки «Вопрос IV»: здесь дается напоминание о вопросе (см. 100) и оповещение о факте ответа.
б) Говорение загипнотизированного мертвеца и есть ответ на проблему III, выдвинутую в лексии 14: до какой границы гипноз может задерживать наступление смерти? Ответ: до сферы языка включительно.
(110) «Он сказал: — Да — нет — я спал — а те¬перь — теперь — я умер.»
Структурное значение данной лексии очень простое: это элемент «ответ» («Я умер») в цепочке «Вопрос IV». Однако за рамками диететической структуры (присут¬ствие лексии в составе акциональной цепочки) коннота¬ции этой реплики («Я умер») прямо-таки неисчерпаемы. Конечно же, существует много мифологических повест¬вований, где мертвец разговаривает; но во всех этих случаях мертвец хочет сказать: «я жив». В нашем же случае возникает подлинный hapax* нарративной грам¬матики; в повествование вводится абсолютно невозмож¬ное высказывание: «я умер». Попробуем развернуть не¬которые из имеющихся здесь коннотаций:
1) Мы уже говорили о теме вмешательства (Жизни в Смерть); вмешательство — это нарушение парадигмы, нарушение смысла; в парадигме Жизнь / Смерть раз¬деляющая косая линия прочитывается обычно как слово «против» (versus); достаточно будет прочесть ее как предлог «в», чтобы произошло вмешательство и пара¬дигма разрушилась. Именно это происходит сейчас: одно пространство незаконным образом вклинивается в другое пространство. Интересно здесь то, что вмешательство осуществляется на языковом уровне. Представление о мертвеце, совершающем какие-то поступки после смер¬ти, вполне банально; оно выражено в знаменитых леген¬дах о вечном наказании и о посмертном мщении, оно же комически выражено и в шутке Форнере: «Только смерть учит жить неисправимых людей». Но в нашем случае действия мертвеца — это чисто языковые дейст-
* Слово, сказанное однажды или встречающееся в источниках один раз (греч.). — Прим. перев.
452
вия, и, в довершение всего, этот язык не служит никакой цели, он не используется ради какого-нибудь воздействия на живых, он ничего не высказывает, кроме самого себя, он совершенно тавтологически обозначает сам себя; прежде, чем сказать: «я умер», — голос уже фактом своего существования как бы говорит: «я говорю». Это немного напоминает такую грамматику, которая не вы¬ражает ничего, кроме языка; бесцельностью высказы¬вания усиливается немыслимость ситуации: речь идет об утверждении сущности, которая находится не на своем месте (перемещенность — неотъемлемый признак симво-лического).
2) Другой немыслимый аспект этого высказывания связан с обращением метафорического значения в бук-вальное. В самом деле, сама по себе фраза «je suis mort (e) 'я умер(ла)', 'я мертв (а)'» довольно банальна: именно это говорит во Франции женщина, которая весь день делала покупки в большом универмаге, ходила к парикмахеру и т. д. Но буквализация именно этой ме¬тафоры невозможна: высказывание «я мертв», если его понимать буквально, всегда недействительно, потому что просрочено (тогда как высказывание «я сплю» может быть действительно и в буквальном значении, если оно исходит от загипнотизированного человека). Поэтому мы можем здесь говорить о речевом скандале.
3) Однако речь здесь может идти не только о ре¬чевом, но и о языковом скандале. Если взять мысленно сумму всех высказываний, возможных на данном языке, именно сопряжение первого лица (Je) с предикатом mort ('мертв') окажется в принципе невозможным: это языковая лакуна, языковая расщелина, именно это полое пространство языка и заполняет собою наша новелла. В ней высказывается не что иное, как именно эта невоз¬можность: анализируемая фраза — не описание, не кон¬статация, она не сообщает аудитории ничего, кроме самого факта высказывания; в известном смысле можно сказать, что перед нами — перформативная конструкция, но такая, которую ни Остин, ни Бенвенист, конечно, не предвидели в своих анализах (напомним, что перфор¬мативный является такой модус высказывания, при котором сообщение означает только факт сообщения: я объявляю войну; перформативные конструкции всегда
453
строятся в первом лице; в ином случае они превра¬щаются в констативные конструкции: он объявляет вой-ну): в нашем случае невозможная фраза перформирует собственную невозможность.
4) С чисто семантической точки зрения, фраза «je suis mort» утверждает одновременно два противопо-ложных факта (Жизнь и Смерть); это энантиосема, но опять-таки уникальная энантиосема: означающее выра¬жает означаемое (Смерть), которое находится в про¬тиворечии с фактом высказывания. Однако следует пойти еще дальше: перед нами не просто «отрицание» (denega¬tion) в психоаналитическом смысле термина (в этом случае «я умер», «я мертв» значило бы «я не умер», «я не мертв»), перед нами доведенный до пароксизма момент трансгрессии, нарушения границы; перед нами изобретение невиданной категории: правда — ложь, да — нет, смерть — жизнь мыслится как неделимое целое. Это целое не может вступать ни в какие комбинации; оно недиалектично, поскольку антитеза не подразумевает здесь никакого третьего элемента; это не какая-то дву¬ликая сущность, а единый и небывалый элемент.
5) В связи с фразой «Я умер» возможно еще одно психоаналитическое суждение. Мы сказали, что здесь происходит немыслимая буквализация смысла. Это зна¬чит, что Смерть, этот изначальный объект всякого вытес¬нения, вторгается здесь прямо в языковую деятель¬ность; этот прорыв предельно болезнен и мучителен, как видно из дальнейшего (147: «с языка, но не с губ, стра¬дальца рвались крики: „Умер! умер!"»); фраза «Я умер» — не что иное, как взорвавшееся табу. Однако, если сфера символического — это сфера неврозов, то возвращение к буквальному значению, отменяющее символ за «просроченностью», означает переход в про¬странство психоза: в этой точке новеллы всякий символ становится недействительным; всякий невроз — тоже; в тексте воцаряется психоз: необыкновенность историй По — это необыкновенность безумия.
Возможны и другие комментарии, в частности ком¬ментарий, предложенный Жаком Деррида4. Я ограни-чился теми, которые вытекают из структурного анализа:
4 Derrida J. La voix et le phenomene. P.: Seuil, 1967, p. 60—61.
454
я пытался показать, что фраза «Я умер» — это вовсе не «невероятное сообщение» (l'enonce incroyable), но нечто более принципиальное — «невозможный акт высказы¬вания» (renonciation impossible).
Прежде чем перейти к методологическим выводам, я напомню, в чисто сюжетном плане, конец новеллы: Вальдемар остается загипнотизированным мертвецом в течение 7 месяцев; затем, с согласия врачей, П. решает его разбудить; пассы оказывают свое действие, и на щеках Вальдемара появляется легкий румянец, но, в то время как П. старается активизировать пробуждение пациента, усиливая пассы, с языка Вальдемара рвутся крики «Умер! умер!» и внезапно все его тело оседает, расползается и разлагается под руками экспериментатора: «На постели перед нами оказалась полужидкая, отвра¬тительная, гниющая масса».
Методологическое заключение
Нижеследующие замечания, призванные заключить наш фрагментарный анализ, не обязательно будут «тео¬ретическими»; теория не абстрактна, не спекулятивна; сам анализ, хотя он и относился к совершенно конкрет¬ному тексту, уже был теоретичен — в том смысле, что целью его было наблюдение за процессом самопроиз¬водства языка. Это значит (повторим еще раз), что мы не занимались экспликацией текста, понимаемой как «объяснение текста»: мы просто пытались уловить по¬вествование в процессе его становления (что подразу¬мевает одновременно идею структуры и идею движения, идею системы и идею бесконечности). Наша структура¬ция не идет дальше или глубже той, которая спонтанно возникает в процессе чтения. Таким образом, наша задача сейчас состоит не в том, чтобы выявить «струк¬туру» новеллы По, тем менее — структуру всякого по¬вествования вообще. Мы просто хотим, не будучи уже прикованы к той или иной точке текста, бросить общий взгляд на основные коды, выделенные нами.
Само слово «код» не должно здесь пониматься в строгом, научном значении термина. Мы называем ко¬дами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую орга¬низацию значений, которые навязывают представление
455
об определенной структуре; код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры: ко¬ды — это определенные типы уже виденного, уже читан¬ного, уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое письмо.
Хотя, по сути, все коды создаются культурой, среди встреченных нами кодов есть один, за которым мы спе-циально закрепим наименование культурный код: это код человеческого знания — или, скорее, знаний: обществен¬ных представлений, общественных мнений — короче, куль¬туры, как она транслируется книгой, образованием и, в более широком аспекте, всеми видами общественных связей. Знание как корпус правил, выработанных об¬ществом, — вот референция этого кода. Нам встретилось много этих культурных кодов (или много субкодов обще¬го культурного кода): научный код, который опирается (в нашей новелле) на правила экспериментальной науки и на принципы научной этики; риторический код, объединяющий все общественные правила говоре¬ния: кодированные формы повествования, кодированные формы речи (оповещение, резюмирование и т. д.); к этому коду относятся и метаязыковые высказывания (дискурс говорит о самом себе); хронологический код: «датирование», которое нам кажется сегодня само собой разумеющимся, естественным, объективно данным, на самом деле представляет собой практику, глубоко обус¬ловленную культурными правилами, — и это логично, поскольку датирование подразумевает и навязывает определенную идеологию времени («историческое» вре¬мя отличается от «мифологического» времени); совокуп¬ность хронологических вех составляет, таким образом, сильный культурный код (исторически обусловленную манеру членить время в целях драматизации, наукообра¬зия, достижения эффекта реальности); социо-исторический код позволяет связать высказывание со всей сум¬мой усваиваемых с самого рождения знаний о нашем времени, о нашем обществе, о нашей стране (сюда, например, относится определенный способ именования: «мистер Вальдемар», а не просто «Вальдемар»). Нас не должен тревожить тот факт, что мы возводим в ранг кода предельно банальные детали текста; напротив, именно их столь очевидная банальность, незначитель-
456
ность и предрасполагает их к вхождению в состав кода, как мы его определили: код — это корпус правил, на¬столько расхожих, что мы принимаем их за природные данности; но если бы рассказ вышел за рамки этих правил, он тотчас бы стал неудобочитаемым.
Код коммуникации мог бы быть назван и иначе: код адресации. Слово коммуникация должно пониматься здесь в узком смысле: оно не охватывает всех зна¬чений, содержащихся в тексте; и уж заведомо не охва-тывает всего означивания, разворачивающегося в тексте. Слово «коммуникация» указывает здесь лишь на те отно¬шения, которым текст придает форму обращений к адре¬сату (таков «фатический» код, призванный усилить контакт между рассказчиком и читателем), или форму обмена (рассказ в обмен на истину, рассказ в обмен на жизнь). В общем, слово «коммуникация» должно пони¬маться здесь в экономическом смысле (коммуникация как циркуляция товаров).
Символическое поле («поле» — менее жесткое поня¬тие, нежели «код»), разумеется, очень обширно, тем более что мы вкладываем в слово «символ» самый общий смысл, не ограничивая себя ни одной из привычных конннотаций этого слова. Наше понимание символа близко к психоаналитическому пониманию: символ — это, грубо говоря, некий языковой элемент, который перемещает тело и позволяет увидеть, угадать некую иную площадку действия, нежели та площадка, с которой прямо говорит высказывание, насколько мы его пони¬маем. Символический каркас новеллы По состоит в нарушении табу на Смерть, в нарушении классификации, или, по удачному выражению, употребленному Бодлером, во вмешательстве (empietement) Жизни в Смерть (а не Смерти в Жизнь, что было бы банально; тонкость новел¬лы обусловлена частично тем, что речь кажется исхо¬дящей от асимволического повествователя, который играет роль объективного ученого, преданного чистым фактам, чуждого символам (которые незамедлительно силой вторгаются в новеллу).
Код действий, или акциональный код, поддерживает фабульный каркас новеллы: действия или высказывания, которые их денотируют, организуются в цепочки. Цепоч¬ка всегда сохраняет некоторую приблизительность (кон-
457
туры цепочки не могут быть определены строго и без¬условно); выделение цепочек, однако, оправдывается двумя обстоятельствами: во-первых, мы испытываем спонтанное желание дать некоторой группе фактов еди¬ное, обобщенное наименование (например, такие значе¬ния, как слабое здоровье, ухудшение состояния, агония, умирание тела, разжижение тела, естественным образом группируются вокруг одного стереотипного понятия «Физическая Смерть»; во-вторых, элементы акциональной цепочки связаны между собой (точнее, друг с дру¬гом, поскольку они следуют друг за другом в ходе рас¬сказа) кажущейся логикой. Мы хотим сказать, что логика акциональной цепочки — это, с научной точки зрения, очень сомнительная логика; это лишь видимость логики, обусловленная не формальными законами умо¬заключения, а нашими умственными привычками: это эндоксальная, культурная логика (нам, например, кажет¬ся «логичным», что суровый диагноз следует за конста¬тацией плохого состояния здоровья); кроме того, эта логика смешивается с хронологией; нам все время кажет¬ся, что после — значит вследствие. В нашем восприятии темпоральность и каузальность (которые на самом деле никогда не встречаются в повествовании в чистом виде) обеспечивают своего рода естественность, понятность, удобочитаемость рассказа: в результате мы можем, на¬пример, пересказать его сюжет (то, что у древних на¬зывалось словом «аргумент» — термином, относящимся и к логике, и к повествованию).
И еще один код, проходящий сквозь новеллу с первых же ее строк: код Загадки. Мы не имели возможности увидеть, как он работает, потому что мы проанализи¬ровали лишь очень малую часть рассказа По. Код За-гадки объединяет внутри себя элементы, сцепление ко¬торых (нарративная фраза) позволяет сначала выдви-нуть некую загадку, а затем, после нескольких ретар¬даций, составляющих всю «соль» повествования, открыть решение загадки. Элементы этого «энигматического» (или «герменевтического») кода очень дифференцированны: необходимо различать, например, выдвижение за¬гадки (всякое высказывание, смыслом которого является утверждение «имеется загадка») и формулирование за¬гадки (изложение сути таинственного вопроса). В нашей
458
новелле загадку выдвигает уже само заглавие (обещается некая «правда», хотя мы и не знаем еще, к какому вопросу эта правда относится), а формулирование на¬чинается с первых же абзацев (научное изложение проб¬лем, связанных с планируемым экспериментом), и с пер¬вых же абзацев начинаются ретардации: всякое повест¬вование заинтересовано в том, чтобы оттянуть разреше¬ние выдвинутой загадки, поскольку это разрешение будет означать конец самого повествования, его смерть. Как мы видели, рассказчик тратит целый абзац на то, чтобы под видом проявлений научной добросовестности оттянуть изложение сути дела. Что касается решения загадки, оно здесь не носит математического характера: на изначальный вопрос, вопрос о правде, отвечает все повествование в целом (однако эта правда может быть в концентрированном виде сведена к двум пунктам: к вы¬сказыванию «я умер» и к внезапному переходу тела мерт¬веца в жидкое состояние в момент выхода из гипноза); правда здесь подлежит не раскрытию, а вскрытию.
Мы перечислили коды, проходившие сквозь проана¬лизированные нами фрагменты. Мы сознательно укло-няемся от более детальной структурации каждого кода, не пытаемся распределить элементы каждого кода по некоей логической или семиологической схеме; дело в том, что коды важны для нас лишь как отправные точки «уже читанного», как трамплины интертекстуаль¬ности: «раздерганность» кода не только не противоречит структуре (расхожее мнение, согласно которому жизнь, воображение, интуиция, беспорядок противоречат систе¬матичности, рациональности), но, напротив, является неотъемлемой частью процесса структурации. Именно это «раздергивание текста на ниточки» и составляет разницу между структурой (объектом структурного анализа в собственном смысле слова) и структурацией (объектом текстового анализа, пример которого мы и пытались про¬демонстрировать) .
Употребленная нами сейчас «текстильная» метафора не случайна. В самом деле, текстовой анализ требует, чтобы мы представляли себе текст как ткань (таково, кстати, этимологическое значение слова «текст»), как переплетение разных голосов, многочисленных кодов, одновременно перепутанных и незавершенных. Повество-
459
вание — это не плоскость, не таблица; повествование — это объем, это стереофония (Эйзенштейн настойчиво под¬черкивал принцип контрапункта в своих постановках, открывая тем самым путь к признанию тождественности фильма и текста): у письменного повествования тоже есть свое поле прослушивания. Форма существования смысла (за исключением, может быть, акциональных цепочек) — не развертывание, а взрыв: позывные, вызов принимающего, проверка контакта, условия соглашения и обмена, взрывы референций, вспышки знания, более глухие и более глубокие толчки, идущие «с другой пло¬щадки» (из сферы символического), прерывность дей¬ствий, относящихся к одной цепочке, но не связанных натуго, все время перебиваемых другими смыслами.
Весь этот «объем» движется вперед (к концу рас¬сказа), вызывая тем самым читательское нетерпение, под воздействием двух структурных принципов:
а) искривление: элементы одной цепочки или одного кода разъединены и переплетены с инородными элемен¬тами; цепочка кажется оборванной (например, ухуд¬шение состояния Вальдемара), но она подхватывается дальше, иногда — гораздо дальше; в результате возни¬кает читательское ожидание; теперь мы даже можем дать определение цепочки: это плавающая микрострук¬тура, создающая не логический объект, а ожидание и разрешение ожидания;
б) необратимость: несмотря на «плавающий» харак¬тер структурации, в классическом, удобочитаемом рас-сказе (таков рассказ По) имеются два кода, которые поддерживают векторную направленность структурации: это акциональный код (основанный на логико-темпо¬ральной упорядоченности) и код Загадки (вопрос вен¬чается ответом); так создается необратимость рассказа. Как легко заметить, именно на этот принцип покушается сегодняшняя литературная практика: авангард (восполь¬зуемся для удобства привычным термином) пытается сделать текст частично обратимым, изгнать из текста логико-темпоральную основу, он направляет свой удар на эмпирию (логика поведения, акциональный код) и на истину (код загадок).
Не следует, однако, преувеличивать расстояние, от¬деляющее современный текст от классического рассказа.
460
Как мы видели, в новелле По одна и та же фраза очень часто отсылает к двум одновременно действующим кодам, притом что невозможно решить, который из них «истинный» (например, научный код и символический код) : необходимое свойство рассказа, который достиг уровня текста, состоит в том, что он обрекает нас на неразрешимый выбор между кодами. Чьим именем будем мы обосновывать наш выбор? Именем автора? Но рас¬сказ представляет нам только повествователя, речевого субъекта, запертого в своей речи. Именем того или иного типа критики? Но все они оспоримы, подчинены унося¬щему их потоку Истории (это не значит, что они бес¬полезны; каждый из них участвует в общем объеме текста, но лишь на правах одного голоса). Неразре¬шимость — это не слабость, а структурное условие повест¬вования: высказывание не может быть детерминировано одним голосом, одним смыслом — в высказывании при-сутствуют многие коды, многие голоса, и ни одному из них не отдано предпочтение. Письмо и заключается в этой утрате исходной точки, утрате первотолчка, побу¬дительной причины, взамен всего этого рождается некий объем индетерминаций или сверхдетерминаций: этот объем и есть означивание. Письмо появляется именно в тот момент, когда прекращается речь, то есть в ту секунду, начиная с которой мы уже не можем опре¬делить, кто говорит, а можем лишь констатировать: тут нечто говорится.
1973.
Удовольствие от текста.
Перевод Г. К. Косикова . . . . 462
Единственным аффектом в моей жиз¬ни был страх.
Гоббс
Удовольствие от текста подобно бэконовскому при¬творщику: оно могло бы сказать о себе: ни за что не извиняться, ни за что не объясняться. Удовольствие никогда ничего не отрицает: «Я отведу взгляд; отныне это будет единственной формой моего отрицания».
*
Вообразим себе индивида (своего рода г-на Теста наизнанку), уничтожившего в себе все внутренние пре-грады, все классификационные категории, а заодно и все исключения из них — причем не из потребности в синкретизме, а лишь из желания избавиться от древнего призрака, чье имя — логическое противоречие; такой индивид перемешал бы все возможные языки, даже те, что считаются взаимоисключающими; он безмолвно стерпел бы любые обвинения в алогизме, в непоследо¬вательности, сохранив невозмутимость как перед лицом сократической иронии (ведь ввергнуть человека в проти¬воречие с самим собой как раз и значит довести его до высшей степени позора), так и перед лицом устра¬шающего закона (сколько судебных доказательств осно¬вано на психологии единства личности!). Подобный человек в нашем обществе стал бы олицетворением нравственного падения: в судах, в школе, в доме ума¬лишенных, в беседе с друзьями он стал бы чужаком. И вправду, кто же способен не стыдясь сознаться, что он противоречит самому себе? Тем не менее такой контргерой существует; это читатель текста — в тот са¬мый момент, когда он получает от него удовольствие. В этот момент древний библейский миф вновь возвра¬щается к нам: отныне смешение языков уже не является
462
наказанием, субъект обретает возможность наслаждать¬ся самим фактом сосуществования различных языков, работающих бок о бок: текст-удовольствие — это сча¬стливый Вавилон.
(Удовольствие/ Наслаждение: в терминологическом отношении здесь все еще зыбко, я сам пока что споты-каюсь, путаюсь. В любом случае тут всегда останется место для неопределенности: разграничение этих поня¬тий не приведет к твердым классификациям, парадигма сохранит подвижность, смысл — шаткость, неоконча¬тельность, обратимость; дискурс останется незавершен¬ным) .
*
Если я с удовольствием читаю ту или иную фразу, ту или иную историю, то или иное слово, значит, и писавший их испытывал удовольствие (что, впрочем, отнюдь не исключает писательских сетований на муки творчества). А наоборот? Если я, писатель, испытываю удовольствие от письма, то значит ли это, что удоволь¬ствие будет испытывать и мой читатель? Отнюдь. Я вы¬нужден разыскивать этого читателя («вылавливать» его) не имея ни малейшего представления о том, где он находится. Вот тогда-то и возникает пространство наслаждения. Мне необходима не «личность» другого, а именно пространство как возможность диалектики же¬лания, нечаянности наслаждения, пока ставки еще не сделаны, пока еще есть возможность вступить в игру.
Мне предлагают некий текст. Текст этот наводит на меня скуку. Впечатление такое, будто он что-то лепечет. Лепет текста — это всего лишь языковая пена, образу¬ющаяся в результате простого позыва к письму. Это еще не перверсия, это нужда. Записывая свой текст, скрип¬тор, в сущности, говорит на языке грудного младенца — повелительном, машинальном, бесстрастном; это поток причмокиваний (тех самых млечных фонем, которые образцовый иезуит ван Гиннекен считал чем-то проме¬жуточным между письмом и языком); это сосущие бес¬цельные движения, недифференцированная оральность,
463
отличная от той, которая приводит к появлению гастрософических и языковых удовольствий. Вы просите, что¬бы я вас читал, а между тем я для вас — всего лишь предлог для подобной просьбы; я ничего не олицетво¬ряю в ваших глазах, лишен какого бы то ни было образа (помимо, быть может, смутного образа Матери); я для вас не тело и даже не объект (мне, впрочем, это совершенно безразлично, ибо моя душа не требует признания с вашей стороны), но всего лишь сфера, сосуд, куда вы можете излиться. В конечном счете можно сказать, что вы написали свой текст вне всякого наслаждения; ваш лепечущий текст по сути своей ос¬тается фригидным, как и всякая потребность, до тех пор, пока в нем не возникнет желание, невроз.
Невроз — это некий крайний предел, но не по отно¬шению к «здоровью», а по отношению к той стихии «невозможного», о которой говорит Батай («Невроз — это опасливое переживание глубин невозможного» и т. д.); и однако же эта крайность — единственное, что позволяет родиться акту письма (и чтения). Возникает следующий парадокс: тексты, подобные текстам Батая (или таких, как он, авторов), написанные против нев¬роза, из самых недр безумия, все же несут в себе (если они хотят, чтобы их читали) толику невроза, как раз и необходимую для соблазнения читателей: эти «ужас¬ные» тексты кокетничают несмотря ни на что.
Таким образом, всякий писатель может сказать о себе: на безумие не способен, до здоровья не снисхожу, невротик есмь.
Текст, который вы пишете, должен дать мне дока¬зательства того, что он меня желает. Такое доказатель-ство существует: это письмо. Письмо — это вот что: наука о языковых наслаждениях, камасутра языка (причем существует лишь единственный трактат, обуча¬ющий этой науке, — само письмо).
*
Сад: очевидно, что удовольствие при чтении его произведений порождается известными разрывами (или
464
столкновениями): в соприкосновение приходят антипа¬тические коды (например, возвышенный и тривиальный); возникают до смешного высокопарные неологизмы; пор¬нографические пассажи отливаются в столь чистые в своей правильности фразы, что их можно принять за грамматические примеры. Как утверждает в таких слу¬чаях теория текста, язык оказывается перераспределен, причем эго перераспределение во всех случаях происхо¬дит благодаря разрыву. Очерчиваются как бы два про-тивоположных края: первый — это воплощение благо¬разумия, конформности, плагиата (здесь слепо копи-руется каноническая форма языка — та, которая закре¬пляется школой, языковым обычаем, литературой, куль¬турой); второй же край подвижен, неустойчив (спосо¬бен принять любые очертания) ; это место, где всякий раз можно подсмотреть одно и то же — смерть языка. Наличие этих двух краев, зрелище компромисса между ними совершенно необходимы. Ни культура, ни акт ее разрушения сами по себе не эротичны: эротичен лишь их взаимный сдвиг. Удовольствие от текста подобно то¬му неуловимому, невыразимому, сугубо романическому мгновению, которое переживает сладострастник, перере¬зающий — в конце рискованной затеи — веревку в тот самый миг, когда его охватывает наслаждение.
Отсюда — один из возможных способов оценки сов¬ременных произведений: их ценность, очевидно, проис-текает из их двойственности. Это значит, что у них всегда есть два края. Может показаться, что взрыво-опасный край, будучи средоточием насильственного на¬чала, находится в привилегированном положении; меж¬ду тем, на самом деле насилие отнюдь не является источником удовольствия; удовольствие равнодушно к разрушению; оно ищет того места, где наступает бес¬памятство, где происходит сдвиг, разрыв, дефляция, fading *, охватывающий субъекта в самый разгар на¬слаждения. Поэтому таким краем пространства удо-вольствия оказывается именно культура, в любой ее форме.
* Затухание (англ.). — Прим. перев.
465
Прежде всего, разумеется, — в форме чистой мате¬риальности, то есть в форме языка, его лексики, мет¬рики, просодии (здесь этот край наиболее отчетлив). В «Законах» Филиппа Соллерса объектом агрессии, раз-рушения становится буквально все — идеологические установления, интеллектуальная круговая порука, раз¬общенность языков, даже неприкосновенный синтакси¬ческий каркас субъект/предикат; фраза перестает быть моделью текста, сам же текст зачастую превращается в мощный словесный фонтан, в цветение инфраязыка. И тем не менее вся эта стихия разбивается о противо¬положный край, образованный метрикой (декасиллабической), ассонансами, вполне нормальными неологиз¬мами, просодическими ритмами, тривиализмами (цитат¬ного свойства). Процесс разрушения языка оказывается приостановлен за счет вторжения в текст политического дискурса, поставлен в рамки весьма древней культуры означающего.
В «Кобре» Северо Сардуя (переведенной Соллерсом совместно с автором) чередуются два типа удовольст-вия, как бы стимулирующие друг друга; другой край — это обещание другого счастья; еще, еще, еще больше! каждое новое слово — это новое празднество. Устрем¬ляясь по бурному руслу, язык возрождается в ином месте, там где сливаются все возможные языковые удовольствия. Где же именно? в райском саду слов. Это поистине райский текст — текст утопический (не имеющий места); это гетерология как продукт перепол¬ненности, встречи всех возможных, причем абсолютно точных означающих; автор (а вместе с ним и читатель) словно обращается к словам, оборотам, фразам, прила¬гательным, асиндетонам — ко всем сразу: я всех вас люблю совершенно одинаково, люблю как знаки, так и призраки тех предметов, которые они обозначают; это своего рода францисканство, взывающее ко всем словам одновременно, призывающее их поскорее явить¬ся, поспешить, пуститься в путь; возникает изукрашен¬ный, узорчатый текст; мы как бы перегружены языко¬вым богатством, подобно тем детям, которым никогда ни в чем не отказывают, ни за что не наказывают или хуже того — ничего им не «позволяют». Подобный
466
текст - это ставка на нескончаемое пиршество, миг,
когда языковое удовольствие начинает задыхаться от собственного преизбытка и изливается наслажде-нием.
Флобер — вот писатель, нашедший способ преры¬вать, прорывать дискурс, не лишая его осмыслен¬ности.
Разумеется, риторике известны приемы разрушения правильных конструкций (анаколуф) и нарушения сочи-нительно-подчинительных связей (асиндетон), однако именно у Флобера такое нарушение перестало быть чем-то исключительным, спорадическим, перестало быть блистательным вкраплением в презренную ткань обы¬денной речи: у Флобера отсутствует язык, располага¬ющийся по эту сторону названных фигур (иными сло¬вами: у него есть только один и единственный язык); асиндетон как принцип пронизывает весь акт высказы¬вания, так что, сохраняя полную внятность, дискурс одновременно словно исподтишка предается всем мыс¬лимым и немыслимым безумствам: вся мелкая монета логики как бы теряется в его складках.
Перед нами весьма деликатное, почти неуловимое состояние дискурса, при котором механизм нарративности разлажен, а рассказываемая история все же про¬должает сохранять внятность: никогда ранее оба края пропасти не вырисовывались столь отчетливо и опреде¬ленно, никогда удовольствие не предлагалось читателю с такой изысканностью — по крайней мере, читателю, обладающему вкусом к продуманным диспропорциям, к хитроумным проделкам над конформизмом, к скрытому разрушению. Заслуга здесь, конечно, принадлежит самому автору, но сверх того возникает еще и зрелищ¬ное удовольствие: дерзость заключается в том, чтобы придать языковому мимесису (языку, подражающему самому себе и тем приносящему немалое удовольствие) столь коренную (доходящую до самого корня) двусмыс¬ленность, при которой текст ускользает из-под власти пародии (с ее спокойной совестью или, что то же самое, с ее склонностью к самообману) — пародии, которая есть не что иное, как кастрирующий смех, «комизм, провоцирующий на смех».
467
*
Не являются ли наиболее эротичными те места нашего тела, где одежда слегка приоткрывается. Ведь перверсия (как раз и задающая режим текстового удо¬вольствия) не ведает «эрогенных зон» (кстати, само это выражение довольно неудачно); эротичны, как известно из психоанализа, явления прерывности, мерцания: например, кусочек тела, мелькнувший между двумя частями одежды (рубашка и брюки), между двумя кром-ками (приоткрытый ворот, перчатка и рукав); соблаз¬нительно само это мерцание, иными словами, эффект появления-исчезновения.
Это — совсем не то удовольствие, на которое рассчи¬тан стриптиз или прием повествовательной задержки. И в том и в другом случае отсутствует явление разрыва, разошедшихся краев; есть только процесс последова¬тельного обнаружения: все возбуждение сводится к нетерпеливому ожиданию либо увидеть наконец потаен¬ное место (мечта школьников), либо узнать, чем кон¬чится рассказываемая история (романическое удоволь¬ствие). Парадокс в том, что, хотя подобное удовольствие общедоступно, оно имеет намного более интеллектуаль¬ный характер, нежели то, о котором речь шла выше: такое удовольствие (стремление открыть истину, обна¬ружить, познать причины и цели вещей) можно было бы назвать эдиповым, если, конечно, верно, что всякое повествование (всякое обнаружение истины) предпола¬гает появление Отца (отсутствующего, скрытого или гипостазированного); вот чем, очевидно, объясняется связь между структурой повествовательных форм, структурой семейных отношений и запретом на наготу, слившимися для нас в мифе о Ное, чью наготу прикры¬ли его сыновья.
Любопытно, однако, что наиболее классические по¬вествования (романы Золя, Бальзака, Диккенса, Толсто-го) содержат в себе своего рода ослабленный тмесис: ведь отнюдь не все подряд в их произведениях мы чи-таем с одинаковым вниманием; напротив, возникает некий свободный ритм чтения, мало пекущийся о целос-тности текста; ненасытное желание узнать «что будет дальше» заставляет нас опускать целые куски, перепры-
468
гивая через те из них, которые кажутся «скучными», чтобы поскорее добраться до наиболее захватывающих мест (всякий раз оказывающихся узловыми сюжетны¬ми точками, приближающими нас к разгадке чьей-то тайны или судьбы); мы совершенно безнаказанно (ведь никто за нами не следит) перескакиваем через всевоз¬можные описания, отступления, разъяснения, рассуж¬дения; мы уподобляемся посетителю кабаре, вздумав¬шему подняться на сцену и подхлестнуть стриптиз, пос¬пешно, но в строгом порядке срывая с танцовщицы детали ее туалета, иными словами, подгоняя ход ритуа¬ла, но соблюдая его последовательность (подобно свя¬щеннику, скороговоркой проглатывающему мессу). Тмесис будучи источником и символом всякого удо¬вольствия, сталкивает здесь два повествовательных края, противопоставляя то, что важно, и то, что неважно для раскрытия сюжетной загадки; такой зазор имеет сугубо функциональное происхождение; он не принадле¬жит структуре самих повествовательных текстов, а рож¬дается уже в процессе их потребления; автор не способен предугадать возникновение подобных зазоров, поскольку вовсе не желает писать то, чего не станут читать. Тем не менее удовольствие от великих повествовательных произ¬ведений возникает именно в результате чередования читае¬мых и пропускаемых кусков: неужто и вправду кто-нибудь когда-нибудь читал Пруста, Бальзака, «Войну и мир» подряд, слово за словом? (Счастливец Пруст: перечитывая его роман, мы всякий раз пропускаем раз¬ные места.)
Что доставляет мне удовольствие в повествователь¬ном тексте, так это не его содержание и даже не его структура, но скорее те складки, в которые я сминаю его красочную поверхность: я скольжу по тексту глаза¬ми, перескакиваю через отдельные места, отрываю взгляд от книги, вновь в нее погружаюсь. Во всем этом нет ничего общего с той бездонной трещиной, которая под действием текста-наслаждения разверзается в нед¬рах самого языка.
Отсюда — два способа чтения: первый напрямик ведет меня через кульминационные моменты интриги; этот способ учитывает лишь протяженность текста и не
469
обращает никакого внимания на функционирование са¬мого языка (если я читаю Жюля Верна, то дело идет споро; причина в том, что, хотя интерес к дискурсу у меня потерян полностью, я ни в коей мере не заворожен чувством языковой потерянности — в том смысле, какой это слово может иметь в спелеологии); при втором же способе чтения я не пропускаю ничего; такое чтение побуждает смаковать каждое слово, как бы льнуть, приникать к тексту; оно и вправду требует прилежания, увлеченности; в любой точке текста оно подмечает асинде¬тон, рассекающий отнюдь не интригу, а само пространство языков: при таком чтении мы пленяемся уже не объемом (в логическом смысле слова) текста, расслаивающегося на множество истин, а слоистостью самого акта, озна¬чивания (signifiance); здесь, словно при игре в жгуты, азарт возникает не из стремления во что бы то ни стало двигаться вперед, а в результате своего рода верти¬кального ералаша (вертикальности языка и процесса его разрушения); пучина, поглощающая субъекта игры (субъекта текста), разверзается в тот самый миг, когда ладонь (всякий раз разная) ложится на другую ладонь (а не рядом с ней). Парадоксально (ибо обыденное сознание убеждено: чем быстрее, тем веселее), но именно этот второй, прилежный способ чтения более все¬го подходит к современным текстам. Попробуйте читать роман Золя медленно, подряд — и книга выпадет у вас из рук; попробуйте читать быстро, отрывочно текст современный — и он тут же ощетинится, откажется доставлять вам удовольствие; вы ждете, чтобы что-то произошло, а не происходит ровным счетом ничего, ибо то, что происходит с языком, никогда не происходит с дискурсом: «происходит» же подвижка краев, «возни¬кает» просвет наслаждения, и возникает он именно в языковом пространстве, в самом акте высказывания, а не в последовательности высказываний-результатов: что¬бы читать современных авторов, нужно не глотать, не по¬жирать книги, а трепетно вкушать, нежно смаковать текст, нужно вновь обрести досуг и привилегию читателей былых времен — стать аристократическими читателями.
Если я решился судить о тексте в соответствии с критерием удовольствия, то мне уже не дано заявить:
470
этот текст хорош, а этот дурен. Никаких наградных списков, никакой критики; ведь критика всегда предпо-лагает некую тактическую цель, социальную задачу, нередко прикрываемую вымышленными мотивами. Мне заказана всякая дозировка, иллюзия, будто текст под¬дается улучшению, что он может быть измерен мерой нормативных предикатов: дескать, в нем слишком мно¬го этого, зато слишком мало того и т. п.; текст (подоб¬но голосу, выводящему мелодию) способен вырвать у меня лишь одно (причем отнюдь не оценочное) призна¬ние: это так! или точнее: это так для меня! Выражение «для меня» имеет здесь не субъективный и не экзистенциальный, а ницшевский смысл («...в основе лежит всегда вопрос: «Что это для меня?..») *.
Живое начало текста (без которого, вообще говоря, текст попросту невозможен) — это его воля к наслаж-дению, — здесь он превозмогает позыв, выходит из ста¬дии лепетания и пытается перелиться, прорваться сквозь плотину прилагательных — этих языковых шлюзов, че¬рез которые широким потоком в нас вливается стихия идеологии и воображаемого.
*
Текст-удовольствие — это текст, приносящий удов¬летворение, заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию; он идет от культуры, не порывает с ней и свя¬зан с практикой комфортабельного чтения. Текст-нас¬лаждение — это текст, вызывающий чувство потерян¬ности, дискомфорта (порой доходящее до тоскливости); он расшатывает исторические, культурные, психологи¬ческие устои читателя, его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает кризис в его отношениях с языком.
Вот почему анахроничен читатель, пытающийся враз удержать оба эти текста в поле своего зрения, а у себя в руках — и бразды удовольствия, и бразды наслажде-
* Цит. по русск. переводу: Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. IX. Московское книгоиздательство, 1910, с. 262. — Прим. перев.
471
ния; ведь тем самым он одновременно (и не без внут¬реннего противоречия) оказывается причастен и к куль-туре с ее глубочайшим гедонизмом (свободно проникаю¬щим в него под маской «искусства жить», которому, в частности, учили старинные книги), и к ее разрушению: он испытывает радость от устойчивости собственного я (в этом его удовольствие) и в то же время стремится к своей погибели (в этом его наслаждение). Это дваж¬ды расколотый, дважды извращенный субъект.
*
Общество друзей Текста: у его членов не будет ни¬чего общего (ведь непременного согласия относительно текста-удовольствия быть не может), кроме врагов — всяческих зануд, налагающих запрет как на сам текст, так и на доставляемое им удовольствие; делается это в силу разных причин — культурного конформизма, уз¬колобого рационализма (с подозрением относящегося ко всякой «мистике» в литературе), политического мо¬рализаторства, критики означающих, тупого прагматиз¬ма, всякого рода благоглупостей, а также вследствие утраты вербального желания, стремления разрушить дискурс. У подобного общества не может быть никакого постоянного местопребывания, его деятельность развер¬нется в сфере полнейшей атопии; тем не менее оно пред¬станет как своеобразный фаланстер, где признается право на противоречия (и следовательно, ограничивает¬ся риск идеологического плутовства), уважаются раз¬личия во мнениях, а понятие конфликта теряет всякий смысл (поскольку он не ведет к удовольствию).
«Пусть принцип различия тайком займет место конф¬ликта». Различие — это вовсе не средство замаскиро-вать или приукрасить конфликт: различие преодолевает конфликт, находится по ту сторону конфликта и в то же время как бы рядом с ним. Конфликт есть не что иное, как различие, доведенное до степени нравственного столкновения; всякий раз (и такое случается все чаще), когда конфликт утрачивает тактический (имеющий целью изменить реальную ситуацию) характер, в нем можно подметить нехватку радости, крах перверсии,
472
раздавленной под тяжестью собственного кода и не умеющей возродиться: в основе конфликта всегда лежит некий код, а потому язык агрессии — это один из наи¬более древних и употребительных языков. Отвергая на¬силие, я отвергаю сам код (тексты Сада создаются вне всякого кода, ибо Сад непрестанно вырабатывает свой собственный, уникальный код; оттого в этих текстах и нет никаких конфликтов — одни только триумфы). Я люблю текст именно за то, что он является для меня тем специфическим языковым пространством, где не¬возможны никакие «сцены» (в семейном, супружеском смысле), никакая логомахия. Текст — это ни в коем случае не «диалог»: в нем нет и намека на лукавство, агрессию, шантаж, нет ни малейшего соперничества идиолектов; в море обыденных человеческих отношений текст — это своего рода островок, он утверждает асоци¬альную природу удовольствия (социален только досуг) и позволяет заметить скандальный характер истины, заключенной в наслаждении: наслаждение — если от¬влечься от всех образных ассоциаций, связанных с этим словом, — всегда нейтрально.
*
Сценическое пространство текста лишено рампы: позади текста отнюдь не скрывается некий активный субъект (автор), а перед ним не располагается некий объект (читатель); субъект и объект здесь отсутствуют. Текст сокрушает грамматические отношения: текст — это то неделимое око, о котором говорит один восторженный автор (Ангелус Силезиус): «Глаз, коим я взираю на Бога, есть тот же самый глаз, коим он взирает на меня».
Говорят, что, рассуждая о тексте, арабские эрудиты употребляли замечательное выражение: достоверное те¬ло. Что же это за тело? Ведь у нас их несколько; прежде всего, это тело, с которым имеют дело анатомы и физио¬логи, — тело, исследуемое и описываемое наукой; такое тело есть не что иное, как текст, каким он предстает взору грамматиков, критиков, комментаторов, филологов (это — фено-текст). Между тем у нас есть и другое тело — тело как источник наслаждения, образованное
473
исключительно эротическими функциями и не имеющее никакого отношения к нашему физиологическому телу: оно есть продукт иного способа членения и иного типа номинации; то же и текст: это всего лишь пространство, где свободно вспыхивают языковые огни (те самые жи¬вые огни, мерцающие зарницы, то тут, то там взметы¬вающиеся всполохи, рассеянные по тексту, словно се¬мена, и успешно заменяющие нам «semina aeternitatis»*, «zopyra» **, общие понятия, основополагающие прин¬ципы древней философии). Текст обладает человеческим обликом; быть может, это образ, анаграмма человечес¬кого тела? Несомненно. Но речь идет именно о нашем эротическом теле. Удовольствие от текста несводимо к его грамматическому (фено-текстовому) функциониро¬ванию, подобно тому как телесное удовольствие несво-димо к физиологическим отправлениям организма.
Удовольствие от текста — это тот момент, когда мое тело начинает следовать своим собственным мыслям; ведь у моего тела отнюдь не те же самые мысли, что и у меня.
*
Как получить удовольствие от рассказа о чужих удо¬вольствиях (что за скука — слушать пересказы чьих-то снов, повествования о чьих-то увеселениях)? Как полу¬чить удовольствие от чтения критики? Есть лишь одно средство: коль скоро я являюсь читателем другого чи¬тателя, мне необходимо сменить позицию: вместо того, чтобы быть конфидентом удовольствия, полученного кри¬тиком (что навсегда лишает меня возможности наслаж¬даться самому), я могу сделаться его соглядатаем; тайком подглядывая за удовольствием другого, я тем самым вступаю в область перверсии, ибо критический комментарий сам превращается для меня в текст, в ли¬тературную фикцию, в гофрированную поверхность. Та¬ким образом, перверсии писателя (учтем, что удоволь¬ствие получаемое им от письма, лишено какой бы то ни
* Семена вечности (лат.). — Прим. перев.
** Жар, таящийся в пепле, из которого можно снова раздуть огонь (греч.). — Прим. перев.
474
было функции) сопутствует удвоенная, утроенная пер¬версия критика и его читателя — и так до бесконечности.
Текст об удовольствии может быть только кратким (в подобных случаях принято восклицать: как, и это все? пожалуй, коротковато) ; ведь именно потому, что удовольствие способно заявить о себе лишь косвенно, в форме требования (я имею право на удовольствие), мы и лишены возможности вырваться за пределы уре¬занной, двучленной диалектики, где на одном полюсе располагается doxa 'мнение', а на другом — paradoxa, его опровержение. Итак, есть удовольствие и есть за¬прет на удовольствие; не хватает лишь третьего члена, отличного от первых двух. Между тем его появление все время откладывается; причем, до тех пор, пока мы станем держаться за само слово «удовольствие», лю¬бой текст об удовольствии неизбежно окажется отсро¬ченным; он станет лишь введением в текст, который никогда не будет написан. По самой своей сути такое введение не способно ввести чего бы то ни было; оно может лишь до бесконечности повторяться, подобно тем произведениям современного искусства, необходимость в которых отпадает после первого же знакомства с ними (ибо увидеть их один раз — значит тут же понять всю разрушительность преследуемых ими целей: в них нет и намека на возможность длительного созерцания или сладостного вкушения).
*
Удовольствие от текста — это не обязательно нечто победоносное, героическое, мускулистое. Не стоит пы-житься. Удовольствие вполне может принять форму обыкновенного дрейфа. Дрейфовать я начинаю всякий раз, когда перестаю оглядываться на целое, прекращаю двигаться (хотя и кажется, будто меня носит по воле языковых иллюзий, соблазнов и опасностей), начинаю покачиваться на волне, словно пробка, насаженная на упрямое острие наслаждения, которое как раз и свя¬зывает меня с текстом (с миром). Дрейф возникает всякий раз, как я начинаю испытывать нехватку соци¬ального языка, социолекта (в том смысле, в каком
475
принято говорить: мне не хватает мужества). Вот почему дрейф можно назвать и другим словом: Неуступчивость или, что то же самое, Безрассудство.
И все же дискурс, которому удалось бы изобразить подобный дрейф, оказался бы на сегодняшний день са-моубийственным.
*
Удовольствие от текста, текст-удовольствие — эти выражения двусмысленны, и причина в том, что во фран¬цузском языке отсутствует слово, способное одновре¬менно обозначать и удовольствие (приносящее удовлет¬ворение), и наслаждение (доводящее до беспамятства). «Удовольствие», таким образом, может неожиданно оказываться то шире «наслаждения», а то вдруг стано¬виться его антонимом. Тем не менее мне ничего не остается, как приспособиться к этой двойственности; ведь с одной стороны, всякий раз, как я имею дело с преизбытком текста, со всем тем, что выходит за рамки его функции (социальной) или функционирования (структурного), я вынужден прибегать к общему понятию «удоволь¬ствие»; с другой же стороны, когда мне нужно отличить эйфорию, ощущение насыщенности, комфорта (чувство наполненности культурой, вливающейся в меня свобод¬ным потоком) от ощущения толчка, потрясенности, по¬терянности, доставляемого наслаждением, возникает необходимость в более специфическом понятии «удо¬вольствия», являющегося лишь составной частью Удовольствия-вообще. Я обречен на такую двойственность, ибо мне не дано по собственному произволу освободить слово «удовольствие» от ненужных мне смыслов: я не могу сделать так, чтобы это слово во французском языке перестало отсылать и к некоему общему понятию («прин¬цип удовольствия»), и к более конкретному представ¬лению («Дураки существуют нам на удовольствие, на потеху»). Вот почему я вынужден смириться с тем, что мой собственный текст останется в тенетах проти¬воречия.
Не является ли удовольствие лишь приглушенным наслаждением, а наслаждение, напротив, — крайней
476
степенью удовольствия? Быть может, удовольствие — это ослабленная, умеренная форма наслаждения, по-шедшего на компромиссы и тем изменившего собствен¬ной природе, а наслаждение — грубая, непосредственная (лишенная опосредовании) форма удовольствия? От ответа (положительного или отрицательного) на эти вопросы будет зависеть способ, каким мы поведаем ис¬торию нашей современности. Ведь заявляя, будто между удовольствием и наслаждением существует лишь коли¬чественная разница, я тем самым утверждаю мирно-без¬мятежный характер истории: текст-наслаждение оказы¬вается не чем иным, как логическим, органическим, исто¬рическим продолжением текста-удовольствия, а аван¬гард — не более чем прогрессивным, эмансипированным развитием предшествующей культуры: получается, что настоящее вырастает из прошлого, что Роб-Грийе уже таится во Флобере, Соллерс — в Рабле, а весь Николя де Сталь — в двух кв. см полотна Сезанна. Если же, однако, я рассматриваю удовольствие и наслаждение как параллельные, не могущие пересечься силы, между которыми существует не столько отношение противобор¬ства, сколько отношение взаимной несообщаемости, то в этом случае я должен признать, что история, наша история, не только не безмятежна, но, возможно, даже и не благоразумна, что текст-наслаждение всегда возни¬кает в ней как своего рода скандал (осечка), как про¬дукт разрыва с прошлым, как утверждение чего-то но¬вого (а не как расцвет старого). Я должен признать, что субъект этой истории (исторический субъект, каковым наравне с прочими являюсь и я сам) весьма далек от умиротворения, приносимого изящным диалектическим синтезом между вкусом к произведениям прошлого и стремлением оказать поддержку произведениям совре¬менным; напротив, такой субъект представляет собой «живое противоречие»; это расколотый субъект: с по¬мощью текста он одновременно наслаждается и устой-чивостью собственного я, и его разрушением.
Между прочим, существует еще один, косвенный, заимствованный из психоанализа способ обосновать различие между текстом-удовольствием и текстом-на-
477
слаждением: удовольствие может быть высказано, а наслаждение — нет.
Наслаждение всегда не-сказуемо, оно нам за-казано. Загляните в Лакана («Подчеркнем, что наслаждение заказано любому говорящему индивиду, а если и может быть высказано, то лишь между строк...») и в Леклера («...тот, кто высказывается, заказывает себе всякое наслаждение самим актом высказывания, и соответст¬венно, тот, кто наслаждается, подвергает всякую бук¬ву — все, что доступно высказыванию, — абсолютному уничтожению, которое он славит»).
Писатель, стремящийся к удовольствию (равно как и его читатель), приемлет букву; отказываясь от наслаж-дения, он обретает право и возможность дать ей загово¬рить: буква — это и есть его удовольствие; он одержим ею подобно всем поклонникам языка (а не речи) —логофилам, писателям, любителям переписки, лингвистам; итак, о тексте-удовольствии можно рассуждать (тогда как с наслаждением-уничтожением никакой диалог не¬возможен): литературная критика всегда имеет объек¬том текст-удовольствие и никогда — текст-наслаждение: Флобера, Пруста, Стендаля комментируют до бесконеч¬ности; критика тем самым утверждает невозможность наслаждения текстом, отсылает это наслаждение в прошлое или в будущее: вы прочитаете, я прочитал; критика всегда либо исторична, либо перспективна: кон¬статация в настоящем времени, демонстрация наслаж¬дения ей заказаны; следовательно, излюбленный мате¬риал критики — это сама культура, составляющая в нас все за исключением нашего настоящего.
С появлением писателя (и читателя), живущего наслаждением, возникает невозможный, немыслимый текст. Такой текст находится вне удовольствия и вне критики, разве что он соприкоснется с каким-нибудь другим текстом-наслаждением: вы не можете ничего сказать «о» подобном тексте, вы можете говорить только «изнутри» него самого, на его собственный лад, преда¬ваться безоглядному плагиату, доказывать, словно ис-терик, существование бездонной пропасти наслаждения (а не твердить, подобно человеку в навязчивом состоя¬нии, букву удовольствия).
478
*
Существует своего рода малая мифология, пытаю¬щаяся убедить нас, будто сама идея удовольствия (в частности, удовольствия от текста) выдумана правыми. Правые же, со своей стороны, спроваживают налево все, что принято считать абстрактным, нудным, причаст¬ным к политике; удовольствие же записывают на свой счет: добро пожаловать к нам все, кто почувствовал, наконец, удовольствие от литературы! Левые, блюдя нравствен¬ную чистоту (но забывая при этом о сигарах Маркса и Брехта), с презрением и подозрением относятся к любой «отрыжке гедонизма». Правые превозносят удо¬вольствие в пику интеллектуализму, умствованию; мы имеем здесь дело со старым реакционным мифом, про-тивопоставляющим сердце — голове, чувство — разуму, а «жизнь» (теплую) — «абстракции» (холодной): по логике правых, разве не надлежит художнику следовать устрашающему совету Дебюсси и «смиренно доставлять нам удовольствие»? Что касается левых, то они настой¬чиво противопоставляют знание, метод, ангажирован¬ность, борьбу «немудрствующему восхищению» (но что, если знание тоже способно быть восхитительным?). Обе стороны доказывают странную мысль, будто удоволь¬ствие есть нечто «немудрое», только правые при этом его превозносят, а левые предают анафеме. Удовольствие, однако, вовсе не является одной из составляющих тек¬ста, элементом, бесхитростно выпадающим в осадок; оно не подчиняется ни логике разума, ни логике чувства; удовольствие — это сдвиг, дрейф, нечто революционное и в то же время асоциальное; право на него не может быть закреплено ни за одним коллективом, ни за одним типом ментальности, ни за одним идиолектом. Быть мо¬жет, удовольствие есть нечто нейтральное? Нетрудно заметить в нем оттенок скандальности, но не потому, что оно безнравственно, а потому, что оно атопично.
*
Откуда в тексте берется его словесная пышность? Не происходит ли эта роскошь от непомерности языко-вых богатств, бесцельно расшвыриваемых направо и
479
налево? Не напоминает ли всякое великое произведение-удовольствие (например, роман Пруста) своей бесполез¬ностью египетские пирамиды, а сам писатель — отда¬ленного потомка тех Нищих, Монахов или Бонз, которых общество кормило, хотя сами они ровным счетом ничего не создавали? Не подобна ли литературная братия (какие бы алиби она себе ни придумывала) буддийской Сангхе? Ведь похоже, что общество лавочников содержит писа¬телей вовсе не за то, что они производят нечто (они не производят ничего), а за то, что они все и вся разобла¬чают. Кто они? лишние, но далеко не бесполезные люди? Наша современность настойчиво стремится ускольз¬нуть из-под власти рыночных отношений — отвергнуть идею произведения-товара (тем самым вырвав его из рук массовой коммуникации), отвергнуть идею знака (раскрепостив смыслы, признав права «безумия»), от¬вергнуть добропорядочную сексуальность (открыв до-рогу перверсии, для которой наслаждение — это нечто гораздо большее, чем простое средство продолжения человеческого рода). Но увы, ничего не поделаешь: ры¬нок подчиняет себе все, интегрируя даже те явления, которые направлены непосредственно против него; он завладевает текстом, включая его в круговорот совер¬шенно бессмысленных, хотя и узаконенных трат; текст вовлекается в работу некоего коллективного хозяйствен¬ного механизма (пусть даже механизма, имеющего су¬губо психологическую природу) — он уподобляется ин¬дейскому потлачу: полезной становится сама его бес¬полезность. Иными словами, общество живет как бы в состоянии расщепленности: с одной стороны, мы имеем текст как нечто идеальное и возвышенное, а с другой — как обычный товар, чья цена равна... его безвозмездно¬сти. При этом общество не имеет ни малейшего пред¬ставления о собственной расщепленности, ничего не ведает о своей перверсии. «У каждой из тяжущихся сторон есть свой резон: влечение имеет право на удо¬влетворение, а реальность — на положенное ей уваже¬ние. Однако, — добавляет Фрейд, — всякому известно, что безвозмездной бывает только смерть». Что касается текста, то для него безвозмездным могло бы стать лишь его саморазрушение: бросить, перестать писать и никог¬да не возвращаться к этому занятию.
480
*
Находиться в обществе любимого существа, а думать при этом о чем-нибудь постороннем — именно в таком состоянии ко мне приходят наиболее плодотворные мыс¬ли, именно так мне работается лучше всего. То же и с текстом: он вызывает у меня наибольшее удовольствие тогда, когда мне удается слушать его как бы вполслуха, время от времени отрываясь от него и внимая чему-то постороннему; текст-удовольствие вовсе не обязательно должен завораживать меня; случается, что я делаю едва заметное, неощутимое, неуловимое, почти непроизволь¬ное движение головой, словно птица, которая не слышит ничего из того, во что вслушиваемся мы, но зато умеет расслышать то, к чему мы вообще не прислушиваемся.
*
Почему, собственно, растроганность следует считать противной наслаждению (прежде я заблуждался, пола¬гая, что растроганность целиком следует отнести за счет чувствительности, моральной иллюзии)? Между тем растроганность — это состояние потрясенности, порог беспамятства; это перверсия под маской благомыслия; возможно даже, что это один из наиболее хитроумных способов дойти до самозабвения, поскольку суть его — в нарушении общего правила, согласно которому на¬слаждение должно иметь некий застывший лик, быть воплощением силы, неукротимости, грубости, являть собой образ чего-то мускулистого, напряженного, фал¬лического. Против общего правила: ни в коем случае не доверяться какому-либо определенному образу на¬слаждения; понять, что наслаждение возможно всюду, где происходят сбои в автоматической работе механизма любви (преждевременная склонность к наслаждению, запоздалое наслаждение, наслаждение-растроганность и т. п.): может ли стать наслаждением любовь-страсть? Возможно ли наслаждение-мудрость (наслаждение, постигшее собственную природу, ускользнувшее от соб¬ственных предрассудков)?
*
Ничего не поделаешь: скука, оказывается, не столь уж простая вещь. От скуки (вызываемой произведением,
481
текстом) не отмахнешься раздраженным, досадливым жестом. Как и удовольствие от текста, предполагающее скрытый процесс своего собственного производства, скука не может похвастать какой бы то ни было спон¬танностью: не. существует искренней скуки; если, к при¬меру, лично на меня лепечущий текст наводит скуку, то, по правде говоря, причина в том, что мне вполне чужда область «позывов». А если бы это было не так (если бы я обладал младенческим аппетитом)? Скука не так уж далека от наслаждения: это наслаждение, увиденное с другого берега — с берега удовольствия.
*
Чем более незамысловато, прилично, благопристойно, бескорыстно рассказана та или иная история, тем легче ее извратить, скомпрометировать, прочитать навыворот (именно так Сад мог бы прочитать романы г-жи де Сегюр). Подобное выворачивание, а точнее, выявление скрытого чрезвычайно увеличивает удовольствие от текста. ,
*
Читая «Бувара и Пекюше», я вдруг наталкиваюсь на фразу, вызывающую у меня чувство удовольствия: «На туго натянутых веревках строгими, вертикальными ряда¬ми висели скатерти, простыни, салфетки, схваченные де¬ревянными прищепками». Я смакую здесь избыточную точность, какую-то навязчивую аккуратность языка, саму маниакальность описания (свойственную, между прочим, и текстам Роб-Грийе). Мы присутствуем при следующем парадоксе: литературный язык оказывается поколеблен, преодолен, обойден в той самой мере, в какой он стре¬мится приноровиться к «чистому» исходному языку — к языку, с которым имеют дело грамматисты (речь, разу¬меется, идет лишь об идеальном образе такого языка). Подобная точность возникает отнюдь не как продукт все возрастающего тщания, требующего, чтобы с каждым ра¬зом предметы описывались все лучше и лучше; она явля¬ется не риторической прибавочной стоимостью, а след¬ствием перемены кода: прообразом (отдаленным) подоб-
482
ных дескрипций оказывается вовсе не ораторская речь (ибо здесь отсутствует какое бы то ни было «живописа¬ние»), а своего рода лексикографический артефакт.
*
Текст — это объект-фетиш, и этот фетиш меня жела¬ет. Направляя на меня невидимые антенны, специально расставляя ловушки (словарный состав произведений, характер его референций, степень занимательности и т. п.), текст тем самым меня избирает; при этом, как бы затерявшись посреди текста (а отнюдь не спрятавшись у него за спиной, наподобие бога из машины), в нем всегда скрывается некто иной — автор.
В качестве социального лица автор давно мертв: он более не существует ни как гражданская, ни как эмоцио¬нальная, ни как биографическая личность; будучи лише¬на былых привилегий, эта личность лишена отныне и той огромной отцовской власти над произведением, которую приписывали ей историки литературы, преподаватели, расхожее мнение, — власти создавать и постоянно обнов¬лять само повествование; и тем не менее в известном смысле я продолжаю желать автора текста: мне необ¬ходим его лик (но не его изображение и не его проек¬ция) совершенно так же, как ему необходим мой (если только, конечно, мы оба не «лепечем»).
*
Идеологические системы суть фикции (идолы театра, сказал бы Бэкон), это своего рода романы, причем ро¬маны классические, где есть и добротная интрига, и пе¬рипетии, и положительные, и отрицательные герои (романическое — это нечто совсем другое, это просто произвольное расчленение текста, рассеяние форм — майя). Каждая такая фикция имеет опору в определен¬ном наречии, социолекте, с которым она сливается: фик¬ция — это та степень консистенции, которой достигает язык, когда он окончательно застывает; при этом суще¬ствует особый, жреческий класс (духовные пастыри, интеллектуалы, художники), свободно говорящий на этом языке и повсюду его распространяющий.
«...Каждый народ имеет над своей головой такое же математически разделенное небо понятий и считает тре-
483
бованием истины, чтобы каждого бога-понятие искали в его сфере» (Ницше*): мы все подчиняемся истине языков — истине, заключенной в самом факте их разделенности; все мы вовлечены в нескончаемое соперни-чество языков, диктующее характер их взаимоотношений. Ведь каждый диалект, каждая фикция борется за гос¬подство, и если обладает достаточной силой, то неиз¬бежно растекается по всем уголкам повседневной, обы¬денной социальной жизни; такой диалект становится доксой, природой; примером может служить претендую¬щий на аполитичность язык политических деятелей, лиц, находящихся на службе у Государства, язык прессы, радио, телевидения, язык повседневной беседы; но даже очутившись вне власти, восставая против нее, языки продолжают свое соперничество, диалекты обособляются, враждуют между собой. Жизнью языка правит безжа¬лостная топика; язык всегда исходит из какого-то места, и потому всякий язык есть не что иное, как воинствую¬щий топос.
Он вообразил себе мир языка (логосферу) в виде арены, где ведут титаническую, нескончаемую битву раз-личные параноидные системы, причем уцелеть в этой битве способны лишь такие системы (фикции, диалекты), которые проявляют достаточно хитроумия и изворот¬ливости, чтобы выработать объективирующий — полу¬научный, полуэтический — образ противника, пропустить его через своеобразную «мясорубку», позволяющую не только описать и объяснить, но и осудить, посрамить врага, воздать ему по заслугам, одним словом, заста¬вить его «пыхтеть и отдуваться». Таковы, между прочим, упрощенные варианты некоторых языков — марксистско¬го, рассматривающего любое противоречие как классо¬вое; психоаналитического, объявляющего любое отрица¬ние косвенным выражением признания; христианского, для которого все формы неприятия действительности оказываются формами поиска бога, и т. п. И тогда он с удивлением заметил, что, на первый взгляд, язык капи¬талистической власти не имеет ничего общего с подоб-
* Цит. по русск. переводу: Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. 1. Московское книгоиздательство, 1912, с. 399. — Прим. перев.
484
ными системами (а если и имеет, то лишь с системами низшего порядка, объявляя своих врагов «жертвами про¬пагандистской отравы», людьми, «оболваненными теле¬видением» и т. п.); вот тут-то он и понял, что давление (чрезвычайно сильное), оказываемое языком капитализ¬ма, имеет вовсе не параноическую, то есть отнюдь не систематическую, планомерную и логическую природу, что действие этого языка состоит в неумолимом обвола¬кивании жертвы; язык капитализма — это докса, форма бессознательного, короче, идеология по самой своей сути.
Существует лишь одно средство, позволяющее изба¬виться от чувства смятения или растерянности, вызы-ваемого подобными системами, и это средство заключа¬ется в том, чтобы самому сделаться обитателем одной из таких систем. В противном случае вас станет неот¬ступно мучить вопрос: а я, что же я? какое я ко всему этому имею отношение?
Что касается текста, то он атопичен — если и не в плане потребления, то по крайней мере в плане произ-водства. Текст — это уже не диалект, не фикция; система в нем преодолена, разрушена (такое преодоление, раз¬рушение как раз и есть «означивание»). Из этой атмо¬сферы атопии текст извлекает и передает читателю стран¬ное ощущение полной изолированности и в то же время умиротворенности. Ведь мирные передышки могут слу¬чаться и в войне языков, и эти передышки суть тексты («Война, — говорит один из персонажей Брехта, — не исключает мира... И во время войны бывают периоды от¬дыха... Между двумя стычками недурно бывает опроки¬нуть стаканчик пива...»). Между двумя словесными ба¬талиями, когда каждая система стремится одержать верх, всегда есть возможность получить удовольствие от текста, причем такое удовольствие оказывается не пере¬дышкой, а неожиданным — случайным — вторжением другого языка, проявлением чужой физиологии.
В наших языках, пожалуй, все еще многовато бра¬вады; даже в лучших из них (мне приходит на ум язык Батая) можно подметить ряд вызывающих выражений, иными словами — своего рода завуалированное герой-
485
ство. Напротив, удовольствие от текста (наслаждение текстом) возникает тогда, когда ратные ценности вдруг теряют всякую силу, у писателя отваливаются его бое¬вые петушиные шпоры, а его «отважное сердце» вдруг перестает биться.
Способен ли текст, сам образованный с помощью языка, оказаться за пределами любых возможных язы¬ков? Можно ли объективировать (превратить в объек¬ты) все существующие в мире диалекты, а самому при этом не укрыться в одном из них так, чтобы все прочие говоры оказались предметом простого изображения, пересказа? Ведь давая той или иной вещи имя, я тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь в соперничество множества различных имен. Способен ли текст «выпу¬таться» из этой войны фикций, социолектов? Да, спосо¬бен — путем последовательного самоистощения. Прежде всего текст уничтожает всякий метаязык, и собственно поэтому он и является текстом: не существует голоса Науки, Права, Социального института, звучание которо¬го можно было бы расслышать за голосом самого тек¬ста. Далее, текст безоговорочно, не страшась противоре¬чий, разрушает собственную дискурсивную, социолингви¬стическую принадлежность (свой «жанр»); текст — это «комизм, не вызывающий смеха», это ирония, лишенная заразительной силы, ликование, в которое не вложено души, мистического начала (Сардуй)., текст — это раска¬выченная цитата. Наконец, текст, при желании, способен восставать даже против канонических структур самого языка (Соллерс) — как против его лексики (изобилие неологизмов, составные слова, транслитерации), так и против синтаксиса (нет больше логической ячейки язы¬ка—фразы). Задача в том, чтобы путем трансмутации (а не одной только трансформации) добиться нового философского состояния языковой материи — состояния доныне невиданного, подобного тому, в каком пребывает расплавленный металл, состояния, ничего не ведающего о собственном происхождении, изъятого из какой бы то ни было коммуникации; такое состояние есть сама стихия языка, а не тот или иной конкретный язык, пусть даже сдвинутый с привычного места, передразненный, осме¬янный.
486
Удовольствие от текста не имеет идеологических пред¬почтений. И тем не менее такая индифферентность явля¬ется не продуктом либерализма, а продуктом первер¬сии: и сам текст, и процесс его чтения как бы расще¬плены надвое. Что здесь нарушили, чем пренебрегли, так это самой нравственной нераздельностью текста — не¬раздельностью, которой общество требует от любого продукта, созданного человеком. Когда мы читаем текст (текст-удовольствие), то становимся похожи на муху, совершающую по комнате множество резких, порыви¬стых, суетливых и бесцельных перемещений; идеология проступает на поверхности текста и его чтения словно краска на лице (есть люди, которым подобный румянец доставляет эротическое удовольствие) ; со всяким писа¬телем, тексты которого доставляют удовольствие (будь то Бальзак, Золя, Флобер или Пруст), случается, что он нет-нет да и зальется такой краской (пожалуй, один только Малларме умел владеть цветом своего лица). В тексте-удовольствии противоборствующие силы не вы¬тесняются, а находятся в процессе становления: здесь нет никаких подлинных антагонизмов, есть одна только множественность. Я неторопливо путешествую сквозь ночь реакции. Так, в «Плодородии» Золя идеология не¬посредственно бросается в глаза и прямо-таки липнет к вам: это и натюризм, и фамилиализм, и колониализм; и тем не менее я не откладываю книгу. Вы полагаете, что подобное раздвоение является самым обычным де¬лом? Между тем, напротив, следует скорее поразиться той ловкости, с которой субъект, тратя минимум сил, ухитряется расщепиться, раздвоиться, оказать сопротив¬ление заражающему влиянию писательской тенденциоз¬ности, метонимической силе комфорта: не в том ли при¬чина, что удовольствие делает нас объективными?
Кое-кому хотелось бы, чтобы текст (произведение искусства, живопись) не имел тени, чтобы «господствую-щая идеология» не оказывала на него никакого влияния; между тем требовать этого — значит требовать бесплодно¬го, непродуктивного, выхолощенного текста (ср. миф о Женщине, потерявшей свою Тень). Текст нуждается в собственной тени: толика идеологии, толика изобрази¬тельности, толика субъектности — все это миражи,
487
туманные следы, шлейфы, с необходимостью тянущиеся за текстом: процесс разрушения должен создавать свою собственную светотень.
(Обычно говорят: «господствующая идеология». Это выражение неточно. Ведь что такое идеология? Это и есть идея постольку, поскольку она является господст¬вующей: идеология и может быть только господствую¬щей. Насколько справедливо говорить об «идеологии господствующего класса» (коль скоро существует и класс угнетенный), настолько же неверно говорить о «господ¬ствующей идеологии» (коль скоро не существует «угне¬тенной идеологии». У «угнетенных» нет ровным счетом ничего, никакой идеологии, разве что (крайняя степень отчуждения) та самая идеология, которую — чтобы осуществлять акты символизации, то есть, попросту говоря, чтобы жить, — они вынуждены заимствовать у класса, который над ними господствует. Суть социальной борьбы нельзя свести к противоборству двух соперничаю¬щих идеологий: задача состоит в ниспровержении всякой идеологии как таковой.)
*
Следует четко зафиксировать продукты воображаемо¬го в языке; к ним относятся: слово как особая единица, как некая магическая монада; речь как орудие или сред¬ство выражения мысли; письмо как транслитерация устной речи; фраза как логическая, замкнутая в себе самой мера языка; сюда следует отнести даже языковые перебои, языковые отказы (когда их рассматривают в ка¬честве первичной, спонтанной, прагматической силы). Все эти артефакты суть продукты научного воображе¬ния (наука как деятельность воображения)—лингви¬стика, безусловно, сообщает некую истину о языке, од¬нако истина эта сводится к «недопущению какой бы то ни было сознательной иллюзии»; определение вообража¬емого таково: это неосознанность бессознательного.
Первый шаг должен заключаться в том, чтобы восста¬новить в правах все, что считается необязательным в науке о языке, все, что принято свысока третировать или попросту отвергать, а именно: семиологию (стилистику, риторику, по выражению Ницше), практику, этическую активность, «энтузиазм» (тоже Ницше). Второй шаг —
488
восстановление в науке прав всего того, что непосред¬ственно против нее направлено; в данном случае — вос¬становление в правах текста. Текст — это язык минус любые воображаемые категории, это как раз то, чего не хватает науке о языке, если она хочет осознать свою универсальную роль (а отнюдь не свою технократическую специфичность). Все, что с трудом приемлется или прямо отвергается лингвистикой (как канонической, позитив¬ной наукой), а именно означивание, наслаждение, — все это как раз и высвобождает текст из круга воображае¬мых категорий языка.
*
Об удовольствии от текста невозможно написать ни¬какой «диссертации»: удовольствие допускает лишь мгно¬венный (интроспективный) взгляд на себя. Eppure si gaude! * И однако вопреки всему и против всего я имею возможность наслаждаться текстом.
Требуются примеры? Вообразим себе огромную кол¬лективную жатву, во время которой будут собраны все тексты, хотя бы однажды доставившие кому-либо удо¬вольствие (происхождение этих текстов несущественно). Представим это текстовое тело, корпус (удачное, кстати сказать, выражение), наподобие того, как психоанализ представляет эротическое тело человека. И однако есть основания опасаться, что в результате подобной работы мы сумеем сделать лишь одно — объяснить собранные тексты; наша цель с неизбежностью раздвоится: не имея возможности изъяснить себя, удовольствие попытается объяснить причины собственного возникновения, ни одна из которых не может быть признана окончательной (ведь если при этом я и получаю какое-либо удоволь¬ствие от текста, то лишь попутно, мимолетно, случайно). Одним словом, подобная работа не может стать письмом. Я могу лишь подбираться к письму, а это лучше делать внезапно и в одиночку, нежели всем вместе, после, беско¬нечных приготовлений. Поэтому не стоит отказываться от понятия ценности (как исходной основы всякой утверди¬тельности) в пользу понятия ценностей (как феноменов, произведенных культурой).
* И все-таки он радуется! (ит.).-- Перифраз восклицания Галилея: «Eppure si muove!» ('A все-таки она вертится!'). — Прим. перев.
489
Будучи продуктом языка, писатель так или иначе всегда вовлечен в войну фикций (диалектов), причем он является всего лишь игрушкой в этой войне, ибо язык, из которого соткан он сам (письмо), в принципе лишен любого определенного места (он атопичен); уже в силу простой полисемии литературного слова (представляю¬щей собой рудиментарную стадию письма) под вопро¬сом оказывается сама возможность его воинствующей ангажированности. Писатель всегда находится в слепой точке системы, он постоянно дрейфует, он — словно джокер, мана, нулевая степень, «выходящий» в бридже: он необходим, чтобы в игре (в сражении) был смысл, но сам при этом лишен любого определенного смысла; его место, его ценность, стоимость (меновая) варьируют¬ся в ходе истории, зависят от тактических приемов борьбы; от него требуют все и/или ничего. Сам он исключен из процесса торгового обмена и не извлекает для себя никакой выгоды; он погружен в состояние, по¬добное состоянию мусётоку в дзэн-буддизме, не стремит¬ся получить ничего, кроме наслаждения-перверсии, до¬ставляемого словами (причем наслаждение никогда не бывает связано с обладанием, оно во всем сходно с состоянием сатори, состоянием потерянности). Парадокс: сам писатель упорно умалчивает об этой бесцельности письма (сближающей его — через наслаждение — со смертью); напротив, он весь напрягается, напружини¬вается, не желает ложиться в дрейф, отвергает наслаж-дение: лишь очень немногие писатели в равной мере бо¬рются как против идеологического, так и против либидозного давления (того, разумеется, которое писатель оказывает сам на себя, на свой собственный язык).
*
Читая текст, приводимый Стендалем (но ему не при¬надлежащий) 1, я вдруг обнаруживаю удивительное сходство деталей у Стендаля и у Пруста. Епископ Лескарский обращается к племяннице своего главного
1 «Эпизоды из жизни Атаназа Оже, опубликованные его племян¬ницей»: включены в «Записки туриста» (Стендаль. Собр. соч. в 12-ти т., т. 11. М., 1978, с. 216—222).
490
викария в столь изысканных выражениях (милая пле¬мянница, дорогая малютка, моя прелестная брюнеточка, ах вы, маленькая лакомка!), что на память невольно приходят слова, с которыми две «служанки» из Гранд-отеля в Бальбеке (Мари Жинест и Селеста Альбаре) обращались к рассказчику (Ах вы, маленький черный бе¬сенок с волосами как смоль, ах, шутник лукавый! Ах, молодость! Ах, красивая какая кожа!*). Равным обра¬зом, когда я читаю у Флобера о нормандских яблонях в цвету, на память мне также приходит Пруст. Я упи¬ваюсь этой властью словесных выражений, корни кото¬рых перепутались совершенно произвольно, так что более ранний текст как бы возникает из более позднего. И тогда я начинаю понимать, что роман Пруста, по крайней мере для меня, — это отправная точка, исходный пункт моего общего матесиса, это мандала всей моей литературной космогонии; он играет для меня ту же роль, какую письма г-жи де Севинье играли для бабушки рассказчика у Пруста, или рыцарские романы для Дон Кихота и т. п.; однако отсюда вовсе не следует, будто я являюсь «специалистом» по Прусту; я отнюдь не при¬зываю Пруста, он сам является ко мне; Пруст — для меня не «авторитет», а просто воспоминание, к которому я вновь и вновь возвращаюсь. Вот это и есть интер¬текст, иначе говоря — сама невозможность построить жизнь за пределами некоего бесконечного текста, будь то Пруст, ежедневная газета или телевизионные переда¬чи: книга творит смысл, а смысл в свою очередь творит жизнь.
*
Если вы забиваете гвоздь в деревянный предмет, то дерево будет по-разному поддаваться в зависимости от того места, куда вы стучите: в таких случаях принято го¬ворить, что дерево неизотропно. Тем более неизотропен текст: его границы, скрытые в нем пустоты угадать не¬возможно. Подобно тому как физика (современная) вы¬нуждена учитывать неизотропный характер той или иной
* Цит. по русск. переводу: Пруст М. В поисках за утраченным временем. Содом и Гоморра. М.: Худ. литература, 1938, с. 236, 238.
491
материальной среды, того или иного универсума, точно так же и структурный анализ (семиология) должен при¬нимать во внимание малейшие различия в сопротивляе¬мости текста, беспорядочность проходящих сквозь него силовых линий.
*
Нет такого объекта, который поддерживал бы посто¬янные отношения с удовольствием (мысль Лакана, вы-сказанная им по поводу Сада). Тем не менее для писателя такой объект существует: это не языковая деятельность, а сама языковая система, родной материнский язык. Пи¬сатель — это человек, играющий с телом собственной матери (ср. работы Плейне — о Лотреамоне и о Матис¬се) затем, чтобы возвысить, украсить его или, наоборот, разъять его на части, разрушить ту целостность, которая, собственно, и делает тело телом: лично я готов дойти до того, чтобы наслаждаться деформациями языка, что будет встречено негодующими воплями общественного мнения, ибо общественное мнение всегда выступает про¬тив «деформации природы».
*
По Башляру получается, что писатели никогда и не писали: благодаря странной выхолащивающей операции получается, что их только читали. Башляр сумел создать чистую критику чтения и создал ее исключительно во славу удовольствия: мы оказываемся вовлечены в про¬цесс совершенно однородной (плавной, эйфорической, сладострастной, нераздельной, ликующей) практики — практики чтения-грезы, и эта практика завладевает нами безраздельно. Если следовать Башляру, то окажется, что всё «поэтическое» (как простое средство приостановить литературную битву) должно быть отнесено на счет Удовольствия. Однако едва мы рассмотрим произведе¬ние с точки зрения письма, как позиции удовольствия по¬колеблются, на горизонте появится наслаждение, а Баш¬ляр скроется вдали. ,
*
Я интересуюсь языком потому, что он задевает меня за живое, вводит в соблазн. Что это, классовая эротика?
492
Но в таком случае о каком классе идет речь? О буржуа¬зии? У нее нет ни малейшего вкуса к языку; язык в ее глазах является даже не роскошью, не составной частью «искусства жить» (вспомним о смерти «большой» лите¬ратуры), но всего лишь простым орудием или украше¬нием (разновидностью фразеологии). Простонародье? Здесь полностью затухла всякая магическая, поэтическая активность: нет более карнавала, отсутствуют любые формы словесной игры: метафоры мертвы, наступило царство сплошных стереотипов, навязываемых мелко¬буржуазной культурой. (Производящий класс вовсе не обязательно располагает языком, отвечающим его роли, его могуществу, его возможностям. Отсюда — распад всех солидарных, эмпатических связей, весьма сильных в одном случае, ничтожных в другом. Критика тотализи-рующий иллюзии: любой общественный механизм в первую очередь стремится унифицировать язык; одна¬ко целое отнюдь не должно быть объектом поклоне¬ния.)
Остается последний островок спасения — текст. Ка¬стовые услады, мандаринат? Что касается удовольст-вия, возможно, это и так, что касается наслаждения — нет.
Никакое означивание (никакое наслаждение) не¬возможно — я убежден в этом — в рамках массовой культуры (которую, как воду от огня, следует отличать от культуры масс), ибо эта культура построена по мелко¬буржуазному образцу. Нашей противоречивой историче¬ской ситуации свойственно такое положение, когда озна¬чивание (наслаждение) целиком и полностью подвласт¬но жесткой альтернативе: либо его следует связать с практикой мандарината (как результатом исчерпанности буржуазной культуры), либо — с некоей утопической идеей (с идеей грядущей культуры, которая возникнет в результате радикальной, доселе невиданной, непредуга¬данной революции; это культура, о которой человек, пишущий сегодня, знает только одно: подобно Моисею, ему не дано будет вступить на ее земли).
Асоциальный характер наслаждения. Возникая в ре¬зультате резкой утраты социальности, наслаждение,
493
однако, не предполагает никакого возврата к субъекту (к субъективности), к личности, к одиночеству: здесь утрачивается все, утрачивается полностью, как это быва¬ет на самом дне подполья или в темноте кинозала.
Любой социально-идеологический анализ приводит к выводу о пессимистическом характере литературы (что отчасти делает результаты этого анализа нерелевантными): получается, что произведение всегда создается группой, пережившей разочарование или утратившей былую мощь, оказавшейся — в силу своего историческо¬го, экономического, политического положения — вне борьбы; литература якобы и является средством выра¬жения такого разочарования. Авторы подобных исследо¬ваний забывают (и это естественно, ибо речь идет о герменевтических процедурах, исключительной целью которых является поиск означаемых) о великолепии из¬наночной стороны письма, о наслаждении — наслажде¬нии, которым — сквозь толщу веков — готовы вспыхнуть многие тексты, даже те из них, что проповедуют самую что ни на есть мрачную, зловещую философию.
Язык, на котором я говорю про себя, не принадлежит моему времени. Он, следовательно, по самой своей при¬роде находится на острие идеологического подозрения; именно с ним я должен вести борьбу. Я пишу потому, что не желаю никаких преднаходимых слов, пишу из чувства протеста. И тем не менее этот предварительный язык есть не что иное, как язык моего удовольствия: вечерами напролет я читаю Золя, Пруста, Верна, «Монте-Кристо», «Записки туриста», а иногда даже Жюльена Грина. В этом — мое удовольствие, но не наслаждение: наслаж¬дение способно возникнуть только за счет чего-то абсо¬лютно нового, ибо только новое способно поразить (по¬трясти) наше сознание (слишком просто? отнюдь: в девя¬ти из десяти случаев новое оказывается всего лишь сте¬реотипом новизны).
Новое — это не мода, это ценность, основа любой кри¬тики: способ, каким мы оцениваем мир, уже давно не связан, по крайней мере непосредственно, с противопо¬ставлением «благородного» и «низменного», как это было
494
у Ницше; он связан с противопоставлением Старого и Нового (эротика Нового возникла в XVIII в. и с тех пор находится в постоянном развитии). Ныне существует лишь одно средство ускользнуть от отчуждения, поро¬ждаемого современным обществом, — бегство вперед. Любой устаревший язык незамедлительно объявляется порочным, а устаревшим язык считается уже в силу его простого повторения. Между прочим, энкратический язык (тот, что возникает и распространяется под защитой власти) по самой своей сути является языком повторе¬ния; все официальные языковые институты — это маши¬ны, постоянно пережевывающие одну и ту же жвачку; школа, спорт, реклама, массовая культура, песенная продукция, средства информации безостановочно воспро¬изводят одну и ту же структуру, один и тот же смысл, а бывает, что одни и те же слова: стереотип — это поли¬тический феномен, это само олицетворение идеологии. В противоположность стереотипу все Новое явлено как воплощенное наслаждение (Фрейд: «Для взрослого че¬ловека новизна является необходимым условием наслаж¬дения»). Отсюда — нынешняя расстановка сил: с одной стороны — массовая пошлость (продукт языковых пере¬певов), чуждая наслаждению (но не обязательно — удо¬вольствию), а с другой — безудержная (маргинальная, эксцентрическая) тяга к Новому, тяга безоглядная, чре¬ватая разрушением дискурса как такового; это — попыт¬ка исторически возродить наслаждение, заглохшее под давлением стереотипов.
Водораздел (ценностный рубеж) отнюдь не обяза¬тельно пролегает между общепризнанными, общеизвест-ными противоположностями (материализм и идеализм, реформизм и революция и т. п.), но зато повсюду и всегда он пролегает между исключением и правилом. Правило — это злоупотребление чем-то одним, исключе¬ние — это наслаждение. Вот почему в известных случаях можно даже принять сторону Мистиков с их культом исключительного. Все, что угодно, лишь бы не правило (всеобщность, стереотипность, идиолект: затвердевший язык).
Впрочем, возможно и противоположное утверждение (хотя лично я и не стал бы его выдвигать), а именно:
495
повторение само может быть источником наслаждения. Тому есть множество этнографических примеров: навяз¬чивые ритмы, оккультные мелодии, литании, ритуалы, нембутсу у буддистов и т. п.; от нескончаемого повторе¬ния мы доходим до самозабвения, как бы прикасаемся к нулевой степени означаемого. Однако вот что следует за¬метить: чтобы повторение приобрело эротический харак¬тер, оно должно быть сугубо формальным, буквальным; в нашем же обществе такое откровенное (доведенное до крайности) повторение воспринимается как нечто экс¬центрическое, прозябающее на периферии культуры (на¬пример, музыкальной). Повторение, стыдящееся самого себя, — такова массовая культура в ее выродившейся форме: повторяют содержание, идеологические схемы, способы затушевывания противоречий; зато беспрестан¬но варьируют внешние формы: ни на минуту не прекра¬щается выпуск новых книг, передач, кинофильмов, без передышки обновляется текущая хроника, смысл же при этом никак не меняется.
Итак, слово может стать эротичным при двух проти¬воположных, причем крайних условиях: если оно переже¬вывается до оскомины или, напротив, если оно оказы¬вается неожиданно сочным именно благодаря своей новизне (в некоторых текстах даже сугубо ученые слова как бы вспыхивают внезапным, нечаянным светом; лично мне, например, доставляет большое удовольствие следую¬щая фраза Лейбница: «...подобно карманным часам, об¬ходящимся без всяких колесиков и показывающим время лишь благодаря своей темподейктической способ¬ности, или подобно мельнице, не нуждающейся и в подо¬бии жерновов, а мелющей зерно исключительно за счет своей фрактивной силы»). В обоих случаях действует один и тот же механизм наслаждения: движение по звуковой дорожке, воспроизведение звука, синкопа; ины¬ми словами: либо постоянное, периодическое повторе¬ние, либо срыв, взрыв.
Стереотип — это повторяющееся слово, чуждое вся¬кой магии, всякому энтузиазму, слово, воображающее себя чем-то природным, так, словно в силу неведомого чуда оно при всех обстоятельствах равно самому себе, словно имитация уже и не считается имитацией; это без-
496
застенчивое слово, претендующее на нерушимость и не подозревающее о своей назойливости. Ницше как-то заметил, что «истина» есть не что иное, как окостенение старых метафор. Ну что ж, в данном случае стереотип и есть современный путь «истины», зримая линия, соеди¬няющая новый декор с канонической, принудительной формой означаемого. (Стоило бы, пожалуй, подумать о создании новой лингвистической науки — такой, чьим предметом станет не происхождение слов (этимология) и даже не их бытование (лексикология), но сам процесс их отвердения, оплотнения в ходе исторического развития дискурса; такая наука, несомненно, будет исполнена раз¬рушительного пафоса, ибо она вскроет нечто большее, нежели исторический характер истины, — вскроет ее рито¬рическую, языковую природу.)
Недоверие к стереотипу (позволяющее получать на¬слаждение от любого необычного слова, любого дико-винного дискурса) есть не что иное, как принцип абсо¬лютной неустойчивости, ни к чему (ни к какому содержа¬нию, ни к какому выбору) не ведающий почтения. Тош¬нота подступает всякий раз, когда связь между двумя значимыми словами оказывается само собой разумею¬щейся. А как только явление становится само собой разу¬меющимся, я теряю к нему всякий интерес: это и есть наслаждение. Что это, бесплодная досада? В одном рас¬сказе Эдгара По некий умирающий по имени мистер Вальдемар, подвергнутый магнетизации и приведенный в состояние каталепсии, продолжает жить благодаря тому, что ему все время задают вопрос: «Мистер Вальдемар, вы спите?» Оказывается, однако, что такая жизнь выше сил человеческих: это мнимая, жуткая смерть, ибо она является не концом, а бесконечностью («Ради бога, ско-рее! — скорее! усыпите меня, или скорее! разбудите! скорее! — Говорят вам, что я умер!»). Стереотип — это и есть тошнотворная невозможность умереть.
Что касается интеллектуальной сферы, то здесь вся¬кий акт политического выбора представляет собой оста-новку языка и следовательно — наслаждение. Тем не менее язык немедленно возрождается, причем возрож-дается в своей наиболее отвердевшей форме — в форме политического стереотипа. В подобном случае остается
497
одно — проглотить этот язык без всякой брезгливости. Другая, противоположная разновидность наслажде-ния состоит в деполитизации того, что, на первый взгляд, представляется политичным, и в политизации того, что по видимости является аполитичным. — «Да нет же, послу¬шайте, политизируют лишь то, что должно быть полити¬зировано, вот и все».
*
Нигилизм: «высшие цели обесцениваются». Это весь¬ма шаткий, неустойчивый момент, и причина в том, что еще до того, как старые ценности успеют разрушиться, новые уже стремятся захватить их место; диалектика способна выстроить лишь последовательность позитив¬ных принципов; отсюда — угасание энергии даже в анар¬хистской среде. Каким же образом утвердить отсутствие любых высших ценностей? Ирония? Ее носитель сам всегда находится в некоем безопасном месте. Насилие? Оно само есть не что иное, как высшая ценность, да еще из числа официально узаконенных. Наслаждение? Вот это, пожалуй, верно, но при условии, что оно остается невысказанным, не превращается в доктринальный принцип. Быть может, наиболее радикальный нигилизм всегда выступает под маской, то есть, в известном смыс¬ле, всегда действует изнутри социальных институтов, гнездится внутри конформистских языков и открыто пре-следуемых целей.
*
Как-то А. доверительно сказал мне, что не перенес бы распутства своей матери, зато стерпел бы распутство от¬ца, и добавил: ну разве это не странно? Чтобы разре¬шить его недоумение, достаточно было бы назвать лишь одно имя: Эдип! Случай с А., на мой взгляд, подводит нас к проблеме текста, ибо суть текста в том и состоит, что он не называет никаких имен, более того — упраздняет даже те, что уже названы; текст ни в коем случае не заявляет (да и, собственно, чего ради, ради какой сомни¬тельной цели он стал бы это делать?) : вот это — марксизм, это — брехтизм, это — капитализм, идеализм, дзэн
498
и т. п.; ни одно Имя не должно прийти на ум: Имя ока¬зывается раздробленным, рассеянным среди множества разнообразных практик, расчлененным на несметное количество слов, ни одно из которых не является Именем как таковым. Устремляясь туда, где кончаются границы дискурсивного слова, где начинается царство матесиса (который не следует отождествлять с научным знанием), текст разрушает самый акт номинации, и вот это-то раз¬рушение как раз и роднит его с наслаждением.
В одном тексте XIX в. (эпизод из жизни некоего священника, воспроизведенный Стендалем), который мне довелось на днях прочитать, перечисляются всевозмож¬ные кушанья: молоко, большие куски хлеба с маслом, сливочный сыр из Шантийи, варенье из Бара, мальтий¬ские апельсины, засахаренные фрукты. Неужто все дело здесь в удовольствии, вызываемом «показом» различных яств, а потому доступном лишь читателю-гурману? Лично я, например, будучи довольно равнодушен как к молоку, так и ко всяким сладостям, вовсе не склонен смаковать все эти детские лакомства. Здесь происходит что-то другое, связанное, вероятно, со вторым значением слова «показ». Когда в споре мы показываем нечто свое¬му собеседнику, мы как бы апеллируем к последнему, самому глубокому уровню реальности, настоятельно о себе возвещающему. Равным образом возможно, что, именуя, называя, обозначая различные кушанья (то есть буду¬чи уверен, что они поддаются обозначению), рома¬нист сталкивает читателя с самым последним уровнем материального мира, который нельзя ни переступить, ни преодолеть (ясно, что тут дело идет о явлениях со¬вершенно иного порядка, нежели марксизм, идеализм и т. п.). Это так! Подобное восклицание следует пони¬мать отнюдь не как симптом внезапного умственного озарения, но как рубеж, за которым кончается всякая номинация, любая деятельность воображения. Вот поче¬му имеет смысл говорить о двух реализмах: первый рас¬шифровывает «реальное» (то, что заявляет о себе, но себя не являет); второй говорит о «реальности» (о том, что являет себя, но о себе не заявляет); в романе, спо¬собном соединить оба эти типа реализма, за «реальным» (которое постигается умом) всегда тянется фантазмати-
499
ческий шлейф «реальности»: изумляясь тому, что в 1791 г., оказывается, готовили совершенно такой же апельсиновый салат с ромом, как и в современных ре¬сторанах, мы тем самым заглатываем наживку истори-ческой интеллигибельности, насаженную на «крючок» самих вещей (апельсины, ром) в их упрямом здесь-бытии.
*
Говорят, что каждый второй француз ничего не чи¬тает: половина Франции лишена (сама себя лишает) возможности получать удовольствие от текста. Однако все сетования по поводу этого национального бедствия являются выражением лишь одной точки зрения, гума¬нистической — так, словно бойкотируя книгу, французы отвергают всего лишь некое моральное благо, священное сокровище. Между тем, имело бы смысл создать историю различных видов удовольствия, отринутых, отвергнутых обществом (получилась бы мрачная, трагическая история человеческой глупости): существует обскурантизм, объек¬том которого является удовольствие.
Даже если рассмотреть удовольствие, доставляемое текстом, не в социологическом, а в чисто теоретическом плане (что приведет к появлению особого дискурса, ли¬шенного, очевидно, всякой национальной и социальной специфики), то все равно речь пойдет о проблеме поли¬тического отчуждения — о бесправном положении удо¬вольствия (и тем более наслаждения) в обществе, управ¬ляемом двумя различными моралями — моралью боль¬шинства, проповедующей пошлость, и групповой мора¬лью, проповедующей требовательную строгость (полити¬ческую и/или научную). Возникает ощущение, что идея удовольствия не по душе никому. Наше общество выгля¬дит вполне степенным и вместе с тем каким-то свирепым, в любом случае — фригидным.
*
Смерть Отца лишит нас многих удовольствий, достав¬ляемых литературой. Если Отец мертв, то какой смысл в рассказывании всяких историй? Разве любое повество¬вание не сводится к истории об Эдипе? Разве рассказы-
500
вать не значит пытаться узнать о собственном происхож¬дении, поведать о своих распрях с Законом, погрузиться в диалектику нежности и ненависти? Ныне угроза навис¬ла не только над Эдипом, но и над самим повествова¬нием: мы больше ничего не любим, ничего не боимся и ни о чем не рассказываем. Будучи продуктом вымысла, история об Эдипе годилась хотя бы на то, что позволяла сочинять добротные романы, добротные повествова¬ния (эти строки написаны после просмотра фильма «Го¬родская девушка» Мурнау).
Очень многие типы чтения основаны на перверсии, на расщепление субъекта. Подобно тому, как ребенок, зная, что у матери отсутствует пенис, все же верит, что он у нее есть (это тот самый принцип экономии, выгоды которого показал Фрейд), читатель способен до бесконеч¬ности твердить самому себе: я прекрасно знаю, что все это не более, чем слова, и все же... (ведь эти слова бу¬доражат меня так, словно за ними стоит какая-нибудь реальность). Из всех типов чтения перверсия более всего присуща чтению трагических повествований: ведь я по¬лучаю удовольствие, внимая истории, конец которой мне прекрасно известен: я знаю этот конец и в то же время как будто его не знаю, я сам для себя делаю вид, будто мне ничего не известно; я знаю, что тайна Эдипа будет рас¬крыта, что Дантона гильотинируют, и все же... В отличие от драматических сюжетов, развязки которых мы не знаем, в трагедии удовольствие как бы глохнет, а наслаж-дение, наоборот, нарастает (в современной массовой культуре потребляется в основном «драматическая» про¬дукция, в этой культуре мало наслаждения).
*
Близость (тождественность?) наслаждения и страха. Такому сближению претит, конечно же, не банальная мысль о том, что страх — это неприятное чувство, но что это чувство малодостойное; страх является жупелом лю¬бой философии (насколько мне известно, один только Гоббс сознался: «Единственным аффектом в моей жизни был страх»); безумцу страх неведом (исключение, по-видимому, составляет лишь старомодное безумие героя
501
мопассановской новеллы «Орля»), и это делает страх несовременным: испытывая страх, мы в то же время отказываемся переступить некую границу; страх — это безумие, переживаемое в здравом уме и твердой па-мяти. Подчиняясь своему неизбежному уделу, субъект, испытывающий страх, в полной мере продолжает оста¬ваться субъектом; самое большее, на что он способен, — это невроз (в этом случае принято говорить о тревоге: благородное, ученое слово; между тем страх вовсе не есть тревога).
Вот эти-то причины и сближают страх с наслажде¬нием: он таится в абсолютном мраке подполья, но не по-тому, что он «постыден» (хотя, по правде сказать, ныне никто не хочет сознаваться в своих страхах), а потому, что, раскалывая субъекта надвое и в то же время не затрагивая его целостности, страх имеет в своем распо¬ряжении только общепринятые означающие: человеку, чувствующему, как в нем поднимается волна страха, за¬казан язык безумия. «Я пишу, чтобы не сойти с ума», — говорил Батай, и это значило, что он фиксировал собст¬венное безумие; но может ли кто-нибудь сказать о себе: «Я пишу, чтобы не испытывать чувства страха»? Может ли кто-нибудь зафиксировать страх (что вовсе не зна¬чит: рассказывать о своих страхах)? Страх не исключает, не стесняет и не осуществляет акта письма: стоя друг против друга в полной неподвижности, страх и письмо разделены, они просто сосуществуют.
(Я не говорю здесь о том случае, когда страшит сам акт письма.)
Однажды вечером, сидя в полудреме перед стойкой бара, я от нечего делать пытался сосчитать все доносив¬шиеся до меня языки: музыкальные мелодии, обрывки разговоров, звуки отодвигаемых стульев, позвякивание стаканов — всю стереофонию, в полный голос звучащую где-нибудь на танжерской площади (описанной Северо Сардуем). Внутри меня самого тоже шел какой-то раз¬говор (многим знакомо подобное ощущение), и эта речь, обычно называемая «внутренней», весьма походила на рыночный гул, на какофонию звуков, доносившихся до
502
меня извне: я сам был чем-то вроде городской площади, восточного базара; во мне звучали отдельные слова, об¬рывки синтагм, формул, не складывавшиеся в какие бы то ни было фразы, — так, словно в подобной незавершен¬ности как раз и состоял закон этого языка. Эта речь, насквозь пропитанная культурой и в то же время совер¬шенно дикарская, имела сугубо лексический, споради¬ческий характер; вопреки своей видимой связности, на деле она представала как абсолютно разорванная: эта не-фраза отнюдь не являлась чем-то, чему недостает силы сформироваться во фразу, что существует до фра¬зы; это было нечто такое, что всегда, по самой своей сути, существует вне фразы: но ведь подобный факт потенциально ведет к крушению лингвистики — той са¬мой лингвистики, которая, веруя лишь во фразу, всегда отводила совершенно непомерную роль предикативному синтаксису (как форме логического, рационального мыш¬ления): и я сразу же подумал о скандальном положении, существующем в науке — об отсутствии какой бы то ни было локутивной грамматики (грамматики говорения, а не грамматики письма; в первую очередь грамматики французского разговорного языка). Мы отданы во власть фразе (и следовательно — фразеологии).
Фраза иерархична: она предполагает наличие раз¬личных подчинений, зависимостей, внутренних управле-ний. Отсюда — ее завершенность: действительно, разве иерархия способна быть открытой вовне? Любая фраза представляет собой законченное целое; она, собственно, и воплощает язык в его завершенности. В данном отно¬шении практика весьма сильно отличается от теории. Теория (Хомский) утверждает, что фраза по сути своей бесконечна (поддается бесконечному катализу), а прак¬тика, напротив, всегда вынуждает заканчивать фразу. «Всякая идеологическая деятельность предстает в форме композиционно законченных высказываний». Рассмотрим эту мысль Юлии Кристевой с изнаночной стороны: ока¬жется, что любому законченному высказыванию грозит опасность идеологичности. В самом деле, для ревнителя Фразы характерна именно способность завершать целое, фразовое мастерство; такой ревнитель отмечен печатью высшего искусства, искусства, дорого доставшегося, до-
503
бытого тяжким трудом. Преподаватель — это человек, умеющий заканчивать свои фразы. Политический дея¬тель, у которого берут интервью, изо всех сил стремится договорить свою фразу до конца; а что, если он запнется? Да ведь тогда вся его политика загремит в тартарары! А как обстоит дело с писателем? Валери говорил: «Ду¬мают не словами, думают только фразами». Он говорил так потому, что сам был писателем. Писателем называется не тот, кто воплощает свою мысль, чувство или вообра¬жение с помощью фраз, а тот, кто думает фразами: Фразодум (иначе говоря: не вполне мыслитель и не вполне фразотворец).
Удовольствие от фразы имеет сугубо культурную природу. Фраза, этот артефакт, придуманный риторами, грамматистами, лингвистами, наставниками, писателями, предками, является объектом более или менее игрового подражания, причем объектом совершенно особого свой¬ства, парадоксальность которого прекрасно подметила лингвистика: с одной стороны, он жестко структурирован, а с другой — поддается бесконечному обновлению, словно шахматная игра.
А что если для некоторых лиц, подверженных первер¬сии, фраза являет собою образ тела?
*
Удовольствие от текста. Классики. Культура (чем больше культуры, тем сильнее, разнообразнее бывает удовольствие). Ум. Ирония. Утонченность. Эйфория. Ма¬стерство. Безопасность: искусство жить. Удовольствие от текста можно определить (без всякого риска совер¬шить над ним насилие) как тип практики, предполага¬ющий определенное время и место чтения: загородный дом, провинциальное уединение, близящийся ужин, за¬жженная лампа, домочадцы, пребывающие там, где им надлежит быть, — за стеной и в то же время под боком (Пруст в своей комнате, наполненной запахом ириса), и т. п. Необычайно усиливающееся (за счет фантазма) ощущение собственного «я»; заглушенность подсознания. Такое удовольствие может быть высказано: оно-то и порождает литературную критику.
504
Текст-наслаждение. Удовольствие — вдребезги; язык — вдребезги; культура — вдребезги. Подобные тексты пронизаны перверсией в том отношении, что они чужды любой мыслимой целесообразности — даже целесообраз¬ности, предполагаемой удовольствием (наслаждение не понуждает к удовольствию; очевидно, оно способно вызы¬вать даже скуку). Здесь невозможно никакое алиби, ни¬какое возрождение, никакой возврат к прошлому. Текст-наслаждение абсолютно нетранзитивен. Тем не менее перверсия не может служить достаточным опреде¬лением наслаждения; наслаждение определяется первер¬сией в ее крайней точке — точке постоянно смещающейся, полой, подвижной, непредсказуемой в своих перемеще-ниях. Вот этот-то крайний предел как раз и обеспечи¬вает наслаждение: средняя степень перверсии очень бы¬стро оказывается погребенной под грудой множества промежуточных целей: забота о престиже, о популярности, соперничество, спичи, парадная мишура и т. п.
Любой из нас может подтвердить, что удовольствие от текста переменчиво: нет никакой гарантии, что тот же са¬мый текст сможет доставить нам удовольстве во второй раз; удовольствие мимолетно, зависит от настроения, от привычек, от обстоятельств; оно зыбко (его можно вымо¬лить у Желания-чувствовать-себя-комфортабельно, одна¬ко Желание способно и отвергнуть нашу мольбу); отсю¬да — невозможность рассуждать о подобном тексте с точ¬ки зрения позитивной науки (он находится под юрисдик¬цией науки критической: удовольствие как основополагаю¬щий принцип критики).
Что касается наслаждения текстом, то оно не отли¬чается изменчивостью; с ним дело обстоит хуже: ему свойственна скороспелость; наслаждение никогда не нас¬тупает вовремя, оно не вызревает постепенно, словно плод. Здесь все совершается разом. Такая поспешность отчетливо заметна в современной живописи: едва мы уясним для себя сам принцип беспамятства, как он сразу же теряет всякую действенность, так что нам при¬ходится переносить внимание на какой-нибудь другой объект. Эффект игры, эффект наслаждения возникает только с первого взгляда.
505
*
Текст является (должен являться) тем самым бес¬пардонным субъектом, который показывает зад Отцу-политику.
*
Отчего исторические, романические, биографические произведения доставляют (людям, подобным мне) удо¬вольствие изображением «повседневной жизни» той или иной эпохи, того или иного персонажа? Откуда это любопытство к всевозможным подробностям — к распо¬рядку дня, привычкам, трапезам, интерьерам, к манере одеваться и т. п.? Что это? фантазматическое пристрастие к «реальности» (к самой материальности «того, что было»)? Не сам ли фантазм вызывает к жизни эти «подробности», мимолетные сцены частной жизни, с которыми я столь охотно отождествляюсь? По-видимо¬му, существуют такие «мелкие истерики» (читатели, по¬добные мне), которые извлекают наслаждение из свое¬образного зрелища — зрелища обыденности, а отнюдь не величия (что, если существуют грезы, фантазмы, порожденные обыденностью?).
Так, трудно вообразить себе что-либо более пустое, незначительное, нежели описания «погоды, которая стоит (стояла) на дворе»; тем не менее, читая (пытаясь читать) на днях Амьеля, я был неприятно поражен имен¬но тем, что отважный издатель (еще один ненавистник удовольствия) счел за благо опустить в его Дневнике множество повседневных подробностей, например, описания погоды, стоявшей на берегах Женевского озера, зато сохранил все скучнейшие моральные рас¬суждения; между тем, если что и устарело у Амьеля, то вовсе не эта погода, а его собственная философия.
*
Искусство, по-видимому, давно уже скомпрометиро¬вано — как с исторической, так и с социологической точки зрения. Отсюда — попытки разрушить искусство, предпринимаемые самими художниками.
Я выделяю три формы такого разрушения. Прежде всего, художник имеет возможность прибегнуть к какой-
506
нибудь другой системе означающих: писатель, напри¬мер, может сделаться кинематографистом, живописцем, а живописец, кинематографист, в свою очередь, — пус¬титься в бесконечные критические рассуждения по по¬воду кинематографа или живописи и тем самым свести искусство к его критике. Далее, художник может вовсе распрощаться с письмом, заняться деятельностью «пи¬шущего» * (ecrivance) — сделаться ученым, теорети¬ком-интеллектуалом, то есть избрать моральную пози¬цию, свободную от всякого языкового сладострастия. Он, наконец, может попросту самоуничтожиться — вообще бросить писать, сменить ремесло, загореться иным вожделением.
Беда в том, что подобное разрушение всегда обрече¬но на неудачу: либо обнаруживается, что оно внеположно искусству и оттого не достигает искомой цели, либо оказывается, что оно имманентно практике искус¬ства, так что все разрушенное немедленно возрождает¬ся вновь (авангард — это воплощение бунтарского язы¬ка, поддающегося приручению). Неудобство подобной альтернативы в том, что разрушение дискурса предстает здесь не как элемент диалектической триады, а как член семантической оппозиции: оно без труда уклады¬вается в рамки знаменитого семиологического мифа под названием «versus» (белое versus черное), откуда следует, что разрушение искусства способно протекать исключительно в парадоксальных формах (то есть в формах, в буквальном смысле направленных против доксы) : получается, что в конечном счете оба члена парадигмы связаны отношением сообщничества, при ко¬тором между отрицающей и отрицаемой сторонами су¬ществует структурная связь.
(Я же, напротив, имею в виду такой изощренный спо¬соб расшатывания всякой позитивности, который не стре¬мится к непосредственному разрушению, ускользает из-под власти указанной парадигмы в поисках иного, третьего элемента, который стал бы, однако, не элемен¬том диалектического синтеза, а воплощением некоего эксцентрического, совершенно немыслимого начала. Вам угоден пример? Таковым, пожалуй, может по-
* См. статью «Писатели и пишущие» в наст. сб. — Прим. ред.
507
служить творчество Батая, которому удается нейтрали¬зовать идеалистический полюс своих романов, вводя совершенно неожиданный материалистический противо¬вес и тем перемешивая порок, благочестие, игру, неви¬данную эротику и т. п.; у Батая целомудрию противо¬поставляется не сексуальная свобода, но ... смех.)
*
Текст-удовольствие отнюдь не обязательно должен живописать удовольствие, а текст-наслаждение ни в коем случае не призван поведать нам о наслаждениях. Удовольствие от изображения не связано с объектом изображения: порнография не гарантирует стопроцент¬ного удовольствия. Выражаясь в зоологических терми¬нах, можно сказать, что текстовое удовольствие возни¬кает не там, где имеет место отношение имитатора к своей модели (отношение подражания), а всего лишь там, где наблюдается отношение жертвы миметическо¬го обмана к самому имитатору (отношение вожделения, производства).
Кроме того, следует отличать представление от изображения.
Представление — это способ явить (независимо от степени и модуса представленности) некое эротическое тело. Так, в тексте может появиться его собственный автор (Жене, Пруст), но, разумеется, не как реальное биографическое лицо (такое лицо вытеснило бы вожде¬ленное тело, наделило бы жизнь определенным смыслом, откристаллизовавшимся в чью-то конкретную судьбу). Можно также испытать желание (складывающееся из мимолетных влечений) к тому или иному романическому персонажу. И наконец, сам текст, будучи диаграмматической, а не миметической структурой, способен явиться нам в виде тела, как бы распавшегося на множество фетишизированных объектов, эротических зон. Все это свидетельствует о наличии у текста определенного облика, необходимого для возникновения читательского наслаж¬дения. Точно так же любой кинофильм (причем даже в большей мере, чем текст) обладает неоспоримой способ-ностью представлять (вот почему, несмотря ни на что,
508
все еще имеет смысл снимать кинокартины), даже если он ничего не изображает.
Что касается изображения, то оно есть не что иное, как осложненное представление объекта — осложнен-ное наличием иных смыслов помимо смысла самого же¬лания: изображение — это пространство, где царят всевозможные алиби (реальность, мораль, правдоподо¬бие, удобопонятность, истина и т. п.). Вот, к примеру, сугубо изобразительный текст — описание мадонны Мемлинга у Барбе д'Оревилли: «Это совершенно пря-мая, вертикально вытянутая фигура. Всем чистым существам свойственна прямота. Целомудреных жен¬щин нетрудно узнать по стану и телодвижениям. Сла¬дострастницам же присуща расслабленность, томность, они всегда склоняются так, что того и гляди упадут». Обратите, между прочим, внимание на то, что принцип изобразительности привел не только к появлению опре¬деленного типа искусства (классический роман), но и к возникновению целой «науки» (например, графоло¬гии, по нетвердому почерку заключающей о вялом харак¬тере автора) и что, следовательно, эту науку будет правильно назвать (причем без всякой софистики) непосредственно идеологической (имея в виду истори¬ческие границы ее бытования). Разумеется, нередко бывает и так, что в изображениях объектом подража¬ния становится не что иное, как само желание; при этом, однако, желание никогда не выходит за границы самой изображаемой картины; оно определяет отноше¬ния лишь между изображенными персонажами; если у такого желания есть адресат, он всегда остается имма¬нентным самому изображению (вот почему можно ска¬зать, что любая, пусть даже наиновейшая, семиотика, для которой желание замкнуто в кругу действующих лиц, является семиотикой изображения. Изображение имеет место тогда, когда ничто не выходит, не вырывается из его рамок — из рамок картины, книги, киноэкрана).
*
Стоит вам где бы то ни было лишь заикнуться об удовольствии от текста — и у вас за спиной немедленно
509
вырастут два жандарма — жандарм политический и жандарм психоаналитический: вас обвинят в легко-мыслии и/или преступлении; удовольствие объявляется порождением праздности либо суетности, классовой идеей или просто иллюзией.
Это древняя, весьма древняя традиция: едва ли не все философские школы отвергали гедонизм; его права отстаивали лишь маргинальные авторы — Сад, Фурье; даже для Ницше гедонизм — это пессимизм. Удовольствие всегда третировали, умаляли, развенчивали, противо¬поставляя ему твердые, благородные ценности (Истина, Смерть, Прогресс, Борьба, Радость и т. п.). Его торжест¬вующий соперник — это Желание: нам беспрестанно тол¬куют о Желании, но ни словом не обмолвятся об Удоволь¬ствии: оказывается, что Желание имеет эпистемическую ценность, а Удовольствие — нет. Создается впечатление, что общество (наше общество) столь решительно отвер¬гает наслаждение (и в конце концов перестает его замечать) потому, что само способно создавать лишь эпистемологии Закона (и его отрицания), но не эписте¬мологии отсутствия Закона или, лучше сказать, его никчемности. Эта философская живучесть Желания (обусловленная тем, что оно никак не может найти себе удовлетворения) весьма примечательна: не слово ли «Желание» отсылает нас к «классовой идее»? (А вот и возможное тому доказательство, пусть и не окончательное, но все же достойное быть отмеченным: «простонародье» не знает, что такое Желание; ему ведомы лишь удо¬вольствия.)
В книгах, называемых «эротическими» (добавим: из числа расхожих — чтобы исключить отсюда Сада и некоторых других писателей), изображается не столько сама по себе эротическая едена, сколько ее ожидание, подготовка к ней, ее приближение; этим-то и «возбуж¬дают» подобные книги; когда же все-таки черед дохо¬дит до такой сцены, читатель, естественно, испытывает чувство разочарования: его надежды обмануты. Иначе говоря, всё это книги Желания, а не Удовольствия. Вы¬ражаясь более тонко, можно сказать, что подобные книги выводят на сцену Удовольствие таким, каким его видит
510
психоанализ. И в жизни, и в литературе — один и тот же смысл, подсказывающий: все это весьма и весьма обман¬чиво.
(Нужно не обойти вокруг психоаналитического града-памятника, а пройти по его дорогам, словно по улицам волшебного города, где можно играть, грезить и т. п.: это точно такая же фикция.)
Существует, по-видимому, мистика текста. Между тем, все усилия в настоящее время прилагаются к тому, чтобы материализовать удовольствие от текста, превра¬тить текст в объект удовольствия, подобный любому дру¬гому. Иначе говоря, существует две возможности: либо сблизить текст с «удовольствиями» повседневной жиз¬ни (удовольствие от пищи, от пейзажа, от встречи, от голоса, от того или иного мгновения и т. п.), включив его в наш личный каталог ощущений, либо пробить с помощью текста брешь, куда хлынет наслаждение, огром¬ная волна субъективного беспамятства, и тем самым приравнять этот текст к самым истым моментам первер¬сии, к ее потаеннейшим зонам. Главное — разровнять саму территорию удовольствия, уничтожить мнимую оппозицию между жизнью практической и жизнью со¬зерцательной. Удовольствие от текста — это праведный мятеж против изоляции текста; ведь вопреки тому, что у текста есть свое, особое имя, он неустанно заявляет о вездесущности удовольствия, об атопии наслаждения.
Образ книги (текста), где интимнейшим образом пе¬реплетутся и оставят свои следы все возможные виды наслаждения — наслаждения от «жизни» и наслаждения от текста, где чтение и приключение сольются в едином анамнезе.
Вообразим себе эстетику (если только само это слово еще не вполне обесценилось), до конца (полностью, ра¬дикально, во всех смыслах) основанную на удовольствии потребителя — кем бы он ни был, к какому бы классу или группе ни относился, независимо от его культурной или языковой принадлежности, — и последствия ока¬жутся огромными, поразительными (начала такой эсте-
511
тики были заложены Брехтом; из всех его начинаний об этом чаще всего забывают).
*
Сновидение обнажает, поддерживает, удерживает, до конца высвечивает ту исключительную филигранность наших нравственных, зачастую даже метафизических переживаний, те тончайшие смысловые переливы чело¬веческих отношений, те мельчайшие нюансы, то знание, обретаемое лишь на высшей ступени цивилизованности, короче, ту сознательную, но воплощенную с беспример¬ной деликатностью логику, которая, казалось бы, долж¬на быть доступна лишь в состоянии напряженного бодрствования. Иными словами, в сновидении обретает голос все, что мне не чуждо, не чужеродно: сновидение — это своего рода сырой сюжет, насыщенный до крайности цивилизованными переживаниями (сновидение предстает как цивилизатор).
Этой-то двойственностью нередко и пользуется текст-наслаждение (Э. По); впрочем, он способен принимать и прямо противоположный (хотя и столь же двойствен¬ный) облик: вполне удобочитаемый сюжет, насыщен¬ный неправдоподобными переживаниями («Г-жа Эдвар¬да» Батая).
*
Какая связь может существовать между удоволь¬ствием от текста и изучением текста в научных и учеб¬ных учреждениях? Очень непрочная. Теория текста пос¬тулирует наслаждение, однако у нее мало шансов про-никнуть в будущем в подобные учреждения: ее непос¬редственная задача, ее призвание состоит в том, чтобы обосновать известный тип практики (практики писате¬ля), но отнюдь не ту или иную науку, исследовательский метод, педагогику; по самым своим принципам такая теория способна привести лишь к появлению теоретиков и практиков (скрипторов), но не специалистов (крити¬ков, исследователей, преподавателей, студентов). На пути письма, порождающего текстовое удовольствие, стоит не только неизбежная металингвистичность лю-
512
бого научного исследования, но и тот факт, что в насто¬ящее время мы еще неспособны создать подлинную нау¬ку о становлении (науку, которая только и смогла бы учесть наше удовольствие, не отягощая его при этом моральной опекой): «...у нас не хватает тонкости, чтобы заметить текучесть, по всей видимости абсолютную, процесса становления; устойчивость существует лишь благодаря грубости наших органов чувств, резюмирую¬щих и сводящих вещи к общим планам, между тем как на деле нет ничего, что существовало бы в этой форме. Дерево в каждый момент своего существования — это некая новая вещь; мы утверждаем форму, потому что не замечаем неуловимости абсолютного движения» (Ницше).
Текст тоже подобен такому дереву, самим названием (случайным) которого мы обязаны грубости наших ор-ганов чувств. Мы научны потому, что у нас не хватает тонкости.
*
Что такое означивание? Это смысл (le sens), порож¬денный чувственной практикой (sensuellement).
*
Таким образом, мы с разных концов стремимся к соз¬данию материалистической теории текста. Это стремле¬ние может проходить через три стадии: прежде всего, вступив на древний психологический путь, можно под¬вергнуть беспощадной критике иллюзии, которыми оку¬тывает себя воображаемый субъект (превосходные об¬разцы такой критики дали моралисты-классики); после этого (или одновременно с этим) можно пойти дальше, открыв ошеломляющее зрелище внутренне расколотого субъекта, которого можно описать как арену сугубого чередования — появления и исчезновения цифры «ноль» (тексту подобные вещи уже интересны, поскольку здесь наслаждение, не имея возможности назваться соб¬ственным именем, все же испытывает содрогание от собственного уничтожения); можно, наконец, подверг¬нуть субъект генерализации («сложная душа», «смерт-
513
ная душа»), что вовсе не означает его омассовления, коллективизации; и здесь мы вновь встречаемся с тек-стом, с удовольствием, с наслаждением: «Мы не имеем права спрашивать: „кто же истолковывает?", но само истолкование, как форма воли к власти, имеет сущест¬вование (но не как„бытие",а как процесс, как становле¬ние) как аффект» (Ницше) *.
И вот тогда-то, быть может, перед нами вновь пред¬станет субъект, но уже не как иллюзия, а как фикция. Удовольствие возникает за счет того, что человек вооб¬ражает себя индивидом, создает последнюю, редчайшую фикцию — фикцию самотождественности. Такая фикция уже не является иллюзорным представлением о единстве собственной личности; напротив, она оказывается своего рода общественными подмостками, где развертывается зрелище нашей множественности; наше удовольствие индивидуально, но отнюдь не личностно.
Всякий раз как я пытаюсь «анализировать» текст, доставивший мне удовольствие, я обретаю не свою «субъективность», а свою «индивидуальность» — фак¬тор, определяющий отграниченность моего тела от всех прочих тел и позволяющий ему испытывать чувство стра¬дания или удовольствия: я обретаю свое тело-наслаж¬дение, которое к тому же оказывается и моим историче¬ским субъектом; ведь именно сообразуясь с тончайшими комбинациями биографических, исторических, социоло¬гических, невротических элементов (образование, при¬надлежность к определенному социальному классу, детские предрасположенности), я как раз и управляю противоречивым взаимодействием удовольствия (куль¬турного) и наслаждения (внекультурного), оказываюсь субъектом, неуютно чувствующим себя в своей совре¬менности, явившимся либо слишком поздно, либо слиш¬ком рано (это слишком не свидетельствует ни о сожа¬лении, ни об ошибке, ни о невезении, оно только пригла¬шает занять никакое место), — анахроническим, дрейфую¬щим субъектом.
* Цит. по русск. переводу: Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. IX, Московское книгоиздательство, 1910, с. 262. — Прим. перев.
514
Нетрудно представить себе некую типологию удо¬вольствий от чтения — или типологию читателей, полу-чающих удовольствие; эта типология не будет социаль¬ной, ибо удовольствие не принадлежит ни произведен¬ному продукту, ни самому процессу производства; она может быть только психоаналитической, устанавлива¬ющей связь между читательским неврозом и галлюци¬наторной формой текста. Так, фетишисту подходит рас¬члененный текст, текст, раздробленный на множество цитат, формул, отпечатков, ему близко удовольствие от отдельного слова. Человек, одержимый навязчивыми состояниями, будет вожделеть к букве, ко вторичным, надстроенным языкам, к метаязыкам (в эту группу входят все логофилы, лингвисты, семиотики, филологи — все, для кого язык не иссякает). Параноик станет по¬треблять или производить мудреные тексты, сюжеты, развивающиеся, словно замысловатые рассуждения, кон¬струкции, подобные играм с хитроумными правилами. Что же до истерика (столь противоположного одержи¬мому человеку), то его характерная черта в том, что он принимает текст за чистую монету, погружается в без¬донную, не ведающую истины комедию языка, теряет способность быть субъектом какого-либо критического взгляда и опрометью мчится сквозь текст (что отнюдь не равносильно тому, чтобы проецировать себя в него).
*
Текст значит Ткань; однако если до сих пор эту ткань неизменно считали некоей завесой, за которой с большим или меньшим успехом скрывается смысл (исти¬на), то мы, говоря ныне об этой ткани, подчеркиваем идею порождения, согласно которой текст создается, вы¬рабатывается путем нескончаемого плетения множества нитей; заблудившись в этой ткани (в этой текстуре), субъект исчезает подобно пауку; растворенному в про¬дуктах своей собственной секреции, из которых он пле¬тет паутину. Если бы мы были неравнодушны к неоло¬гизмам, то могли бы определить теорию текста как гифологию (гифос означает «ткань» и «паутина»).
Хотя теория текста открыто определила означивание (в том смысле, какой придала этому слову Юлия Крис-
515
тева) как арену наслаждения, хотя она заявила об эротической и одновременно критической ценности тек-стовой практики, все эти положения зачастую забывают¬ся, отвергаются, держатся под спудом. Но разве можно себе помыслить радикальный материализм, к которому стремится названная теория, без идеи удовольствия, нас¬лаждения? Разве немногочисленные материалисты прош¬лого — Эпикур, Дидро, Сад, Фурье — не были, каждый на свой лад, откровенными эвдемонистами?
И все же место удовольствия в теории текста оста¬ется не вполне ясным. Просто-напросто в один прекрас-ный день мы вдруг начинаем испытывать потребность слегка ослабить гайки теории, сместить дискурс, иди¬олект занятый самоповторением и оттого окостенева¬ющий, расшевелить его каким-нибудь вопросом. Удоволь¬ствие и есть не что иное, как этот вопрос. Прослыв чем-то вульгарным, презираемым (кто всерьез решится сегодня называться гедонистом?), удовольствие как раз и способно воспрепятствовать возвращению текста к мо¬рали, к истине — к морали истины: это окольное, так сказать — «обходное» средство, без которого, однако, даже теории текста грозит опасность превратиться в центрированную систему, в философию смысла.
*
Невозможно в полной мере выразить всю сдержива¬ющую силу удовольствия: удовольствие — это самая настоящая эпохэ, барьер, удерживающий на расстоянии все общепринятые (сами себя принимающие) ценности. Удовольствие — это сама нейтральность (форма демо¬нического, более всего проникнутая перверсией).
В любом случае удовольствие приостанавливает по¬явление означенной ценности, именуемой (правым) Де-лом. «Дармес, полотер, судимый в настоящее время за то, что стрелял в короля, составляет записку, где изла¬гает свои политические идеи...; чаще всего под пером Дармеса возникает слово „аристократия" (l'aristocratie), которое он пишет: haristaukrassie; слово, написанное таким образом, и впрямь заставляет поежиться...» Гюго («Камни») живо оценил экстравагантность означа-
516
ющего; ведомо ему и то, что этот маленький орфогра¬фический оргазм является продуктом «идей» Дармеса — идей, то есть ценностей, политических убеждений, оценки, немедленно обрисовывающей его лицо: записать, обо¬звать, изуродовать орфографию и изрыгнуть обратно. И однако: каким же нудным, по всей вероятности, был этот политический пасквиль Дармеса!
Удовольствие от текста — это вот что: ценность, ко¬торой присвоен пышный титул означающего.
*
Если бы можно было вообразить себе эстетику тек¬стового удовольствия, в нее следовало бы включить письмо вслух. Это звуковое письмо (отнюдь не тождест¬венное устной речи) никем не практикуется, однако именно его предлагал Арто, именно его требует Соллерс. Будем говорить о нем так, словно оно существует.
Античная риторика включала в себя ныне забытую, отвергнутую комментаторами классической эпохи часть: actio — совокупность рецептов, позволявших облечь ораторский дискурс в телесную оболочку: дело шло о своеобразном театре выражения, где оратор-актер «выражал» свое негодование, сострадание и т. п. Что касается письма вслух, то оно отнюдь не стремится к подобной выразительности; оно оставляет функцию вы¬ражения за фено-текстом, за систематизированным ко¬дом коммуникации, само же это письмо принадлежит гено-тексту, уровню означивания; его носителем являют¬ся не драматические модуляции, не прихотливые инто¬нации, не замысловатая расстановка акцентов, а фак¬тура самого голоса, представляющая собой эротиче¬ское смешение тембра и языка и потому могущая стать, наравне с дикцией, материалом искусства — искусства управления собственным телом (отсюда та роль, которую играет это искусство в театрах Востока). Состоя из зву¬ков, производимых языком как телесным органом, пись¬мо вслух имеет не фонологическую, а фонетическую при¬роду: его цель не в ясности сообщения и не в зрелище страстей; стремясь к наслаждению, оно грезит о собы¬тиях-импульсах, о том, чтобы прикоснуться к нежной кожице языка, о тексте, позволяющем ощутить фактуру
517
гортани, патину согласных, сладострастие гласных, всю стереофонию потаенной плоти — телесную артикуляцию языка как произносительного органа, а не смысловую артикуляцию языка как средства коммуникации. Пред¬ставление о таком звуковом письме могли бы дать некото¬рые разновидности мелодического искусства. Однако по¬скольку мелодика ныне мертва, подобное письмо легче всего обнаружить в кинематографе. В самом деле, до¬статочно кинематографисту записать человеческую речь с очень близкого расстояния (а это, по сути, и есть общее определение «фактуры» письма), позволить ощутить дыхание, трещинки, мягкую неровность человеческих губ, само присутствие человеческого лица во всей его материальности, телесности (письмо, как и голос, дол¬жно быть столь же непосредственным, нежным, влаж-ным, покрытым мельчайшими пупырышками, подраги¬вающим, как мордочка животного), чтобы означаемое немедленно сгинуло где-то в бесконечной дали, а в уши мне бросилось, так сказать, звучание всей анонимной плоти актера: что-то подрагивает, покалывает, ласка¬ет, поглаживает, пощипывает — что-то наслаждается.
1973.
Разделение языков.
Перевод С. Н. Зенкина . . . 519
Разделена ли наша культура? Ничуть нет: сегодня у нас во Франции все могут понять телевизионную пе-редачу, статью из «Франс-суар» или программу званого ужина; можно даже сказать, что, за исключением не¬большой группы интеллектуалов, все и потребляют по¬добного рода культурную продукцию; объективная со¬причастность является здесь всеобщей, и если бы куль¬тура того или иного общества определялась совершае¬мым в нем обращением символов, то в таком случае наша культура могла бы показаться однородной и монолитной, словно культура какого-нибудь малого этнического сооб¬щества. Разница, однако, в том, что всеобщим для нашей культуры является только потребление, но не производ-ство: то, что мы все вместе слушаем, каждый из нас пони¬мает, но не каждый говорит. Наши «вкусы» разделены, нередко даже безысходно противоположны друг другу — я люблю слушать классическую музыку, которой не вы¬носит мой сосед, зато я терпеть не могу бульварные ко¬медии, которые обожает он; когда один из нас включает трансляцию, другой ее выключает. Иными словами, наша культура, при всей своей видимой всеобщности, бесконфликтности и коллективности, зиждется на раз¬делении двух видов языковой деятельности: с одной сто¬роны, это слушание, или же деятельность понимания, общая для всей нации, а с другой стороны, если не речь, то творческая сопричастность — точнее, язык желания, и он-то разделен. С одной стороны, я слушаю, с другой стороны, мне это нравится (или не нравится) — мне понятно, но скучно; при единстве массовой культуры в нашем обществе разделены не только разные языки, но и сам язык внутри себя. Такая ситуация уже ощущалась
(c) Gallimard, 1973
519
некоторыми лингвистами, хотя дело их — заниматься не дискурсом, а только системой языка; они предлагали (хотя до сих пор и не нашли поддержки) разграничи¬вать две грамматики — активную грамматику, грам¬матику языка в смысле речевой деятельности, вы¬сказывания, производства, и грамматику пассивную, то есть грамматику слухового восприятия. При транслин¬гвистическом переходе на уровень дискурса это разгра¬ничение могло бы объяснить парадоксальность нашей культуры, с ее единством слухового кода (кода потреб¬ления) и раздробленностью кодов производства (кодов желания); в «примиренной культуре», на уровне которой нет видимых конфликтов, на самом деле имеет место разделение (социальное) языков.
В науке это разделение до сих пор было едва ли не запретной темой. Лингвистам, конечно, известно, что любой национальный язык (например, французский) имеет некоторое количество разновидностей, однако сре¬ди этих разновидностей изучались лишь географические (местные диалекты и говоры), а не социальные; соци¬альное же расслоение языка хотя в принципе и призна¬ется, но на практике приуменьшается, сводится к раз¬личию «манер» выражения (арго, жаргоны, смешанные языки). Считается к тому же, что язык вновь обретает свое единство на уровне говорящего, у которого есть свой собственный язык, индивидуальная речевая констан¬та, именуемая идиолектом; всякие же разновидности языка воспринимаются как его промежуточные, неустой¬чивые, «забавные» состояния, как какие-то экзотичес¬кие причуды его социального бытования. Такие воззре¬ния берут начало в XIX в. и вполне отвечают опреде¬ленной идеологии (ей не был чужд и сам Соссюр), противопоставляющей общество (естественный язык и его систему) и индивида (идиолект, стиль); всякие на¬пряжения между этими полюсами могут быть только «психологическими» — считается, что индивид борется за признание своего языка, чтобы не задохнуться под гнетом языка других. Социология той эпохи не смогла осмыслить этот конфликт на уровне языка: Соссюр был в большей мере социологом, чем Дюркгейм — лингвис¬том. Ощущение разделенности (хотя бы психологичес¬кой) языков возникло скорее в литературе, чем в соци-
520
ологии, — и не удивительно: литература содержит в себе все знания, правда, в ненаучной форме; она представ¬ляет собой Матесис.
Как только роман стал реалистическим, его задачей с неизбежностью стало воссоздание социального разно¬язычия; но, как правило, для имитации групповых, социопрофессиональных языков наши романисты исполь¬зовали второстепенных, эпизодических персонажей, в которых «фиксировалась» социальная реалистичность фона, меж тем как главный герой по-прежнему говорил на вневременном языке, нейтральность и «прозрачность» которого как бы созвучны универсальной психологичес¬кой природе человеческой души. Острое сознание соци¬альных языков присуще, например, Бальзаку; но он воспроизводит их в обрамлении, подчеркнуто выделяет, словно бравурную арию в опере, окарикатуривает с по¬мощью причудливо-живописных черт — таков, скажем, тщательно фонетически воссозданный говор г-на Нусингена или привратницкий жаргон г-жи Сибо, консьержки кузена Понса. Вместе с тем у Бальзака встречается и другой вид языкового мимесиса — он интереснее, так как, во-первых, более наивен, а во-вторых, носит скорее культурный, чем социальный характер; я имею в виду воссоздание кода расхожих мнений, которые Бальзак нередко пересказывает от своего собственного лица, вставляя в повествование свои пояснения. Если, допус¬тим, в рассказываемой им истории («О Екатерине Ме¬дичи») промелькнет фигура Брантома, то Брантом станет говорить о женщинах в точном соответствии со своей культурной «ролью» «специалиста по галантным историям», исполнения которой и ожидает от него общее мнение (докса); увы, нельзя поручиться, что сам Баль¬зак поступает здесь вполне осознанно, — он-то считает, что воссоздает речь Брантома, тогда как фактически он копирует лишь копию (культурный слепок) этой речи.
Флобера уже не заподозрить в подобной наивности (кое-кто скажет — пошлости): этот писатель не ограни-чивается воспроизведением мелких отклонений от нормы в фонетике, лексике, синтаксисе, он старается сделать предметом подражания более тонкие и диффузные языковые значимости, своего рода фигуры дискурса, a главное (если обратиться к самой «глубокой» книге
521
Флобера — «Бувару и Пекюше»), в его мимесисе нет дна, нет предела. Научные, технические, классовые (бур¬жуазные) языки культуры цитируются в романе, автор копирует их, но не принимает за чистую монету, сам же он, в отличие от Бальзака, остается как бы неуловимым; с помощью исключительно тонких приемов, которые только теперь начинают для нас проясняться, Флобер нигде не показывает своей окончательной внеположности по отношению к «заимствованному» им виду дискурса. Такая двусмысленность делает в чем-то иллюзорным сартровский или марксистский анализ «буржуазности» Флобера: пусть даже буржуа Флобер и говорит на языке буржуазии, но как узнать, откуда осуществляется это высказывание? То ли оно критически возвышается над буржуазным языком, то ли отрешенно удалено от него, то ли «увязает» в нем? На самом же деле язык Флобера утопичен, что как раз и делает его современным: ведь ныне лингвистика и психоанализ учат нас именно тому, что язык — это область, которой ничто не внеположно. Среди крупнейших писателей, сталкивавшихся с проб¬лемой разделения языков, можно вслед за Бальзаком и Флобером назвать Пруста, ибо в его творчестве заклю¬чена настоящая энциклопедия языка; даже не возвра-щаясь к общей проблеме знаков у Пруста (о которой замечательно написал Ж. Делез) и ограничиваясь только сферой членораздельной речи, у этого писателя можно обнаружить все виды словесного мимесиса. Среди них и характерные подражания (послание Жизель, ими¬тирующее школьное сочинение и дневник Гонкуров), и идиолекты персонажей (в «Поисках утраченного вре¬мени» у каждого действующего лица свой язык, одно¬временно лично и социально характерный, — язык феодального сеньора у Шарлю, язык сноба у Леграндена), языки семейных кланов (у Германтов), язык класса (Франсуаза и ее «простонародная речь», которая, правда, воссоздается здесь главным образом в контексте ностальгии по прошлому); приводится целый каталог языковых аномалий (искаженный язык «чужака» — управляющего Гранд-отелем в Бальбеке), тщательно отмечаются языковые приспособления (Франсуаза испы¬тывает влияние «современной» речи ее дочери) и язы¬ковая диаспора (язык Германтов «роится»), излагают-
522
ся соображения о происхождении слов и об основопо¬лагающей роли имени как означающего; в этой деталь¬ной и исчерпывающей панораме типов дискурса не упу¬щено даже отсутствие (намеренное) некоторых языков — у рассказчика, его родителей, Альбертины своего языка нет. И все же, как бы далеко ни продвинулась литера¬тура в описании разделенных языков, видны и пределы этого литературного мимесиса. С одной стороны, воссоз¬даваемый язык не выходит за рамки «экзотического» (можно даже сказать, колониального) представления о языках, отклоняющихся от нормы; язык другого дает¬ся в обрамлении, автор (кроме разве что Флобера) об¬ладает по отношению к нему экстерриториальностью; разделение языков распознается порой столь проница¬тельно, что таким «субъективным» писателям вполне могла бы позавидовать социолингвистика, и все же для описывающего лица оно остается внешним предметом; иными словами, наблюдатель здесь, наперекор достиже¬ниям современной релятивистской науки, не учитывает своего места в процессе наблюдения; разделение языков прекращается на уровне автора, который его описывает (если только оно им не разоблачается). С другой стороны, воспроизводимый в литературе социальный язык остает¬ся одноголосым (вспомним отмеченное выше разгра¬ничение двух грамматик): Франсуаза говорит одна, мы ее понимаем, но никто в книге ей не отвечает; подвер¬гаемый наблюдению язык монологичен, он никогда не включается в диалектику (в прямом смысле слова); в результате такие осколки языков фактически рассмат¬риваются как идиолекты, а не как целостная и сложная система языкового производства.
Обратимся теперь к «научным» взглядам на вопрос. Каким видит разделение языков наука (социолингвис-тика)?
Разумеется, в принципе связь между разделением классов и разделением языков признается уже давно: разделение труда порождает разделение лексики. Можно даже сказать, вслед за Греймасом, что тот или иной словарь и есть не что иное, как расчленение семанти¬ческой массы под действием некоторого вида труда: для всякого словаря есть соответствующий вид труда (исключения не составляет и общая, «универсальная»
523
лексика — это просто лексика «внетрудовая»). Поэтому социолингвистические исследования гораздо легче вести в первобытных обществах, чем в наших исторически развитых обществах, где проблема сильно запутана; дей¬ствительно, ведь у нас социальное разделение языков осложняется унифицирующим давлением языка нацио¬нального и, как уже отмечено, однородностью так назы¬ваемой массовой культуры. Тем не менее языковые разграничения сохраняют силу, что вполне подтверж¬дается простым феноменологическим замечанием: дос¬таточно однажды выйти из своего привычного окружения и попытаться хотя бы час-другой не просто слушать языки, отличные от нашего, но и самому как можно ак-тивнее участвовать в разговоре, чтобы с замешатель¬ством, а то и с болью ощутить сильнейшую взаимоне-проницаемость языков, составляющих французский. Языки эти не сообщаются друг с другом (разве что в разговорах о погоде), причем не на уровне языковой системы, которая понятна для всех, а на уровне дискурса и его видов (предмет, изучением которого начинает заниматься лингвистика); другими словами, несообщаемость их носит, собственно, не информативный, а интерлокутивный характер — языки нелюбопытны, равно¬душны друг к другу; в нашем обществе мы обходимся языком себе подобных, не нуждаясь жизненно в языке другого, — «всякому довлеет свой язык». Мы держимся в пределах языка своей социальной и профессиональной зоны, и такое самоограничение имеет невротический смысл — оно позволяет нам кое-как приспосабливаться к раздробленности нашего общества.
Очевидно, что в исторически развитых обществах разделение труда не отражается прямо, как в зеркале, в разделении лексики и обособлении языков; имеет место сложная детерминированность, одновременное воздей¬ствие параллельных или разнонаправленных факторов. Даже в странах с относительно равным уровнем разви¬тия дело может обстоять по-разному в силу историче¬ски обусловленных различий. Я, например, убежден, что во Франции, по сравнению с другими, не более, чем она, «демократическими» странами, разделенность особенно велика; здесь чрезвычайно остро — быть может, в силу классической традиции — осознается лицо и принад-
524
лежность языка, язык другого воспринимается в самых резких чертах его инаковости. Потому мы так часто об¬виняем друг друга в «жаргоне» и по давней традиции насмехаемся над замкнутыми языками, которые на са¬мом деле просто другие (смотри Рабле, Мольера, Прус¬та).
Предпринимались ли попытки научного описания разделения языков? Да, конечно, — в социолингвистике. Не устраивая здесь суд над этой дисциплиной, прихо¬дится все же отметить, что она во многом нас разоча-ровывает. Социолингвистика никогда не занималась проблемой социального (то есть разделенного) языка; она, с одной стороны, пыталась свести воедино (да и то лишь в некоторых косвенных аспектах) макросоциологию с макролингвистикой, соотнести феномен общества с феноменом языка или языковой системы; а с другой стороны, как бы на противоположном полюсе, в ней предпринималось социологическое описание отдельных языковых общин (speech communities) — тюремного или церковноприходского языка, формул вежливости, baby-talks *. Чувство разочарования может возникнуть оттого, что социолингвистика рассматривает обособление со¬циальных групп в их борьбе за власть; разделение язы¬ков понимается в ней не как всеохватывающее явление, затрагивающее самые основы нашего экономического строя, культуры, быта, даже истории, — но всего лишь как эмпирическое (отнюдь не символическое) следствие известного человеческого стремления, отчасти социаль¬ного, отчасти психологического, а именно тяги к возвы¬шению. Такой взгляд по меньшей мере узок, и нашим ожиданиям он не отвечает.
Удачнее ли действовала, по сравнению с социологией, лингвистика? Она редко стремилась установить отноше¬ния между языками и социальными группами, зато под¬вергала историческому исследованию отдельные пласты лексики, обладающие специфической окраской в силу принадлежности к определенным социальным группам или институтам. Так, Мейе изучал религиозную лексику индоевропейских языков; Бенвенист недавно издал
* «Детский язык», язык разговоров с детьми (англ.). — Прим. перев.
525
великолепный труд об индоевропейских социальных тер¬минах; Маторе еще двадцать лет назад предпринял по¬пытку создания настоящей исторической социологии словарного фонда языка (или лексикологии); Жан Дю¬буа не так давно описал словарь Коммуны. Быть может, лучше всего привлекательность и ограниченность такой социоисторической лингвистики видны на примере Фер¬динанда Брюно, который в X и XI томах своей монумен¬тальной «Истории французского языка с древнейших времен до 1900 года» 1 подверг доскональному изучению язык Французской революции. Привлекательность сос-тоит в том, что изучается в полном смысле слова поли¬тический язык — не просто совокупность лексических отклонений, служащих для внешней «политизации» языка (как это часто бывает ныне), а язык, который вырабатывается непосредственно в ходе политического праксиса и в силу этого направлен скорее на произ-водство, чем на отражение. Устранение или возвеличе¬ние слов обладает в нем едва ли не магической дейст¬венностью, с упразднением слова как бы упраздняется и референт — запрет на слово «дворянство» восприни¬мался как ликвидация самого дворянства. Исследование этого политического языка могло бы составить хорошую основу и для анализа нашего собственного политичес¬кого (или политизированного?) дискурса. Здесь пред¬ставлены и аффективно окрашенные слова, отмеченные запретами или контрзапретами, любовью (Нация, Закон, Отечество, Конституция) или ненавистью (Тирания, Аристократ, Заговор); и непомерная власть некоторых вроде бы «ученых» понятий (Конституция, Федерализм); и «перевод» терминов, словесные замены (клир — попов¬щина, религия — фанатизм, культовый предмет — по¬брякушки фанатизма, вражеские солдаты — гнусные пособники тиранов, налоги — взносы *, слуга — дове¬ренный человек, сыщики — полицейские агенты, коме¬дианты — артисты, и т. д.); и неистовые коннотативные смыслы (революционный начинает означать срочный,
1 Вrunot F. Histoire de la langue francaise des origines a 1900. P.: Armand Colin, 1937.
* По-французски соответственно impots (от глагола imposer 'нала¬гать', 'навязывать') и contribution (от глагола contribuer 'принимать участие'). — Прим. перев.
526
ускоренный; говорят революционно разобрать книги). Что же касается ограниченности, то она связана с тем, что подобный анализ эффективен только в лексике. Правда, синтаксис французского языка был лишь не-значительно затронут потрясениями революции (на деле она старалась блюсти в языке классические традиции), но, пожалуй, еще важнее то, что лингвистика пока не располагает средствами для анализа неуловимой струк¬туры дискурса, помещающейся в промежутке между слишком свободной грамматической «конструкцией» и слишком ограниченным набором слов; по-видимому, такая структура соответствует области устойчивых син¬тагм (например, «давление революционных масс»). Лин¬гвист вынужден поэтому, изучая разделение языков, ог¬раничиваться явлениями лексики, а то и языковой моды. Итак, при традиционном научном анализе едва ли не упускается из виду самый животрепещущий воп¬рос — непрозрачность социальных отношений. На мой взгляд, основная причина этого носит эпистемологичес¬кий характер: в своем подходе к дискурсу лингвистика до сих пор как бы остается на стадии Ньютона; она еще не совершила эйнштейновскую революцию, не осмыслила теоретически место самого лингвиста (то есть систему отсчета наблюдателя) в поле наблюдения. Этот прин¬цип относительности и необходимо прежде всего принять.
*
Пора дать название этим социальным языкам, выде¬ляемым в толще языка национального. Хотя поначалу их взаимонепроницаемость и представлялась нам чисто экзистенциальной, на самом деле в ней на всех мысли¬мых уровнях, во всех оттенках и осложняющих моментах прослеживается разделение и противоположность клас¬сов; будем же называть эти групповые языки социолек¬тами (по очевидной оппозиции с идиолектом, то есть язы¬ком отдельного индивида). Главная особенность соци¬олектной области в том, что ни один язык не может оставаться вне ее пределов: речь любого субъекта с не¬избежностью входит в тот или иной социолект. Для ана¬литика отсюда вытекает важное следствие: он сам тоже включен в игру социолектов. Могут возразить, что в
527
других случаях подобная ситуация вовсе не мешает на¬учному наблюдению — хотя бы в случае того же линг¬виста, который должен описать естественный язык, то есть сферу, объемлющую все частные языки, в том чис¬ле и его собственный. Но в том-то и дело, что естест¬венный язык — пространство однородное (французский язык един для всех), и говорящий о нем не обязан за¬нимать в нем определенное место. Социолектная же область, напротив, характеризуется именно своей разделенностью, непримиримой расколотостью, и аналитик вынужден выбирать себе место посреди этой расколотости. Отсюда явствует, что исследование социолектов (до сих пор его еще нет) должно начинаться основопо¬лагающим актом оценки (слово это желательно понимать в критическом смысле, который придал ему Ницше). Это значит, что мы не можем слить все социолекты (социальные языки), независимо от их природы и поли¬тического контекста, в некий расплывчатый и нерас¬члененный материал исследования, чья нерасчлененность, равноценность, служила бы залогом объективно-науч¬ного подхода; нам приходится здесь отказаться от адиафоричности традиционной науки и допустить пара¬доксальный для многих логический порядок, при котором анализ социолектов обусловлен их типами, а не на¬оборот; типология предшествует определению. Следует также уточнить, что оценка (evaluation) не сводится к суждению о достоинстве (appreciation). Право (закон¬ное) судить о достоинстве описываемых фактов присва¬ивали себе и весьма объективные ученые (именно так поступает Ф. Брюно по отношению к Французской ре¬волюции); оценочный же акт не следует за другими, но сам является основополагающим. Это образ действий отнюдь не «либеральный» а, напротив, насильственный; в оценке идиолектов изначально переживается конфликт социальных групп и языков, и аналитик, уже вводя по¬нятие того или иного социолекта, обязан тут же осмыс¬лить и противоречивость общества, и внутреннюю расколотость самого субъекта науки (отсылаю к лакановско¬му анализу «предполагаемого субъекта знания»).
Итак, научное описание социальных языков (социо¬лектов) невозможно без их основополагающей полити-ческой оценки. Подобно тому как Аристотель в своей
528
«Риторике» различал две группы доказательств — внутритехнические (entechnoi) и внетехнические (atechnoi), — так и я предлагаю прежде всего разграничить два вида дискурса, две группы социолектов: внутривластные (осененные властью) и вневластные (либо безвласт¬ные, либо осиянные своей невластностью). Пользуясь учеными неологизмами — но как же обойтись без них? — будем называть первые энкратическими, а вторые — акратическими.
Разумеется, связь дискурса с властью (или с вневластием) очень редко бывает прямой, непосредствен¬ной; в законе, допустим, формулируется запрет, но его дискурс уже опосредован целой правовой культурой, более или менее общепринятым рацио; источником речи, непосредственно прилегающей к власти, может быть одна лишь мифологическая фигура Тирана («Царь повелел...»). Фактически язык власти всегда оснащен структурами опосредования, перевода, преобразования, переворачивания с ног на голову (например, Маркс указал на перевернутость идеологического дискурса по отношению к власти буржуазии). Так же и акра¬тический дискурс не выступает открыто против власти; скажем, психоаналитический дискурс (если взять кон¬кретный и актуальный пример) не связан прямо, по крайней мере во Франции, с критикой власти, а между тем его можно отнести к акратический социолектам. Почему? Потому что посредующее звено между властью и языком носит характер не политический, а культур¬ный: пользуясь старым аристотелевским понятием доксы (расхожего общего мнения, «вероятного», но не «вер-ного», не «научного»), можно сказать, что докса и яв¬ляется тем культурным, или дискурсивным, опосредо-ванием, через которое осуществляется речь власти (или не-власти). Энкратический дискурс согласуется с доксой, подчиняется ее кодам, составляющим струк¬турирующие линии ее идеологии, акратический же дис-курс в своих высказываниях всегда в той или иной мере направлен против доксы, этот дискурс в любых своих видах всегда пара-доксален. Данная оппозиция не исключает различных оттенков внутри каждого из типов, но со структурной точки зрения она сохраняет свою силу и простоту до тех пор, пока власть и не-
529
власть остаются на своих местах; она нарушается, и то временно, лишь в тех редких случаях, когда про-исходит смена, перемещение власти. Так бывает с по¬литическим языком в период революции: язык рево-люции возникает из прежнего акратического языка; придя к власти, он сохраняет свою акратичность, пока в лоне Революции продолжается активная борьба, но как только борьба стихает и вновь утверждается госу-дарственность, бывший революционный язык сам ста¬новится доксой, энкратический дискурсом.
Энкратический дискурс — коль скоро мы включили в его определение опосредованность доксой — это не только дискурс господствующего класса; его могут за¬имствовать (или хотя бы принимать без сопротивления) и классы, не обладающие властью или же пытающиеся ее добиться путем реформ либо перехода в высший класс. Пользуясь поддержкой государства, энкратиче¬ский язык вездесущ: это язык размытый, текучий и все¬проникающий, им пропитаны процессы товарного об¬мена, социальные ритуалы, формы досуга, социосимволическая сфера (особенно, конечно, в обществах, где имеется массовая культура). Энкратический дискурс не только никогда не выступает как систематический, но и образует постоянную оппозицию всякой систем¬ности; он скрывает свою системность, тайно подменяя ее такими личинами, как «природа», «универсальность», «здравый смысл», «ясность», недоверие к «интеллек-туализму». Кроме того, подобный дискурс внутренне по¬лон — в нем нет места «другому»; отсюда ощущение удушья, вязкой массы, которое он может вызвать у по¬стороннего ему человека. Если, наконец, вспомнить, что, по Марксу, «идеология — это образ реальности, поставленной с ног на голову», то получается, что в энкратическом дискурсе, всецело идеологическом, ре¬альность изображается как разрушение идеологии. Ко¬роче говоря, это язык немаркированный, его террористичность приглушена, так что трудно определить ее морфологические черты — разве что удастся строго и точно воссоздать фигуры приглушения (одно, в общем-то, противоречит другому). Сама природа доксы — ее расплывчатость, полнота, «природность» — такова, что затрудняет какую-либо внутреннюю типологию энкра-
530
тических социолектов; языки власти атипичны, этот род не разделяется на виды.
Изучать акратические социолекты, видимо, легче и интереснее. Все эти языки вырабатываются вне доксы, которая их и отвергает, именуя обычно «жаргонами». При анализе энкратического дискурса результат в об¬щем и целом известен заранее — потому-то анализ массовой культуры явно топчется ныне на месте; акра¬тический же дискурс — это, в общем, тот, которым поль¬зуемся мы сами (исследователи, интеллектуалы, писа¬тели), и, анализируя его, мы подвергаем анализу и са¬мих себя в своем отношении к речи; подобная затея всегда сопряжена с риском, но именно поэтому ее не¬обходимо осуществить. Что думают о своем дискурсе марксизм, или фрейдизм, или структурализм, или наука (так называемые гуманитарные науки) — в той мере, в какой каждый из этих языков составляет акратиче¬ский, пара-доксальный социолект? Подобным вопросом никогда не задается язык власти; очевидно, что этот вопрос лежит в основе всякого анализа, стремящегося не искать внешней точки зрения на свой объект.
Своим носителям социолект выгоден, очевидно, пре¬жде всего тем (не считая преимуществ, которые вла-дение особым языком дает в борьбе за удержание или завоевание власти), что сообщает им защищенность; языковая ограда, как и всякая другая, укрепляет и ободряет тех, кто внутри нее, отвергая и унижая тех, кто снаружи. Но как социолект воздействует на тех, кто вне его? Теперь ведь нет искусства убеждать, нет риторики (во всяком случае, она не признает себя та¬ковой); стоит, кстати, заметить, что риторика Аристо-теля, основанная на мнении большинства, была с пол¬ным правом, можно даже сказать преднамеренно и открыто, риторикой эндоксальной, то есть энкратической, — поэтому аристотелевское учение, хоть это и представляется парадоксом, может оказаться источ¬ником весьма ценных понятий для социологии массо¬вых коммуникаций. По сравнению с той эпохой совре¬менная демократия отличается тем, что «убеждение» и его techne * не осмыслены теоретически, так как си-
* Искусство (греч.). — Прим. перев.
531
стематичность подвергается запрету, а язык, в силу характерного для нашего времени мифа, считается «природным», «инструментальным». Можно сказать, что наше общество, не признавая риторику, тем самым «забывает» и теоретически осмыслить массовую куль¬туру (об этом явно забывает и послемарксовская марк¬систская теория).
Но на самом деле социолекты и не имеют отноше¬ния к techne убеждения — во всех них содержатся фигуры устрашения (пусть даже и кажется, что акра¬тический дискурс более резко террористичен). Любой социолект (энкратический или акратический), будучи порожден расслоением общества, живя среди воюющих друг с другом смыслов, сам стремится не дать говорить чужим; таков удел даже либерального социолекта. Оттого в разделении двух основных типов социолектов противопоставляются друг другу всего лишь два разных типа устрашения или, если угодно, два способа дав¬ления. Энкратический социолект действует подавляюще (своей массированной эндоксальностью, которую Фло¬бер назвал бы Глупостью); акратический же социолект, находясь вне власти, вынужден прибегать к прямому насилию и действует подчиняюще, пускает в ход на¬ступательные фигуры дискурса, призванные скорее принудить, нежели завоевать другого. Два способа устрашения различаются также и ролью, которая при¬знается в них за системностью: акратическое насилие открыто опирается на обдуманную систему, энкратическая же репрессивность свою систему затемняет, пре¬вращает обдуманное в «пережитое» (то есть не-обду-манное); две дискурсивные системы связаны отноше¬нием инверсии — явное / скрытое.
Социолект не только устрашающе действует на тех, кто оказывается вне его (по своему положению в куль-туре, в обществе), он также и принудителен по отно¬шению к тем, кто его разделяет (вернее, получил его в свой удел). Со структурной точки зрения это резуль¬тат того, что на уровне дискурса социолект представ-ляет настоящую языковую систему. Якобсон вслед за Боасом справедливо отметил, что язык определяется не тем, что он позволяет, а тем, что он заставляет сказать, — точно так же и во всяком социолекте есть «обяза-
532
тельные категории», обобщенные стереотипные формы, вне которых носители социолекта не могут говорить (мыслить). Иными словами, социолект, как и любая языковая система, включает в себя, пользуясь терми¬ном Хомского, определенную компетенцию, в рамках которой становятся структурно незначимыми варианты перформации. Энкратический социолект безразличен к вульгарности, в большей или меньшей степени при¬сущей тем, кто на нем говорит; и, с другой стороны, всякому известно, что марксистским социолектом, бы¬вает, пользуются и глупцы. Языковая система социо¬лекта не меняется из-за индивидуальных отклонений, но лишь под влиянием исторической мутации дискур¬сивного строя (носителями такого рода мутации были Маркс и Фрейд, и с тех пор основанный ими дискур¬сивный строй воспроизводится без особых изменений).
*
В заключение этих кратких заметок, занимающих промежуточное положение между эссе и программой исследований, автор хотел бы напомнить, что в его по¬нимании проблема социального разделения языков (если угодно, социолектология) тесно связана с другой темой, которая вроде бы далека от социологии и до сих пор считалась исключительным достоянием теоретиков литературы. Речь идет о том, что ныне называется пись¬мом. В условиях нашего общества с его разделенностью языков письмо становится ценностью, заслужи¬вающей непрестанного обсуждения и теоретической разработки, так как в нем осуществляется производство неразделенного языка. Ныне мы избавились от иллю¬зий и хорошо знаем, что писателю незачем, как об этом ностальгически мечтал Мишле, говорить «языком народа»; незачем приспосабливать письмо к языку боль¬шинства, ибо в обществе отчуждения большинство не универсально, и потому говорить на его языке (так по¬ступает массовая культура, ориентируясь на статисти¬ческое большинство читателей и телезрителей) — значит все-таки говорить на одном из частных языков, пусть даже и на самом массовом. Мы хорошо знаем, что язык не сводится к одной лишь коммуникации, что в речи
533
занят и через нее осуществляется человеческий субъект во всей его полноте. Среди прогрессивных тенденций современности письму принадлежит особое место — не по числу (небольшому) пользующихся им, а по самой его практической сути. Поставив под вопрос отношения субъекта (социального — а какой еще бывает?) с язы¬ком, критикуя устаревшее членение нашего символи¬ческого поля и подвергая суду знак, письмо тем самым предстает как практическое осуществление языковой противо-раздельности. Вероятно, этот образ утопичен — во всяком случае, мифичен, поскольку он смыкается с грезами первых романтиков о непорочном, цельном языке, о lingua adamica *. Но разве история, по пре¬красной метафоре Вико, не движется по спирали? Не следует ли нам вернуться к старым образам (не по¬вторяя их), чтобы дать им новое содержание?
1973, «Une civilisation nouvelle? Hommage a Georges Friedmann».
* Адамов язык (лат.). — Прим. перев.
Война языков.
Перевод С. Н. Зенкина...... . 535
Гуляя однажды в местах, где я вырос, — на Юго-Западе Франции, в тихом краю удалившихся на покой старичков, — я встретил на протяжении нескольких сот метров три различные таблички на воротах усадеб: «Злая собака», «Осторожно, собака!», «Сторожевая собака». Как видно, у тамошних жителей очень острое чувство собственности. Интересно, однако, не это, а то, что во всех трех выражениях содержится одно и то же сообщение: Не входите (если не хотите быть укушен¬ными). Иначе говоря, лингвистика, занимающаяся од¬ними лишь сообщениями, могла бы тут сказать лишь самые элементарные и тривиальные вещи; она далеко не до конца исчерпала бы смысл этих выражений, ибо смысл заключен в их различии: «Злая собака» звучит агрессивно, «Осторожно, собака!» — человеколюбиво, «Сторожевая собака» выглядит как простая конста¬тация факта. Таким образом, в одном и том же сооб¬щении читаются три выбора, три вида личной вовле¬ченности, три образа мыслей или, если угодно, три вида воображаемого, три личины собственности. С по¬мощью языка своей таблички — я буду это называть дискурсом, поскольку языковая система во всех трех случаях одна и та же, — хозяин каждой усадьбы воз¬двигает себе надежное укрытие в виде определенного образа, я бы даже сказал определенной системы соб¬ственности. В первом случае эта система основана на дикой силе (собака злая, и хозяин, разумеется, тоже), во втором — на протекционизме (остерегайтесь собаки, усадьба находится под защитой), в третьем — на за¬конности (собака сторожит частное владение, таково мое законное право). Итак, на уровне простейшего сообщения (Не входите) язык (дискурс) взрывается,
535
дробится, расходится разными путями — происходит разделение языков, недоступное для обычной науки о коммуникации; в дело вступает общество со своими социоэкономическими и невротическими структурами, и оно образует из языка поле брани.
Ясно, что разделение языка возможно благодаря синонимии, позволяющей сказать одно и то же разными способами, а синонимия является неотъемлемой, струк¬турной, как бы даже природной принадлежностью язы¬ка. Однако война в языке отнюдь не «природна» — она возникает там, где различие превращается обществом в конфликт; предполагают даже, что существует изна¬чальный параллелизм между разделением общества на классы, расчленением символического поля, раз¬делением языков и невротическим расщеплением пси¬хики.
Действительно, свой пример я намеренно взял a mi-nimo * — из языка одного и того же класса мелких соб-ственников, в дискурсе которых противопоставлены лишь оттенки отношения к имуществу. На уровне же, так сказать, социального общества язык тем более предстает разделенным на большие части. Приходится, однако, признать три непростых обстоятельства: во-первых, разделение языков не совпадает в точности с разделением классов, между языками разных классов бывают плавные переходы, заимствования, взаимоот-ражения, промежуточные звенья; во-вторых, война языков — это не война их носителей, сталкиваются друг с другом языковые системы, а не индивиды, социолекты, а не идиолекты; в-третьих, разделение языков наме¬чается на видимом коммуникативном фоне — на фоне национального языка. Говоря точнее, в общенацио¬нальном масштабе мы все понимаем друг друга, но коммуникации между нами нет — в лучшем случае лишь либеральное использование языка.
Наиболее простое разделение языков в современных обществах обусловлено их отношением к Власти. Одни языки высказываются, развиваются, получают свои характерные черты в свете (или под сенью) Власти, ее многочисленных государственных, социальных и иде-
* Начиная с самого малого (лат.). Прим. перев.
536
ологических механизмов; я буду называть их энкратическими языками или энкратическими видами дискур-са. Другие же языки вырабатываются, обретаются, вооружаются вне Власти и/или против нее; я буду на-зывать их акратическими языками или акратическими видами дискурса.
Характер этих двух основных форм дискурса не¬одинаков. Энкратический язык нечеток, расплывчат, выглядит как «природный» и потому трудноуловим; это язык массовой культуры (большой прессы, радио, телевидения), а в некотором смысле также и язык быта, расхожих мнений (доксы); сила энкратического языка обусловлена его противоречивостью — он весь одно¬временно и подспудный (его нелегко распознать) и тор¬жествующий (от него некуда деться); можно сказать, что он липкий и всепроникающий.
Напротив того, акратический язык резко обособлен, отделен от доксы (то есть парадоксален) ; присущая ему энергия разрыва порождена его систематичностью, он зиждется на мысли, а не на идеологии. Ближайшими примерами акратического языка могут быть названы сегодня дискурс марксистский, психоаналитический, а также, я бы добавил, и структуралистский — он в меньшей степени акратичен, зато примечателен по сво¬ему статусу.
Но, пожалуй, интереснее всего то, что даже внутри акратической сферы происходят новые разделы, воз-никают свои языковые размежевания и конфликты — критический дискурс дробится на диалекты, кружки, системы. Я бы назвал такие дискурсивные системы Фикциями (термин Ницше); интеллектуалов же, ко¬торые образуют, опять-таки согласно Ницше, наше духовное сословие, можно рассматривать как особую касту, занятую художнической разработкой этих язы¬ковых Фикций (и в самом деле, владение и пользова¬ние формулами, то есть языком, издавна было при¬надлежностью духовенства).
Между дискурсивными системами существуют по¬этому отношения, построенные на силе. Что такое силь-ная система? Это языковая система, способная функ¬ционировать в любых условиях, сохраняя свою энергию вопреки ничтожности реальных носителей языка: си-
537
схемная сила марксистского, психоаналитического или христианского дискурса ни в коей мере не страдает от глупости отдельных марксистов, психоаналитиков или христиан.
Чем же обусловлена эта боевая сила, воля к гос¬подству, присущая дискурсивной системе, Фикции? Со времен расцвета Риторики, которая ныне совершенно чужда миру нашего языка, оружие, применяемое в язы¬ковых боях, еще ни разу не освещалось прикладным анализом. Нам как следует не известны ни физика, ни диалектика, ни стратегия нашей логосферы (назовем ее так) — при том что каждый из нас ежедневно под¬вергается тем или иным видам языкового террора. Можно было бы выделить по меньшей мере три типа дискурсивного оружия.
1. Всякая сильная дискурсивная система есть пред¬ставление (в театральном смысле — show) *, демонст-рация аргументов, приемов защиты и нападения, устой¬чивых формул; своего рода мимодрама, которую субъ¬ект может наполнить своей энергией истерического на¬слаждения.
2. Существуют, несомненно, фигуры системности (как прежде говорили о риторических фигурах) — част-ные формы дискурса, сконструированные для того, что¬бы сообщить социолекту абсолютную плотность, за-мкнуть и оградить систему, решительно изгоняя из нее противника. Когда, например, психоанализ заяв¬ляет, что «отрицание психоанализа есть форма психи¬ческого сопротивления, которая сама подлежит веде¬нию психоанализа», то это одна из фигур системности. Общая задача таких фигур — включить другого в свой дискурс в качестве простого объекта, чтобы тем вернее исключить его из сообщества говорящих на сильном языке.
3. Если же пойти дальше, то возникает вопрос, не является ли уже сама фраза, как практически замкну¬тая синтаксическая структура, боевым оружием, сред¬ством устрашения; во всякой законченной фразе, в ее утвердительной структуре есть нечто угрожающе-им¬перативное. Растерянность субъекта, боязливо пови-
* Зрелище, спектакль (англ.). — Прим. перев.
538
нующегося хозяевам языка, всегда проявляется в не¬полных, слабо очерченных и неясных по сути фразах. Действительно, в своей повседневной, по видимости свободной жизни мы ведь не говорим целыми фразами; а с другой стороны, владение фразой уже недалеко отстоит от власти: быть сильным — значит прежде всего договаривать до конца свои фразы. Даже в грамматике фраза описывается в понятиях власти, иерархии: под¬лежащее, придаточное, дополнение, управление и т. д.
Так что же нам делать в этой всеобщей войне язы¬ков? Говоря «мы», я имею в виду интеллектуалов, пи-сателей, тех, кто работает с дискурсом. Мы, разумеет¬ся, не можем спастись бегством: наша культура и по-литический выбор таковы, что от нас требуется анга¬жированность, причастность к одному из тех отдельных языков, которые вменены нам в обязанность нашим миром, нашей историей. Вместе с тем нам нельзя от¬казаться и от наслаждения неангажированным, не¬отчужденным языком (пусть даже это утопия). При¬ходится поэтому не упускать из виду ни ангажирован¬ность, ни наслаждение, исповедовать плюралистическую философию языка, и эта, если можно так выразиться, внеположность, остающаяся внутри, есть не что иное, как Текст. Текст, идущий на смену произведению, есть процесс производства письма; его потребление в обще¬стве далеко не нейтрально (Текст читают немногие), зато его производство абсолютно свободно, поскольку (вновь ссылаюсь на Ницше) в нем нет почтения к Це¬лостности (Закону) языка.
Действительно, только в письме может быть открыто признан фиктивный характер самых серьезных, даже самых агрессивных видов речи, только в письме они могут рассматриваться с должной театральной ди-станции; я могу, например, пользоваться языком психо¬анализа во всем его богатстве и объеме и в то же время in petto * расценивать его как язык романа.
С другой стороны, только в письме допускается смешение разных видов речи (например, психоанали-тической, марксистской, структуралистской), образуется
* В глубине души, про себя (итал.). — Прим. перев.
539
так называемая гетерологичность знания, языку со¬общается карнавальное измерение.
Наконец, только письмо может развертываться без исходной точки, только оно может расстроить всякую риторическую правильность, всякие законы жанра, всякую самоуверенную системность. Письмо атопично; не отменяя войну языков, но смещая ее, оно предвос¬хищает такую практику чтения и письма, когда пред-метом обращения в них станет не господство, а жела¬ние.
1973, Le Conferenze dell'Associazione Gulturale Italiana.
Гул языка.
Перевод С. Н. Зенкина...... 541
Устная речь необратима — такова ее судьба. Од¬нажды сказанное уже не взять назад, не приращивая к нему нового; «поправить» странным образом значит здесь «прибавить». В своей речи я ничего не могу сте¬реть, зачеркнуть, отменить — я могу только сказать «отменяю, зачеркиваю, исправляю», то есть продолжать говорить дальше. Столь причудливую отмену посред¬ством добавки я буду называть «заиканием» (bredouillement). Невнятно переданное сообщение вдвойне не¬состоятельно: с одной стороны, его трудно понять, но, с другой стороны, при некотором усилии его все же понять можно; оно не находит себе места ни внутри языка, ни вне его — это языковой шум, сходный с чи¬ханием мотора, которое говорит о неполадках в нем; именно такой смысл несет и осечка — звуковой сигнал сбоя, наметившегося в работе машины. Заикание (мо¬тора или человека) — это как бы испуг: я боюсь, что движение остановится.
*
Смерть машины может болезненно ощущаться че¬ловеком, если описывать ее как смерть животного (смотри известный роман Золя). Хотя вообще машина и малосимпатична (ведь в обличье робота она грозит самым страшным — утратой тела), она все же способна породить и один эйфорический мотив — когда она на ходу; машина вызывает страх тем, что работает сама собой, и доставляет наслаждение тем, что работает исправно. И подобно тому как неисправности речи
© U.C.E., 1975
541
дают в итоге особый звуковой сигнал — заикание, так и исправность машины дает о себе знать особой музы¬кой — гулом (bruissement).
*
Гул — это шум исправной работы. Отсюда возникает парадокс: гул знаменует собой почти полное отсутствие шума, шум идеально совершенной и оттого вовсе бес¬шумной машины; такой шум позволяет расслышать само исчезновение шума; неощутимость, неразличимость, легкое подрагивание воспринимаются как знаки обеззвученности.
Оттого машины, производящие гул, приносят бла¬женство. Например, Сад множество раз воображал и описывал эротическую машину — продуманное (при¬думанное) нагромождение тел, органы наслаждения которых тщательно состыкованы друг с другом; когда конвульсивными движениями участников эта машина приходит в действие, она подрагивает и издает приглу¬шенный гул — она работает, и работает исправно. Дру¬гой пример: когда в наши дни в Японии множество людей предается игре в огромном зале с игральными автоматами (их там называют «патинко»), то весь зал наполнен мощным гулом катящихся шариков, и этим гулом обозначается исправный ход коллективной ма¬шины — машины удовольствия (в других отношениях загадочного), доставляемого игрой, точными телодвиже¬ниями. И действительно, оба примера показывают, что в гуле звучит телесная общность; в шуме «работаю¬щего» удовольствия ничей голос не возвышается, не становится ведущим и не выделяется особо, ничей голос не может даже возникнуть; гул — это не что иное, как шум наслаждающегося множества (но отнюдь не массы — масса, напротив, единогласна и громогласна).
*
А бывает ли гул у языка? В виде устной речи язык словно фатально обречен на заикание, в виде письма — на немоту и разделенность знаков; в любом случае все равно остается избыток смысла, который не дает языку
542
вполне осуществить заложенное в нем наслаждение. Но невозможное — не есть немыслимое: гул языка — это его утопия. Что за утопия? — Утопия музыки смысла; это значит, что в своем утопическом состоянии язык раскрепощается, я бы даже сказал, изменяет своей при¬роде вплоть до превращения в беспредельную звуковую ткань, где теряет реальность его семантический меха¬низм; здесь во всем великолепии разворачивается означающее — фоническое, метрическое, мелодическое, и ни единый знак не может, обособившись, вернуть к природе эту чистую пелену наслаждения; а вместе с тем (и здесь главная трудность) смысл не должен быть грубо изгнан, догматически упразднен, одним словом, выхолощен. Благодаря такому беспримерному пере¬вороту, небывалому для нашей рационалистической языковой практики, язык обращается в гул и всецело вверяется означающему, не выходя в то же время за пределы осмысленности: смысл маячит в отдалении нераздельным, непроницаемым и неизреченным миражем, образуя задний план, «фон» звукового пейзажа. Обычно (например, в нашей Поэзии) музыка фонем служит «фоном» для сообщения, здесь же, наоборот, смысл едва проступает сквозь наслаждение, едва виднеется в глубине перспективы. Подобно тому как гул машины есть шум от бесшумности, так и гул языка — это смысл, позволяющий расслышать изъятость смысла, или, что то же самое, это не-смысл, позволяющий услышать где-то вдали звучание смысла, раз и навсегда освобож¬денного от всех видов насилия, которые исходят словно из ящика Пандоры, от знака, порожденного «печальной и дикой историей рода человеческого».
Все это, конечно, только утопия; но нередко утопия служит путеводной звездой для первопроходцев. И дей-ствительно, время от времени то тут, то там предпри¬нимаются своего рода попытки создания гула: таковы некоторые образцы постсерийной музыки (весьма по¬казательно, что музыка эта отводит чрезвычайно боль-шую роль человеческому голосу — она пересоздает голос, стараясь лишить его смысловой природы, но сохранить его звуковую полноту), таковы некоторые опыты в области радиофонии; таковы и последние тексты Пьера Гюйота и Филиппа Соллерса.
543
*
Более того, в своей жизни, в повседневных житей¬ских эпизодах мы тоже можем разведывать подступы к гулу. На днях я вдруг ощутил гул языка в одном из кадров фильма Антониони о Китае: на деревенской улице, прислонившись к стене, дети громко читают вслух, все вместе и не обращая внимания друг на друга, каждый свою книгу. Получался самый настоящий гул, как от исправно работающей машины; смысл был для меня вдвойне непостижим — по незнанию китайского языка и из-за того, что читающие заглушали друг друга; и однако же я, словно в галлюцинации (настоль¬ко ярко воспринимались все нюансы этой сцены), слы¬шал здесь музыку, человеческое дыхание, сосредоточен¬ность, усердие — одним словом, нечто целенаправлен¬ное. Как! Неужели достаточно заговорить всем вместе, чтобы возник гул языка — столь редкостный, проник¬нутый наслаждением эффект, о котором шла речь? Нет, конечно; нужно, чтобы в звучащей сцене присутствовала эротика (в самом широком смысле слова), чтобы в ней ощущался порыв, или открытие чего-то нового, или просто проходила аккомпанементом взволнованность; все это и читалось на лицах китайских ребятишек.
*
Ныне я в чем-то уподобляюсь древним грекам, о которых Гегель писал, что они взволнованно и неустан¬но вслушивались в шелест листвы, в журчание источ¬ников, в шум ветра, одним словом — в трепет Природы, пытаясь различить разлитую в ней мысль. Так и я, вслушиваясь в гул языка, вопрошаю трепещущий в нем смысл — ведь для меня, современного человека, этот язык и составляет Природу.
1975, «Vers une esthetigue sans entraves. (Melanges Mikel Dufrenne)».
Актовая лекция, прочитанная при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс 7 января 1977 года
Лекция.
Перевод Г. К. Косикова........ 545
Прежде всего, конечно, мне следовало бы задаться вопросом о причинах, побудивших Коллеж де Франс принять в свое лоно столь сомнительного субъекта, способного совмещать в себе абсолютно противополож¬ные качества. Ведь если я и сделал университетскую карьеру, то все же не обладаю никакими званиями, открывающими обыкновенно доступ к подобной карьере. И если верно, что в течение долгого времени я стре¬мился вписать свою работу в рамки науки (литератур¬ной, лексикологической и социологической), я все же вынужден признать, что мною созданы одни только эссе, а это — двусмысленный жанр, где противоборствуют письмо и анализ. И если, далее, верно, что я довольно рано связал свои исследования с рождением и разви¬тием семиотики, то верно также и то, что у меня слишком мало оснований представительствовать от ее лица — столь сильным бывало мое стремление пересмотреть само определение этой науки (едва только мне начи¬нало казаться, что оно сложилось окончательно) и опереться на эксцентрические силы нашей современ¬ности: я всегда был ближе к журналу «Тель Кель», нежели к тем многочисленным журналам, которые — во всем мире — доказывают могущество семиологи-ческих исследований.
Итак, очевидно, что в учреждение, где царят наука, знание, строгость и обузданная дисциплиной творческая фантазия, оказался допущен чужеродный субъект. Вот почему — отчасти из осторожности, а отчасти по склон¬ности выходить из интеллектуальных затруднений, задавая встречные вопросы, — я отвлекусь от причин,
© Les editions du Seuil, 1978
545
побудивших Коллеж де Франс пригласить меня (при¬чины эти, на мой взгляд, не вполне ясны), и останов-люсь на тех, которые делают для меня вступление в эти стены не только честью, но и радостью; ведь честь бывает и незаслуженной, радость же — никогда. Ра¬дость для меня — в самой возможности почтить память или непосредственно повстречать здесь всех тех, кто некогда преподавал или ныне преподает в Коллеж де Франс; прежде всего, разумеется, это Мишле, которому я обязан открытием — еще на заре своей интеллектуаль¬ной жизни — привилегированного положения Истории среди наук о человеке; он открыл мне также власть письма — в той мере, в какой знание готово с ним согласоваться; далее, уже ближе к нам, это Жан Барюзи и Поль Валери, чьи лекции мне посчастливилось слушать в юности в этой самой аудитории; затем, еще ближе, Морис Мерло-Понти и Эмиль Бенвенист; что же касается настоящего времени, то это Мишель Фуко, с которым меня связывают узы взаимного расположения, интеллектуальной солидарности и благодарности (да будет мне позволено пренебречь скромностью, повеле¬вающей дружбе умалчивать о подобных чувствах), ибо именно он предложил Совету преподавателей создать эту кафедру и пригласить меня возглавить ее.
Я испытываю и иную радость, более важную, по¬скольку она предполагает большую ответственность, — радость от того, что сегодня я вступаю в сферу, ко¬торую со всей определенностью можно назвать сферой вне-власти. Ибо, коль скоро мне будет позволено сфор¬мулировать собственное понимание того, чем является Коллеж де Франс, я бы сказал, что на фоне всех про¬чих социальных учреждений он является воплощением одной из новейших «хитростей Истории»; всякая по¬честь есть обыкновенно подачка со стороны власти; в данном же случае она является брешью в здании власти, областью неприкосновенного; у преподавателя в Коллеж де Франс лишь одна задача — исследовать и рассказывать; или точнее: вслух переживать грезу собственного исследования, а вовсе не судить, не вы¬бирать, не продвигать, не ставить себя на службу извне направляемому знанию; это огромная, почти незаслу¬женная привилегия во времена, когда преподавание
546
словесности буквально изнемогает под гнетом технокра¬тических требований, с одной стороны, и революционных вожделений студенчества — с другой. И тем не менее преподавание, простое говорение с кафедры, свободное от давления каких-либо институтов, вовсе не является деятельностью, по статусу своему чуждой всякой власти; власть (libido dominandi) таится и здесь, она гнездится в любом дискурсе, даже если он рождается в сфере безвластия. Вот почему чем более свободным является такое преподавание, тем с большей необходимостью возникает вопрос: при каких условиях и каким образом дискурс способен освободиться от любой воли-к-овладению. Именно ответ на этот вопрос, по моему мнению, составляет глубинный смысл той преподавательской деятельности, к которой я приступаю.
*
Итак, сегодня я буду говорить о власти, хотя и косвенно, но постоянно возвращаясь к этой теме. Ныне «простодушные» люди рассуждают о власти так, словно она едина и единственна: с одной стороны, существуют те, кто обладают властью, с другой — те, кто ею не обладают; некогда мы полагали, что власть — это сугубо политический феномен; ныне считаем, что это также фе¬номен идеологический, просачивающийся даже туда, где его невозможно распознать с первого взгляда, — в социальные учреждения, учебные заведения и т. п., но в конечном счете мы все-таки уверены, что власть едина. А что, если она множественна, если властей много, как бесов? «Имя мне — Легион», — могла бы сказать о себе власть: повсюду, со всех сторон, нас окружают всевозможные лидеры, громоздкие или крохотные адми-нистративные аппараты, группы давления и подавления; отовсюду раздаются «ответственные» голоса, берущие на себя ответственность донести до нас самый дискурс власти — дискурс превосходства. И мы начинаем дога¬дываться, что власть гнездится в наитончайших меха¬низмах социального обмена, что ее воплощением явля¬ется не только Государство, классы и группы, но также и мода, расхожие мнения, зрелища, игры, спорт, сред¬ства информации, семейные и частные отношения —
547
власть гнездится везде, даже в недрах того самого порыва к свободе, который жаждет ее искоренения: я называю дискурсом власти любой дискурс, рождающий чувство совершённого проступка и, следовательно, чувство виновности во всех, на кого этот дискурс на¬правлен. Кое-кто ожидает от нас, интеллектуалов, чтобы мы по любому поводу восставали против Власти; однако не на этом поле мы ведем нашу подлинную битву; мы ведем ее против всех разновидностей власти, а это нелегкая битва, ибо, будучи множественной в сфере социального пространства, власть в то же время ока¬зывается вечной в историческом времени: изгнанная, выставленная в дверь, она является к вам в окно; она никогда не гибнет: совершите революцию, истребите власть, и она возродится, вновь расцветет при новом положении вещей. Причина этой живучести и вездесущ¬ности в том, что власть есть паразитарный нарост на самом транссоциальном организме, нарост, связанный с целостной историей человечества, а не только с его политической, исторической историей. Объектом, в кото¬ром от начала времен гнездится власть, является сама языковая деятельность, или, точнее, ее обязательное выражение — язык.
Языковая деятельность подобна законодательной деятельности, а язык является ее кодом. Мы не заме¬чаем власти, таящейся в языке, потому что забываем, что язык — это средство классификации и что всякая классификация есть способ подавления: латинское слово ordo имеет два значения: «порядок» и «угроза». Как показал Якобсон, любой естественный язык определяется не столько тем, что он позволяет говорящему сказать, сколько тем, что он понуждает его сказать. Так, говоря по-французски (я беру лишь первые пришедшие на ум примеры), я вынужден сначала обозначить себя в качестве субъекта и лишь затем назвать совершаемое мною действие, которое таким образом оказывается не более, чем моим атрибутом: получается, что то, что я делаю, есть всего лишь следствие и последствие того, чем я являюсь; равным образом я всегда обязан выби¬рать между женским и мужским родом; средний или общий род находятся для меня под запретом; точно так же, выражая свое отношение к другому, я вынуж-
548
ден пользоваться либо местоимением ты, либо место¬имением вы: в их эмоциональной или социальной ней-трализации мне отказано. Таким образом, в языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить или тем более рассуж¬дать вовсе не значит вступать в коммуникативный акт (как нередко приходится слышать); это значит подчи¬нять себе слушающего: весь язык целиком есть обще¬обязательная форма принуждения.
Я позволю себе привести одно место из Ренана: «Французский язык, дамы и господа, — говорил он в одной из своих лекций, — никогда не станет языком абсурда и уж тем более языком реакционным; я не могу представить себе хоть сколько-нибудь серьезное реак¬ционное движение, орудием которого явился бы фран-цузский язык». Что ж, по-своему Ренан оказался про¬зорлив; он почувствовал, что язык не сводится к по-рождаемому им сообщению, что он способен пережить это сообщение и, нередко, донести до нас грозный рокот чего-то иного, нежели содержание самого сооб¬щения, нечто такое, что как бы накладывается поверх сознательного, рационального голоса субъекта, — власт¬ный, настойчивый, неумолимый голос самой структуры, голос заговорившей родовой категории. Ошибка Ренана имела исторический, а не структурный характер; он полагал, что французский язык, якобы сформированный самим разумом, обязывает к выражению такого поли¬тического разума, который-де по своей сути может быть лишь демократическим. Однако язык, как перформация всякой языковой деятельности, не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто.
Как только язык переходит в акт говорения (пусть даже этот акт свершается в сокровеннейших глубинах субъекта), он немедленно оказывается на службе у власти. В нем с неотвратимостью возникают два полюса: полюс авторитарного утверждения и полюс стадной тяги к повторению. С одной стороны, язык непосредственно утвердителен: отрицать, сомневаться, предполагать, колебаться относительно собственного суждения — все это требует специальных операторов, в свою очередь
549
включенных в игру языковых масок; явление, называ¬емое лингвистами модальностью, — это своего рода при¬весок к языку, привесок, с помощью которого я, словно с помощью челобитной, пытаюсь умилостивить его неумолимую констатирующую власть. С другой сто¬роны, знаки, образующие язык, существуют лишь по¬стольку, поскольку они поддаются распознаванию, иными словами, поскольку они повторяются; знак не-самостоятелен, стаден; в каждом знаке дремлет одно и то же чудовище, имя которому — стереотип: я способен заговорить лишь в том случае, если начинаю подбирать то, что рассеяно в самом языке. И едва только свер¬шается акт говорения, оба полюса соединяются во мне: я становлюсь господином и рабом одновременно; я не довольствуюсь повторением того, что уже было сказано, не устраиваюсь поудобнее в узилище знаков; нет, я говорю, утверждаю нечто — я отметаю все, что сам же и повторяю.
Таким образом, в языке рабство и власть перепле¬тены неразрывно. Если назвать свободой не только способность ускользать из-под любой власти, но также и прежде всего способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Беда в том, что за пределы языка нет выхода: это замкнутое пространство. Выбраться из него можно лишь ценой невозможного — либо через мистическую единичность, описанную Киркегором, определившим жертвоприношение Авраама как беспримерный акт, чуждый всякому, даже внутреннему, слову и направ¬ленный против всеобщности, стадности, моральности языка; либо через ликующее ницшевское amen, подоб¬ное удару, наносимому по раболепству языка, по тому, что Делез называет его покрывалом, сотканным из рефлексов. Однако нам, людям, не являющимся ни рыцарями веры, ни сверхчеловеками, по сути дела, не остается ничего, кроме как плутовать с языком, дура¬чить язык. Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, во всем великолепии воплощающего идею перманентной революции слова, — я, со своей стороны, называю литературой.
550
*
Под литературой я разумею не совокупность и не последовательность тех или иных произведений и даже не определенный вид деятельности или предмет препо¬давания, но сложный граф, образованный следами известного типа практики — практики письма. Я, стало быть, выделяю в ней главным образом текст, или ткань означающих, создающих произведение, ибо текст есть непосредственная явленность языка, и именно изнутри самого себя язык должен быть подорван, изобличен; это должно быть сделано отнюдь не при помощи сооб¬щения, чьим орудием является язык, но посредством игры слов, сценической площадкой для которой он слу¬жит. Это значит, что я с равным правом могу сказать: литература, письмо или текст. Силы свободы, заключен¬ные в литературе, не зависят ни от гражданской лич¬ности, ни от политической ангажированности писателя (который, в конечном счете, есть всего лишь человек среди многих других), ни даже от направленности его произведений, но от той работы по смещению, которую он производит над языком: с этой точки зрения, Селин не менее важен, чем Гюго, а Шатобриан — чем Золя. Здесь я имею в виду ответственность формы; эта ответственность, однако, не может быть оценена при помощи идеологических критериев; вот почему, собст¬венно, науки об идеологии всегда могли так мало ска¬зать о ней. Я хочу назвать здесь три таких силы, обоз¬начив их тремя греческими терминами: Матесис, Миме¬сис, Семиосис.
Литература заключает в себе много разнообразных знаний. В таком романе, как «Робинзон Крузо», содер-жится историческое, географическое, социальное (ко¬лониальное), техническое, ботаническое, антропологи-ческое (Робинзон совершает переход от природы к куль¬туре) знание. Если бы в результате некоего извращения социализма или эксцесса варварства из преподавания потребовалось исключить все предметы, кроме одного, то оставить следовало бы именно литературу, ибо в любом литературном произведении присутствуют все науки разом. В этом смысле можно сказать, что лите¬ратура — каковы бы ни были школы, от лица которых
551
она выступает, — является абсолютно, категорически реалистичной: она и есть реальность, точнее, самый свет реальности. Будучи в данном отношении поистине энци¬клопедичной, литература, однако, вовлекает все эти знания в своего рода круговорот, она не отдает пред¬почтения ни одному из них, ни одно из них не фети¬шизирует. Она отводит им как бы косвенное место, но эта-то косвенность и драгоценна. С одной стороны, она позволяет намекнуть на потенциальные виды знания, еще не предугаданные, не возникшие: литература рабо¬тает как бы в пустотах, существующих в теле науки, она всегда либо отстает, либо опережает последнюю; она подобна Болонскому камню, ночью испускающему свет, поглощаемый днем, и этим своим вторичным све¬чением встречающему каждую новую зарю. Наука груба, жизнь же соткана тонко, и литература так важна для нас именно потому, что позволяет заполнить зазор между ними. С другой стороны, знание, мобилизуемое литературой, ни в коем случае не является ни полным, ни окончательным; литература не заявляет, будто знает нечто, она лишь говорит, что знает кое о чем или — лучше — что она кое-что знает — знает о людях очень и очень много. То, что ей известно о людях, можно было бы обозначить как гигантское языковое месиво, над которым они трудятся и которое трудится над ними самими — тогда, например, когда литература вос¬производит все многообразие человеческих социолектов или когда, отталкиваясь от этого многообразия, которое она ощущает как языковую распрю, литература пы¬тается выработать некий предельный язык, нулевую сте¬пень социолектов. Именно потому, что литература не просто использует язык, но как бы выставляет его на всеобщее обозрение, она вовлекает знание в нескон¬чаемую работу некоего рефлексивного механизма, где знание, с помощью письма, безостановочно размышляет о самом знании, хотя делает это уже не по законам эпистемологического, а по законам драматического дискурса.
Ныне считается хорошим тоном отрицать противо¬поставление наук и словесности в той мере, в какой растущие связи (на основе общих моделей или методов) сближают эти две области и зачастую стирают грани-
552
цы между ними; вполне возможно, что названное про¬тивопоставление и вправду окажется очередным исто-рическим мифом. Однако, с точки зрения принятого здесь словоупотребления, оно все же релевантно; кроме того, оно вовсе не обязательно противопоставляет реаль¬ность и вымысел, объективность и субъективность, Истину и Красоту, но всего лишь две различные инстан¬ции слова. В научном дискурсе, точнее, в научном дискурсе известного типа, знание предстает как выска¬зывание-результат; что же до письма, то здесь знание — это высказывание-процесс. Высказывание-результат (обычный предмет лингвистики) дано нам как продукт отсутствия высказывающегося субъекта. Напротив, высказывание-процесс акцентирует место и энергию самого этого субъекта, иными словами, неуловимость его существа (отнюдь не тождественную отсутствию самого субъекта) и потому нацелено на реальность языка как таковую; оно предполагает, что сама языко¬вая деятельность подобна необъятной туманности — области взаимных прикосновений, влияний, отпечатков, отголосков, движений взад и вперед, соподчинений. Высказывание-процесс заставляет расслышать голос субъекта — настойчивый и в то же время неуловимый, неведомый и вместе с тем узнаваемый благодаря его будоражащей интимности; иллюзорное отношение к словам как к простым орудиям исчезает, они начинают вспыхивать прожекторами, взрываться петардами, сиять трепетными всполохами, взлетать фейерверком, доно¬ситься, как сочные ароматы: письмо превращает зна¬ние в празднество.
Предлагаемая мной парадигма не совпадает с обыч¬ным размежеванием функций; ее цель не в том, чтобы по одну сторону поставить ученых, исследователей, а по другую — писателей, эссеистов; напротив, она предпо¬лагает, что письмо обнаруживается всюду, где слова не утратили своей сочности (в латинском языке слова знание и сочность этимологически родственны). Курнонский говаривал, что у «компонентов готового блюда должен сохраняться тот вкус, который они имели перво¬начально». В области знания для того, чтобы вещи стали тем, чем они являются, чем они были на самом деле, необходим дополнительный ингредиент — острая
553
приправа слов. Этот-то привкус слов и придает знанию его глубину, его плодотворность. Мне, к примеру, из¬вестно, что многие гипотезы Мишле отвергнуты совре¬менной исторической наукой, и все же именно Мишле создал своего рода этнологию Франции; всякий раз, как историк смещает историческое знание (в самом широком смысле слова и независимо от изучаемого объекта), мы обнаруживаем в нем просто-напросто письмо.
Вторая сила литературы — это ее воссоздающая сила. С древнейших времен вплоть до новейших аван-гардистских опытов литература неустанно печется о том, чтобы воссоздать нечто. Что же именно? Да очень просто: реальность. Между тем реальное не поддается воссозданию; и именно потому, что люди во что бы то ни стало стремятся его воссоздать с помощью слов, как раз и существует история литературы. Тот факт, что реальное нельзя воссоздать, что на него можно лишь указать, может быть описан различными способами: либо, вслед за Лаканом, мы определим реальное как воплощение невозможного, как нечто недоступное, ускользающее от любого дискурса; либо, воспользовав¬шись топологической терминологией, констатируем, что между многомерным (реальное) и одномерным (язык) пространствами совпадение исключено. Так вот, именно с этой топологической невозможностью литература и не желает, решительно не желает смириться. Из факта отсутствия параллелизма между реальностью и языком люди не делают надлежащего вывода, и вот этот-то отказ, быть может, столь же древний, как сам язык, как раз и вселяет в человека чувство неуемного бес¬покойства, приводящее к появлению литературы. Можно вообразить себе такую историю литературы, точнее, такую историю продуктов языковой деятельности, ко¬торая предстанет как история языковых ухищрений, зачастую доходящих до исступления, к которым люди прибегали для того, чтобы ослабить, укротить, отринуть или, наоборот, смиренно принять то, что всегда было для них наваждением, — исконную неадекватность языка и реальности. Говоря о знании, я только что утверждал, что литература принципиально реалистична в том от¬ношении, что именно реальное неизменно является
554
объектом ее вожделения; теперь же, не противореча самому себе, ибо употребляю слово в его обиходном значении, я скажу, что литература столь же принци¬пиально ирреалистична, поскольку находит смысл в том, чтобы домогаться невозможного.
Эта функция литературы, являющаяся, быть может, плодом перверсии, но оттого и благодатная, имеет свое имя: это — утопическая функция. Мы здесь вновь по¬падаем в область Истории, ибо именно во второй поло-вине XIX в., в один из самых безотрадных периодов капиталистического бедствия, литература благодаря Малларме обрела (по крайней мере, для нас, францу¬зов) свой адекватный облик: современность, наша сов-ременность, уходящая корнями как раз в ту эпоху, мо¬жет быть определена посредством нового фактора, а именно: в ней начинают возникать языковые утопии. Ни одна «история литературы» (коль скоро таковые вообще еще мыслимы) не сможет считаться точной, если, как и в прошлом, она станет довольствоваться выстраиванием цепочек литературных школ, не замечая того рубежа, который сделал явственным возникновение нового типа пророческого слова — пророчества самого письма. Лозунг Малларме «Изменить язык» переклика¬ется с лозунгом Маркса «Изменить мир»: для всех, кто в свое время последовал или продолжает следовать за Малларме, существует политическое звучание его голоса.
Отсюда — определенная этика литературного языка, подлежащая обоснованию именно потому, что ее пы-таются оспорить. Писателей, интеллектуалов нередко упрекают в том, что они не пишут на языке, которым пользуются «все прочие люди». Но ведь то и хорошо, что в пределах одного и того же естественного языка (каковым является для нас французский) люди распо¬лагают как бы различными наречиями. Будь я зако-нодателем (курьезное предположение по отношению к человеку, являющемуся «ан-архистом» в этимологичес¬ком смысле этого слова), я бы отнюдь не стал навя¬зывать французскому языку единообразия — ни на буржуазной, ни на народной основе, но, напротив, вся¬чески бы поощрял одновременное изучение сразу нес¬кольких французских языков с различными функциями, которым уготовано равноправие. Данте со всей серьез-
555
ностью обсуждает вопрос, на каком языке — латинском или тосканском — ему следует писать «Пир». И он выбирает народный язык вовсе не из политических или полемических соображений, а с точки зрения соответ¬ствия каждого из них своему предмету: он чувствует, что оба языка (как для нас классический и современ¬ный, устный и письменный французские языки) обра¬зуют своего рода сокровищницу, из которой он свобо¬ден черпать в зависимости от истины своего желания. Подобная свобода есть роскошь, которую всякое об¬щество должно было бы предоставлять своим гражда¬нам: языков должно быть столько, сколько существует различных желаний; это — утопическое допущение, коль скоро ни одно общество не готово пока что до¬зволить существование множества желаний. Ни одно общество не готово допустить, чтобы тот или иной язык — каков бы он ни был — не угнетал другого язы¬ка, чтобы субъект грядущего дня — не испытывая ни угрызений совести, ни подавленности — познал радость от обладания сразу двумя языковыми инстанциями; чтобы он мог говорить либо одно, либо другое, подчи¬няясь лишь своим перверсиям, но не Закону.
Утопия, разумеется, не способна защитить от власти; утопия языка оборачивается возникновением языка утопии, а это — язык, подобный любому другому. Мо¬жно сказать, что ни один из писателей, вступивших в единоборство с властью языка, не мог и не может избежать мести с ее стороны — либо в виде посмерт¬ного причисления к официальной культуре, либо в виде прижизненной моды, навязывающей писателю его соб-ственный образ и понуждающий его оправдывать воз¬лагаемые на него надежды. Единственный выход для такого писателя — это постоянное смещение или пос¬тоянное упорствование, или то и другое вместе.
Упорствовать — значит утверждать Сопротивляемость литературы, то есть то начало в ней, которое проти¬вится и превозмогает окружающие ее шаблонизирован¬ные дискурсы — философские, научные, психологические; это значит вести себя так, словно литература не знает ни соперников, ни смерти. Писатель (я разумею не ис¬полнителя той или иной функции и не служителя опре¬деленного искусства, но субъекта известной практики)
556
должен обладать упорством дозорного, находящегося на перекрестке всех прочих дискурсов; по отношению к этим истым дискурсам он оказывается в тривиальном положении (этимологически trivialis — это атрибут публичной женщины, поджидающей на перепутье трех дорог). Одним словом, упорствовать — значит настаивать — вопреки всему и против всего — на силе всякого сдвига и всякого ожидания. И как раз потому, что письму свойственно упорство, оно вовлекается в процесс смещения. Причина в том, что власть завладе¬вает радостным чувством, доставляемым письмом, точно так же, как она поступает со всякой иной радостью: она делает из нее объект манипуляции и из продукта перверсии превращает в продукт стадности, подобно тому, как она завладевает плодами любовных услад, дабы превратить их, себе на потребу, в солдат и акти¬вистов. Итак, выражение сместиться может значить: «переместиться туда, где тебя не ожидают», или еще более резко: «отречься от того, что ты написал» (но не обязательно от того, что ты думал) в том случае, если власть стадного начала принимается использовать и порабощать написанное тобой. Так, Пазолини вынуж¬ден был «отречься» (по его собственному выражению) от трех своих фильмов, составляющих «Трилогию жиз¬ни», поскольку констатировал, что их использует власть (хотя и не выразил сожаления по поводу того, что снял эти фильмы): «Полагаю, — говорит он в одном интервью, опубликованном посмертно, — что до свершения дей¬ствия никогда, ни при каких условиях не следует опа-саться аннексии со стороны власти и ее культуры. Нужно поступать так, словно подобной потенциальной опасности вовсе не существует... Однако я полагаю также, что после следует уметь отдать себе отчет, в какой мере — в том или ином случае — ты был исполь¬зован властью. И вот тогда, как мне кажется, если наша искренность или потребность в выражении стали объек¬том порабощения или манипуляции, надо иметь абсо¬лютное мужество отречься».
Упорствовать и смещаться — оба эти действия в конечном счете связаны с методом, свойственным игре. Вот почему не стоит удивляться, если на недосягаемом горизонте языковой анархии там, где язык пытается
557
ускользнуть от своей собственной власти и от собствен¬ного раболепства, — мы обнаружим нечто похожее на театр. Говоря о недосягаемом горизонте языка, я упо¬мянул двух авторов, Киркегора и Ницше. Однако и тот и другой были пишущими людьми, хотя оба писали как бы на оборотной стороне собственной аутентичности, писали, участвуя в игре, без оглядки ставя на карту само понятие имени собственного; первый делал это за счет нескончаемого множества псевдонимов, к которым он прибегал, второй же, как показал Клоссовский, дошел под конец своей писательской жизни до крайних пре¬делов гистрионизма. Можно сказать, что третья сила литературы, ее собственно семиотическая сила, заклю¬чается не столько в том, чтобы разрушать знаки, сколько в том, чтобы их разыгрывать, вовлекать в работу та¬кого языкового механизма, у которого отказали все стопоры и предохранительные клапаны, насаждать — прямо в сердце раболепного языка — самую настоящую гетеронимию вещей.
*
Так мы оказываемся перед лицом семиологии. Преж¬де всего следует еще раз повторить, что науки (по край-ней мере те, с которыми я более или менее знаком) не вечны: они подобны акциям, которые то поднимаются, то падают на своеобразной Бирже — Бирже Истории; в этом отношении достаточно напомнить хотя бы о судьбе акций Теологии — дискурса, ныне обесцененного, но когда-то считавшегося суверенной наукой, суверен¬ной настолько, что ее ставили вне и выше Семи сво¬бодных искусств. Недолговечность и хрупкость наук, именуемых гуманитарными, проистекает, возможно, из того, что это — науки о непредвиденном (отсюда, в частности, трудности и таксономические проблемы, с которыми сталкивается наука Экономика), в результате чего немедленно видоизменяется сама идея науки: даже психоанализу, этой науке о вожделении — хотя мы обя¬заны ей не меньше, чем Теологии, — суждено в один прекрасный день скончаться, ибо вожделение сильнее, чем любая его интерпретация.
С точки зрения своих операциональных концептов семиология, которую можно канонически определить как
558
науку о знаках, обо всех знаках, вышла из лингвистики. Однако сама лингвистика — в чем-то подобно экономике (и это отнюдь не поверхностное сравнение), — движи¬мая противоречивыми устремлениями, претерпевает ныне раскол: с одной стороны, ее влечет к формальному полю¬су (и на этом пути, подобно эконометрии, она все более и более формализуется); с другой — она проникает во множество таких содержательных областей, которые все дальше отстоят от ее непосредственного предмета; по¬добно тому, как объект экономики сегодня буквально вездесущ (он охватывает политическую, социальную, культурную области), безграничен и объект лингвистики: язык, по предположению Бенвениста, — это воплощенная социальность. Короче, предаваясь либо аскезе, либо чре¬воугодию, изможденная или упитанная, лингвистика в любом случае распадается. Это распадение лингвистики я и называю словом семиология.
Вы, должно быть, обратили внимание, что в ходе своих рассуждений я незаметно перешел от языка к дис-курсу, а затем, без всякого предупреждения, вновь вернулся к языку так, словно дело идет об одном и том же объекте. И действительно, ныне я полагаю, что, с принятой здесь точки зрения, язык и дискурс нераздель¬ны, ибо движутся вдоль одной и той же оси власти. Тем не менее при своем возникновении различение этих понятий, восходящее (в виде пары Язык/Речь) к Соссю¬ру, оказалось чрезвычайно плодотворным; оно дало се¬миологии смелость начать; благодаря этой оппозиции я получал возможность редуцировать дискурс, свести его к грамматическому примеру и тем самым обретал надежду подчинить себе все коммуникативные отношения челове¬ка, подобно Вотану и Логе, которые усмирили Альбериха, превратив его в жабу. Между тем пример — это еще не сам «феномен», а языковой феномен не может вместить¬ся, уложиться в пределы изолированной фразы. Ведь не только фонемы, слова и синтаксические сочетания, коль скоро их нельзя комбинировать совершенно произвольно, подчиняются режиму поднадзорной свободы; все целиком пространство дискурса регламентировано сетью правил, ограничений, предписывающих и карающих норм — тотальных и несколько расплывчатых на риторическом уровне, детальных и скрупулезных на уровне граммати-
559
ческом: язык перетекает в дискурс, дискурс — обратно в язык, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты. Это значит, что разграничение языка и дискурса является промежуточной операцией, от которой в конечном счете надлежит «отречься». И од¬нажды для меня настало время, когда, словно пора¬женный прогрессирующей глухотой, я оказался в состоя¬нии различать лишь одно-единственное звучание — зву¬чание языка и дискурса, слитых воедино. Я подумал тогда, что лингвистика, пожалуй, имеет дело с какой-то гигантской мистификацией, с объектом, чью опрятность и чистоту она, не совсем честным образом, поддерживала за счет того, что вытирала пальцы о голову дискурса, подобно тому, как Тримальхион вытирал их о головы сво¬их рабов. В этом случае семиологии суждено было бы стать работой по собиранию языковых нечистот, от¬бросов лингвистики, непосредственных продуктов гниения языкового сообщения — продуктов, которые суть не что иное, как желания, страхи, гримасы, угрозы, посулы, ласки, мелодии, досады, извинения, наскоки, из которых и складывается язык в действии.
Я понимаю, насколько личным является подобное определение. Я понимаю, о чем оно вынуждает меня умалчивать: в известном смысле и весьма парадоксаль¬ным образом оно заставляет умалчивать обо всей семио¬логии, той, которая ищет себя и уже утверждается как позитивная наука о знаках, развиваясь на страницах журналов, в рамках научных ассоциаций, в университе¬тах и исследовательских центрах. Думаю, однако, что цель учреждения той или иной кафедры в Коллеж де Франс — не столько в том, чтобы освятить определенную дисциплину, сколько в том, чтобы поддержать развитие того или иного индивидуального исследования, интеллек¬туальный поиск той или иной личности. Для меня семио¬логия началась с сугубо эмоционального толчка: мне показалось (это было примерно в 1954 г.), что наука о знаках может способствовать активизации социальной критики и что Сартр, Брехт и Соссюр могли бы встре¬титься при осуществлении подобной задачи. Дело, в сущности, шло о том, чтобы понять (или описать), каким образом общество производит стереотипы (эту вершину искусственности), которые затем оно потребля-
560
ет, принимая их за прирожденные человеку смыслы (эту вершину естественности). Семиология (по крайней мере, моя семиология) родилась из неприятия того смешения нечистой и спокойной совести, которое характерно для обыденной морали и на которое обрушился Брехт, назвав его Большой Привычкой. Язык, над которым уже работает власть, — таков был объект этой первой моей семиологии.
Затем семиология сместилась, приобрела иную окрас¬ку, сохранив, однако, за собой все тот же политический объект — ибо иного не бывает. Это смещение произошло потому, что изменилось само наше интеллектуальное сообщество — пусть даже это произошло за счет водо¬раздела, проложенного в мае 1968 г. С одной стороны, современные научные работы изменили и продолжают изменять представления исследователей о социальном субъекте, равно как и о говорящем субъекте. С другой сто¬роны, оказалось, что, по мере того как множились формы протеста, сама власть, будучи дискурсивным феноменом, начала разделяться, разливаться, просачиваться всюду, словно вода; каждая оппозиционная группа — в свой черед и на свой манер — превращалась в группу давле¬ния, славословя (в свою собственную честь) самый дискурс власти, дискурс универсальный: некая мораль¬ная лихорадка охватила всевозможные политические организмы, и даже тогда, когда выставлялись требо¬вания в пользу наслаждения, делалось это в угрожаю-щем тоне. Мы заметили тогда, что большинство претен¬зий на освобождение (освобождение общества, культуры, искусства, секса) формулируется в терминах дискурса власти: люди кичились тем, что возрождают то, что было раздавлено, но не замечали, что сами давят при этом направо и налево.
Если семиология, о которой идет речь, обратилась в те времена к Тексту, то случилось это потому, что посре¬ди хора всех этих мелких владык Текст представился ей знамением самого безвластия. Текст несет в себе энергию бесконечного убегания от стадного (основанного на взаимном подчинении) слова, хотя последнее и стремится возродиться в Тексте; он отодвигает все дальше и даль¬ше (к какой-то, не имеющей названия, атонической, если можно так выразиться, точке, подальше от топосов
561
политизированной культуры) «требование образовывать понятия, роды, формы, цели, законы... этот мир тождест¬ва», о котором говорит Ницше (этот эффект убегающего миража я попытался описать, когда говорил о литерату¬ре); Текст лишь слегка, ненадолго ослабляет гнет всеобщности, моральности, без-различия (отделить аф¬фикс от корня здесь очень важно), тяготеющий над на¬шим коллективным дискурсом. Именно в Тексте литера¬тура и семиология заключают союз с тем, чтобы взаимно корректировать друг друга. С одной стороны, постоянное обращение к тексту, древнему или современному, систе¬матическое погружение в сферу одной из наиболее слож¬ных семиотических практик — в практику письма (кото¬рая осуществляется на основе уже готовых знаков) — заставляют семиологию работать именно с различиями и удерживают ее от догматизации, от «застывания» — от того, чтобы вообразить себя неким универсальным дискурсом, каковым на самом деле она отнюдь не являет¬ся. Семиотический же взгляд, обращенный на текст, со своей стороны заставляет отвергнуть миф, за который обычно цепляются, желая спасти литературу от власти стадного слова, окружающего, давящего ее со всех сто¬рон, — миф о чистой творческой энергии: знак должен стать объектом рефлексии, более того, удвоенной рефлек¬сии, чтобы его легче было перехитрить.
*
Семиология, о которой я говорю, — это одновременно и негативная и активная семиология. К счастью или нет, но всякого, кто в самом себе пережил дьявольское на¬важдение, именуемое языком, не могут не заворожить его полые формы (что прямо противоположно понятию о пустопорожних формах). Поэтому-то предлагаемая здесь семиология и является негативной или, лучше сказать, (несмотря на некоторую тяжеловесность термина) апофатической; она негативна не потому, что якобы отри¬цает знак, а потому, что отрицает возможность припи¬сывать ему позитивные, твердые, а-исторические, а-телесные, короче, научные характеристики. Этот апофатизм влечет за собой по крайней мере два следствия, непо¬средственно важных для преподавания семиологии.
562
Первое заключается в том, что семиология не может (хотя изначально, поскольку она является языком, опи-сывающим другие языки, все к этому располагало) быть метаязыком. Именно в процессе размышления о знаке она обнаруживает, что всякое отношение внеположности между языками в конечном счете иллюзорно; течение времени подтачивает, умертвляет мою способность уста¬навливать дистанцию, заставляет забыть о ней: я лишен возможности жить вне языка, рассматривать его как свою мишень, но я также лишен возможности жить внутри языка и рассматривать его как свое оружие. Если верно, что субъектом науки является субъект, скрываю¬щий собственное лицо, и что, в сущности, эту его неявленность мы и называем «метаязыком», то в таком случае — именно постольку, поскольку нам приходится рассуждать о знаках с помощью самих знаков, — я вынужден смириться со зрелищем столь поразительного тождества, диковинно¬го страбизма, уподобляющего меня фокуснику в китайском театре теней, который показывает нам собственные руки и в то же время — кролика, утку, волка, чьи силуэты он изображает. И если кое-кто пытается воспользоваться этим положением вещей, отрицая всякое отношение актив¬ной семиологии (то есть той, которая активно практикует письмо) к науке, то этим людям необходимо напомнить, что мы отождествляем метаязык и науку (так, словно метаязык является необходимой предпосылкой науки, а не ее историческим и потому преходящим знаком) в силу известного эпистемологического заблуждения, которое ныне как раз начинает рассеиваться. Возможно, уже пришло время научиться различать металингвистичность, являющуюся всего лишь одним из признаков науки, от научности, критерии которой совсем иные (быть может, замечу мимоходом, собственно научным является лишь стремление разрушить предшествующую науку).
Семиология, конечно, имеет отношение к науке, но сама она не является научной дисциплиной (таково второе следствие ее апофатизма). Что же это за отноше¬ние? Оно служебно: семиология способна помочь неко¬торым наукам, на какое-то время она может стать их попутчицей, предоставить в их распоряжение набор опе¬рациональных понятий, исходя из которых каждая наука сама должна определить специфику своей пред-
563
метной области. Так, наиболее продвинувшаяся часть семиологии (та, что связана с анализом повествователь¬ных текстов) может оказать услугу Истории, этнологии, критике текстов, экзегетике, иконологии (ведь всякое изображение, в известном отношении, есть повествова¬тельный текст). Иными словами, семиология — это не категориальная сетка, в которую можно было бы не¬посредственно уложить реальность, приписав ей универ¬сальную смысловую проницаемость и, следовательно, интеллигибельность; скорее, ее задача в том, чтобы — время от времени, то в одном, то в другом месте — будо¬ражить реальность; она утверждает, что такой будора¬жащий эффект возможен и без всякой сетки; наоборот, именно тогда, когда семиология пытается стать такой сеткой, она теряет всякую будоражащую силу. Отсюда следует, что семиология не способна подменить собой ни одну конкретную науку; мне хотелось бы, чтобы моя семиология не вытесняла ни одной исследовательской дисциплины, но, напротив, помогала им всем, чтобы она вела разговор как бы с переносной кафедры, служила своего рода джокером современного знания, подобно тому как сам знак является джокером всякого дискурса. Такая негативная семиология является в то же время активной семиологией: ее деятельность разворачивается вне пределов смерти. Я хочу сказать, что она не осно¬вывается ни на «семиофизисе» (инертная природность знаков), ни тем более на «семиокластии» (разрушение знаков). Если уж продолжать греческую парадигму, то семиология окажется скорее семиотропией: повернувшись лицом к знаку, она заворожена им, взирает на него и его воспринимает (а при случае и подражает ему) как некое воображаемое зрелище. Семиолог, в сущности, становится артистом (слово, не имеющее здесь ни похваль¬ного, ни отрицательного оттенка, но лишь типологи¬ческий смысл): он играет в знаки (примерно так, как люди устраивают сознательную мистификацию); он не только сам наслаждается их чарами, но и хочет, чтобы их почувствовали и пережили другие. Знак — по крайней мере, знак, предстающий его взору, — всегда дан ему непосредственно, он бросается ему в глаза со всей оче¬видностью, словно вспышка Воображаемого; именно по этой причине семиология (надо ли повторять: семиология
564
в моем понимании) не есть герменевтика: она не столько раскапывает смыслы, сколько зарисовывает реальность, действует более via di porre*, нежели via dl levare**. Ее излюбленные тексты созданы Воображением: это по¬вествования, образы, портреты, разного рода экспрессив¬ные образования, идиолекты, страсти, структуры, облада¬ющие видимостью правдоподобия и в то же время не-достоверностью истины. Я охотно назвал бы «семиоло¬гией» последовательность операций, позволяющих (или сулящих возможность) обращаться со знаком как с расписным полотном или, если угодно, с вымыслом.
Ныне такое наслаждение знаком-вымыслом стало воз¬можным в силу известных, недавно случившихся перемен, затронувших не столько само по себе общество, сколько его культуру: возникла новая ситуация, позволяющая по-новому воспользоваться теми силами, заложенными в литературе, о которых я говорил выше. С одной стороны, со времен Освобождения миф о великом французском писателе, священном носителе высших ценностей, — этот миф стал понемногу изнашиваться, истаивать, умирать вместе со смертью последних могикан межвоенной поры; сейчас на сцену выходит новый тип пишущего индивида — тип, который уже (или еще) не знаешь, как и назвать: писатель? интеллектуал? скриптор? В любом случае прежние категории литературного мастерства отмирают, писатель лишается возможности щеголять этим мастерст¬вом. Далее, с другой стороны, в майском кризисе 1968 г. нагляднейшим образом отразился кризис всей нашей об¬разовательной системы: отныне прежние ценности не передаются новым поколениям, не находятся в обраще¬нии и уже не производят никакого впечатления; литера¬тура десакрализована, социальные институты не в силах оказать ей поддержку и утвердить как имплицитную модель человеческого поведения. Это не означает, что литература оказалась разрушена; это означает лишь то, что она осталась без надзора: этим-то и надо воспользо¬ваться. Литературная семиология окажется не чем иным, как путешествием к совершенно пустынному берегу, где вымерли и ангелы, и драконы, его охранявшие; только
* Путем наложения (ит.). — Прим. перев.
** Путем снятия (ит.). — Прим. перев.
565
там взор, не чуждый перверсии, сможет обратиться к живописным предметам прошлого, чьи означаемые при¬обрели черты умозрительности, устарели: это будет мо¬мент, свидетельствующий о декадансе, и в то же время это будет пророческий момент, момент умиротворяющего апокалипсиса, исторический момент наивысшего на¬слаждения.
Итак, если единственным оправданием моей препо¬давательской деятельности (уже в силу особенностей учебного заведения, где ей предстоит протекать) может послужить лишь преданность слушателей, если сам метод возводится здесь в ранг системы, то, значит, этот метод ни в коем случае не может быть эвристическим, имею¬щим целью расшифровку и получение известных резуль¬татов. Мой метод может быть направлен лишь на сам язык в той мере, в какой он стремится перехитрить любой дискурс, тяготеющий к затвердению: вот почему справед¬ливо будет сказать, что подобный метод также есть средоточие Вымысла — предположение, выдвигавшееся уже Малларме, когда он собирался приступить к дис¬сертации по лингвистике: «Любой метод — это своего рода вымысел; язык представился ему как орудие вы¬мысла: он воспользуется методом языка — языка, раз¬мышляющего над самим собой». Мне бы хотелось в тече¬ние всего времени, отпущенного мне судьбой для препо¬давания в этих стенах, ежегодно обновлять сам способ чтения лекций или ведения семинара, иными словами, иметь возможность «держать речь» перед студентами и вместе с тем ничего им не навязывать: такой дискурс оказался бы своего рода методической ставкой, quaestio, проблемой, выдвинутой для обсуждения. Ведь в препо¬давательской деятельности, в конечном счете, функцию подавления выполняют не те знания или культура, ко¬торые несет с собой подобная деятельность, но те дис¬курсивные формы, посредством которых эти знания сооб¬щаются. Поскольку же, как было сказано, мое препода¬вание имеет объектом дискурс, взятый с точки зрения фатальности заключенной в нем власти, сам метод может быть направлен лишь на то, чтобы обезвредить эту власть, посеять в ней зерно раздора или, по крайней мере, ослабить ее давление. И как писатель, и как препо¬даватель я все более убеждаюсь, что главной операцией
566
этого разобщающего метода является либо фрагмента¬ция (если автор пишет), либо отступление (если он изла¬гает свои мысли устно), иначе говоря, экскурс (выраже¬ние, удачное в своей двусмысленности). Мне бы хотелось, чтобы слово преподавателя и его уяснение, неразрывно сплетясь, стали подобны игре ребенка, резвящегося подле матери, то убегающего, то вновь возвращающегося к ней с каким-нибудь камешком, шнурочком и тем самым очерчивающего вокруг некоего центра спокойствия игро¬вую территорию, внутри которой сам камешек или шну¬рочек значат неизмеримо меньше, нежели то рвение, с каким они приносятся в дар.
Ребенок, ведущий себя подобным образом, воплощает всего лишь хлопотливое движение наших желаний, воспроизводимое им до бесконечности. Я искренне убеж¬ден, что в основу такого рода преподавания должен быть положен некий фантазм, варьируемый из года в год. Понимаю, что эта мысль способна шокировать: возмож¬но ли в стенах учебного заведения — каким бы свобод¬ным оно ни было — говорить о фантазматическом препо¬давании? И тем не менее, даже обратившись к самой достоверной из гуманитарных наук, к Истории, придется признать, что она теснейшим образом связана именно с фантазмом. Это понял уже Мишле: История в конечном счете есть не что иное, как история объекта, по сути своей являющегося воплощением фантазматического на¬чала; это — история человеческого тела; и как раз пото¬му, что Мишле исходил из такого фантазма, связанного в его представлении с необходимостью патетического воскрешения человеческих тел, живших в прошлом, ему удалось создать Историю как всеобъемлющую антрополо¬гию. А это значит, что наука способна родиться и из фантазма. Именно на фантазме — эксплицитном или имплицитном — должен сосредоточиться преподаватель, решая, какова будет цель его интеллектуального странст¬вия в новом учебном году; тем самым он всякий раз будет избегать того места, где его уже поджидают, а это место, как известно, есть не что иное, как место Отца — мертвого, по определению; ведь фантазмы могут быть достоянием одного только сына, только сын пребывает в живых.
567
Недавно мне случилось перечитать роман Томаса Манна «Волшебная гора». В этой книге рассказывается о болезни, хорошо мне знакомой, — о туберкулезе; чте¬ние позволило соединиться в моем сознании трем времен¬ным моментам — моменту сюжетного действия, которое происходит незадолго до войны 1914 г., моменту моей собственной болезни — примерно в 1942 г., и, наконец, моменту сегодняшнему, когда это заболевание, побеж¬денное средствами химиотерапии, выглядит совершенно иначе, чем прежде. Туберкулез, пережитый мною, — это примерно тот же самый туберкулез, что и в «Волшебной горе»: два первых момента слились между собой и в одинаковой мере отдалились от третьего — моего настоя¬щего. И вот тогда я с изумлением заметил (ведь изумлять могут лишь очевидности), что мое собственное тело исторично. В известном отношении мое тело — это современник Ганса Касторпа, героя «Волшебной горы»; моему — еще не родившемуся — телу уже было двадцать лет в 1907 году — году, когда Ганс поднялся «наверх» и там поселился; оказывается, мое тело намного старше меня самого — так, словно мы навечно остаемся в том возрасте, когда жизненный случай заставил нас пере¬жить наши первые социальные страхи. Вот почему, если я хочу жить, то должен забыть об историчности собст¬венного тела, погрузиться в иллюзию, будто я — совре¬менник сегодняшних молодых тел, а не своего собствен¬ного, вчерашнего тела. Иными словами, я все время должен как бы воскресать, становиться моложе собст¬венного возраста. В пятьдесят лет Мишле начал свою vita nuova: новые занятия, новая любовь. И хотя я стар¬ше Мишле (нетрудно догадаться, что это сопоставление чисто эмоционального свойства), ныне — в этих новых стенах, пользуясь новым гостеприимством, — я также вступаю в свою vita nuova. Вот почему я должен усту-пить силе, движущей всякой живой жизнью, — силе забвения. На нашем пути бывает период, когда мы учим других тому, что знаем сами; затем, однако, приходит пора, когда учишь тому, чего и сам не знаешь: это называется исследовательской деятельностью. Ныне, быть может, бьет срок нового опыта — опыта, повеле-
568
вающего разучиваться, когда, по непредсказуемой воле забвения, начинают перемешиваться осадочные породы знаний, культур, верований, сквозь которые нам довелось пропутешествовать. За подобным опытом издавна закре¬пилось славное, хотя и несколько старомодное имя, ко¬торое я решусь здесь употребить на стыке его этимоло¬гических значений, — Sapientia: никакой власти, немного знания, толика мудрости и как можно больше ароматной сочности.
1977.
Р. Барт. 1962 г. В редакции журнала «Экспресс».
Р. Барт. 1971 г.
Комментарии.
Составил Г. К. Носиков . 574
Мифологии (Mythologies). — Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Mythologies. P.: Seuil, 1957. Публикуется впервые.
I. Мифологии (Mythologies)
Большая часть «мифологий» под общим названием «Petites my¬thologies du mois» первоначально была опубликована на страницах периодической прессы, главным образом в газете «Lettres nouvelles» (с сентября 1954 по май 1956 г.). Всего в книге 53 «мифологии»; в настоящее издание включено 7 из них.
Литература и Мину Друэ (La Litterature selon Minou Drouet). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1956, январь.
с. 48. Мину Друз (род. в 1947). — Поэтесса-вундеркинд, автор сборников «Мой друг дерево» (1956), «Стихотворения» (1956) и др. Подлинность этого авторства вызывала сомнения, что и привело к появлению дела Мину Друэ (см. P i r i n a u d A. L'affaire Minou Drouet. P.: Jilliard, 1956).
...старика Доминичи... — Имеется в виду некий Гастон Доминичи, приговоренный в 1955 г. к смертной казни за убийство. Юриди¬ческая «мифологема», жертвой которой он стал, описана Бартом в «мифологии» под названием «Доминичи, или Триумф Литературы».
с. 51. ...фантазисты, интимисты... — Речь идет о поэтах, груп¬пировавшихся начиная с 1909 г. вокруг журнала «Диван» и пытавшихся сочетать классическую «ясность» стиха, доведенную до виртуозности, с интимно-лирическими, доверительными инто¬нациями.
с. 54. ...поэтического словаря... — Намек на комедию Ж.-Б. Мольера (1622—1673) «Смешные жеманницы» (1660), где высмеивается вы¬чурный язык прециозной литературы (героини называют кресла «удоб¬ствами для собеседования» и т. п.).
с. 55. ...сочинение, получившее Гонкуровскую премию 1955 г. — Имеется в виду роман французского писателя Роже Икора (род. в 1912 г.) «Смешанные воды» (1955), написанный в традициях «семей¬ного романа».
Мозг Эйнштейна (Le cerveau d'Einstein). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1955, июнь.
574
с. 58. ...дегтярной настойки Беркли. — Английский философ Д. Берк¬ли (1685—1753) приписывал дегтярной настойке универсальное целеб¬ное действие (см. его трактат «Сейрис, или Цепь философских размыш¬лений и исследований; касающихся достоинств дегтярной настойки и разных других предметов...» (1744). — В кн.: Беркли Дж. Сочинения. М.: Мысль, 1978, с. 465—508); ...кислород Шеллинга — см. рассуж¬дения Ф. Шеллинга о кислороде как о «жизненном воздухе» в кн.: Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в двух томах, т. I. М.: Мысль, 1987, с. 136 и далее.
Бедняк и пролетарий (Le Pauvre et le Proletaire). — Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1954, ноябрь.
с. 59. ...в фонд аббата Пьера... — Речь идет о Международной премии Мира, полученной Ч. С. Чаплиной (1889—1977) в 1954 г.; часть этой премии Чаплин передал в благотворительную организацию (занимавшуюся устройством ночлега для бездомных) «Еммаус», во главе которой стоял священник Анри Груэ (род. в 1912), принявший в 1942 г. имя «аббата Пьера».
с. 60. Гиньоль — главный персонаж французского кукольного театра; тип русского Петрушки. i
Фото-шоки (Photos-Chocs). — Впервые в газете «Lettres nouvel¬les», 1955, июль.
Романы и дети (Romans et Enfants).
— Впервые в газете «Lett¬res nouvelles», 1955, январь.
с. 66. ...подобно расиновскому богу... — аллюзия на библейское определение бога как «бога сокровенного» (Исайя, 43, 15), которое французский философ Люсьен Гольдман вынес в заглавие своей книги, посвященной «трагическому видению мира» у Расина и у Паскаля (см. Goldmann L. Le Dieu cache. Etudes sur la vision tragique dans les «Pensees» de Pascal et dans le theatre de Racine. P.: Gallimard, 1955).
Марсиане (Martiens).
— Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1954, ноябрь.
Затерянный континент (Continent perdu).
— Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1956, февраль.
с. 71. ...в Бандунге (Индонезия) в апреле 1955 г. проходила конференция 29 стран Азии и Африки, сплотившая бывшие колонии в борьбе за равноправное место в мировом сообществе и выдвинув¬шая пять принципов мирного сосуществования (панча шила).
II. Миф сегодня (Le Mythe, aujourd'hui)
с. 72. ...миф — это слово, высказывание. ...миф — это коммуникатив¬ная система... — Лингвист, несомненно, обратит внимание на то, что выражения «высказывание» («речь», «дискурс»), с одной стороны, и «коммуникативная система» («язык», «код»), с другой — Барт употреб-
575
ляет как синонимические, что противоречит соссюровской тради¬ции, где эти понятия принципиально разграничиваются. Это объясняет¬ся тем, что в пору написания «Мифологий» Барт еще не вполне овла¬дел терминологическим аппаратом современной лингвистики.
с. 78. ...разлука с матерью у Бодлера. — Мать Бодлера, через несколько лет после рождения ребенка вторично вышедшая замуж, решила удалить сына из дома и отдала его в интернат, где он провел детские годы. Эта душевная травма оказала решающее влияние как на судьбу Бодлера, так и на его творчество.
Название кражи у Жене. — Жан Жене (1910—1986) — французский писатель, в отрочестве занимавшийся воровством и неодно¬кратно заключавшийся в различные исправительные заведения. Жизнен¬ный опыт Жене нашел отражение в таких его произведениях, как «Богоматерь цветов» (1942), «Чудо Розы» (1946), «Дневник вора» (1950). В работе «Святой Жене, комедиант и мученик» (1952) Ж.-П. Сартр дал анализ творчества Жене с позиций экзистенциального психоанализа.
...В мифе мы обнаруживаем ту же трехэлементную схему. — Положение Барта о «мифе» как о вторичной семиологической системе вытекает из учения датского лингвиста Луи Ельмслева (1899—1965) о коннотативных семиотиках (см.: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. — В кн.: «Новое в лингвистике», вып. I. М.: ИЛ, 1960, с. 368—379).
с. 92. ...выбор между физисом и антифизисом. —«Физис» (греч.) — природа. Здесь, как и в других работах, Барт выступает против воз¬зрений так называемого «наивного реализма», согласно которым «реа¬лизм» в искусстве состоит в «подражании природе», понимаемом как тщательное воспроизведение внешнего облика предметов, то есть как создание их изобразительных копий. Такая копия-артефакт (псевдо-физис, мнимая природа, по Барту) не пробуждает у воспринимающего активно-познавательного отношения к действительности, а лишь стре¬мится поразить его чисто техническим мастерством, с которым изго¬товлен фальсификат. Эта иллюзионистская теория искусства была едко высмеяна еще Гегелем, отмечавшим, что «искусство, если оно не идет дальше формальной цели одного лишь подражания, дает вместо подлинной жизни лишь ее оболочку». Поэтому в подобном «подра¬жании природе» нет «ни свободного творчества природы, ни худо¬жественного произведения, ничего, кроме фокуса». Более того, «произ¬ведения архитектуры, которая ведь тоже является художественным творчеством, а также и поэтические произведения, поскольку они не ограничиваются простым описанием, нельзя назвать подражаниями природе» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. I. М.: Искусство, 1968, с. 48, 49, 51; см. также Гуковский Г. А. Изучение литературного про¬изведения в школе. М. — Л.: Просвещение, 1966). Что касается Барта (следующего здесь за Брехтом), то, с его точки зрения, искусству следует отнюдь не усыплять сознание аудитории, завораживая ее об¬манчивой видимостью физической реальности (псевдофизисом), а на-оборот, пробуждать это сознание: «в наше время..., когда ставкой является освобождение человека от отчуждения, искусство должно быть антифизисом. ...в отчужденном обществе искусство должно быть критическим, ему надлежит разрушать любую иллюзию, даже иллю-
576
зию «Природы»...» (Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 88).
с. 101. ...поэтический знак пытается выявить весь потенциал озна¬чаемого. — Подробнее см.: Барт Р. Нулевая степень письма. — В кн.: «Семиотика». М.: Радуга, 1983, с. 326—333.
с. 103. ...кое-кто зашел так далеко, что потребовал... уничтожить дискурс... — Имеются в виду сюрреалисты. См.; Бретон А. Манифест сюрреализма. — В кн.: «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века». М.: Прогресс, 1986, с. 40—72; критический анализ теории и практики сюрреализма см.: Барт Р. Нулевая степень письма, с. 342.
с. 107. ...все те, кто не принадлежит к классу буржуазии, вынуж¬дены брать взаймы у нее и далее. — Парафраз известного положения К. Маркса и Ф. Энгельса: «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями» (Маркс К. и Эн¬гельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеа-листического воззрений: (Новая публикация I гл. «Немецкой идеоло¬гии»). М.: Политиздат, 1966, с. 59).
с. 122. Жерар Дюприе, ставший героем громкого судебного про¬цесса, фигурирует в одной из «мифологий» Барта («Процесс Дю¬прие»).
с. 128. Мифолога нельзя даже уподобить Моисею... — Моисей, вы¬ведший свой народ из Египта в Палестину, умер на горе Нево, откуда ему было дано лишь взглянуть на Землю Обетованную (Второзаконие, 34, 1—5).
с. 129. ...такую, например, как язык в трактовке Сталина. — Ср.: «Итак: а) язык, как средство общения, всегда был и остается единым для общества и общим для его членов языком; ...в) формула о «клас¬совости» языка есть ошибочная, немарксистская формула» (Ста¬лин И. Относительно марксизма в языкознании. — «Правда», 20 июня 1950 г., № 171, с. 3).
Литература и метаязык (Litterature et meta-langage).
— Впервые в журнале «Phantomas» (Брюссель), 1959, январь, № 13. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 106—107. Публикуется впервые.
с. 132 ...«спокойная совесть» литературы... — Выражение «спо¬койная совесть» (la bonne conscience), или «чистая совесть», употреб¬ляется в философии для обозначения самообмана, когда человек либо скрывает от самого себя неприятную истину, либо принимает за исти¬ну приятное заблуждение и тем самым оказывается жертвой собствен¬ной бессознательной лжи («Существует ложь, вошедшая в нашу плоть и кровь: ее называют „чистой совестью". — Ницшe Ф. Ценность европейской культуры. М.: Изд-во книгопродавца М. В. Клюкина, 1912, с. 24). Таким образом, понятие «чистой совести» имеет в виду субъективное переживание личностью самообмана. Тот же самообман, проанализированный с точки зрения объективных механизмов его функционирования, получает название «нечистой совести» (la mauvaise conscience). Подробный разбор феномена «чистой» и «нечистой» совести см. в кн.: Sartre J-P. L'Etre et le Neant. P.: Gallimard, 1943,
577
p. 85—111. Будучи рассмотрен не в индивидуально-психологическом, а в социологическом плане, этот феномен соответствует марксистскому понятию «идеология» («ложное сознание»). У К. Маркса и Ф. Энгель¬са под идеологией понимается совокупность взглядов той или иной социальной группы (политические воззрения, мораль, право и т. п.), преломляющих объективную действительность с позиций интересов этой группы; идеология тем самым оказывается коллективной «нечистой совестью», отвечающей бессознательному стремлению группы создать иллюзорный образ действительности, скрыть от себя и от других подлинные мотивы собственного поведения. Ср.: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные побудительные при¬чины, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными... Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажу¬щихся побудительных силах». — Маркс К. и Энгельс Ф. Избран¬ные произведения, т. 2, М., 1955, с. 477).
...здесь-бытие (фр. etre-la, нем. Dasein) — философский термин, обозначающий исходную человеческую реальность, обладаю¬щую приоритетом по отношению ко всякой рефлексии о ней.
«белое письмо» — выражение, образованное Бартом по ана¬логии с театральным термином «белый голос», обозначающим голос, лишенный обертонов, окраски.
...«что такое литература»... — Аллюзия на одноименный сборник эссе (1947) Ж.-П. Сартра.
Писатели и пишущие (Ecrivains et ecrivants).
— Впервые в журнале «Arguments», 1960, № 20. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 147—154. Публи¬куется впервые.
с. 135. ...литература всегда нереалистична. — Барт имеет в виду теорию «наивного реализма»; см. коммент. к с. 92.
с. 136. ...проект — термин экзистенциалистской философии, обозна¬чающий предвосхищение индивидом будущего, проецирование себя в него посредством целеполагающей деятельности и актов свободного выбора, в результате чего человек предстает не как заданная приро¬дой и социальными обстоятельствами неизменная «сущность», а как непрестанно «делающее себя» «существование». Понятие «проект», таким образом, шире и глубже, нежели понятие «сознательный замысел».
...нейтрализовать различие между истиной и ложью... — Утверждая относительность (зависимость от изменчивого человеческого «мнения», доксы) таких понятий как истина и ложь, добро и зло, красота и безобразие и т. п. (ср. изречение Протагора «Человек есть мера всех вещей»), греческие софисты подменяли понятие «правды», «знания» (episteme) о вещах понятием «правдоподобия» (eikos). Прав¬доподобные же высказывания, по определению, не поддаются проверке на истинность или ложность.
...ангажированность — букв. «вовлеченность». Термин, вве¬денный в философский и общественный обиход Ж.-П. Сартром. По¬скольку человек, по Сартру, непрерывно «строит» себя посредством
578
бесконечной последовательности актов нравственно-практического вы¬бора, он тем самым в каждый момент существования определяется по отношению к окружающим его обстоятельствам, оказывается в той или иной «ситуации», занимает ту или иную «позицию»; в этом смысле даже сознательное невмешательство в события своего времени представляет собой форму ангажированности: «Я считаю Флобера и Гонкуров ответственными за репрессии, которые последовали за Комму¬ной, потому что они не написали ни строки, чтобы помешать им» (Sartre J.-P. Situations II. P.: Gallimard, 1948, p. 13). Таким обра¬зом, ангажированность, по Сартру, — это неизбежная вовлеченность личности в поток истории, по отношению к которой ни один человек в принципе не способен занять позицию стороннего наблюдателя. Барт, однако, употребляет это выражение в более привычном смысле, имея в виду сознательно выбираемую писателем общественную позицию.
Мэтр Жак — персонаж комедии Ж.-Б. Мольера (1622— 1673) «Скупой» (1668), слуга Гарпагона.
с. 137. ...а технические приемы — как искусство. — Барт играет на двух значениях слова «искусство» — современном (искусство как «осо¬бый вид духовной деятельности») и классическом (искусство как «ис¬кусность», «умение», «мастерство»).
с. 141. ...отдаленный наследник Проклятого. — «Проклятыми» П. Верлен назвал ряд современных ему поэтов (Тристан Корбьер, Артюр Рембо, Стефан Малларме и др.), не нашедших понимания в обществе или отвергнутых им.
...функция..., которую Кл. Леви-Стросс приписывает Кол¬дуну. — См. статью Кл. Леви-Стросса «Колдун и его магия» в кн.: Леви-Строс Кл. Структурная антропология. М.: Наука', 1983, с. 147—164.
О Расине (Sur Racine).
— Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Sur Racine. P.: Seuil, 1963. Публикуется впервые.
с. 180. ...нечистой совести... — См. коммент. к с. 132.
с. 188. ...в изначальном смысле слова перипетией... — Перипетия (перелом) есть «перемена делаемого в свою противоположность». — Аристотель. Поэтика, 1452а 22.
с. 205. ...«свинг» — манера исполнения джазовой музыки, придаю¬щая мелодии живость, ритмическую гибкость; была распространена в 40—50-е гг.
с. 207. ...«мариводаж» — рафинированный, прециозный стиль, полу¬чивший название по имени французского писателя Пьера де Мариво (1688—1763).
с. 209. ...сражением при Уг. — Имеется в виду морская битва (1692) между французским флотом и соединенными англо-голландскими, силами в заливе Сены, неподалеку от местечка Сен-Ва-ла-Уг, где фран¬цузы потерпели поражение.
с. 214. ...в своей книге о Рабле. — Речь идет о монографии Люсьена Февра «Проблема неверия в XVI веке. Религия Рабле» (1947).
579
...сократический демон. — Демон — низшее божество в гре¬ческой мифологии. В данном случае — намек на «внутренний голос» Сократа, который он называл своим «демоном» (см.: Платон. Апо¬логия Сократа, 31d).
с. 216. ...аналогично месту события в историзирующей истории. — Речь идет о методологии истории, разрабатывавшейся в конце XIX — начале XX в. представителями «баденской школы» (Вильгельм Вин¬дельбанд, 1848—1915; Генрих Риккерт, 1863—1936) и оказавшей значительное влияние на позднейшую западную историографию. Ис¬ходя из того факта, что явления природы многократно повторяются и поддаются воспроизведению в эксперименте, тогда как культурно-исто¬рические события однократны, уникальны и экспериментально не вос¬производимы, Виндельбанд и Риккерт попытались провести соответ¬ствующую границу между «науками о природе» и «науками о куль¬туре» («Одни из них суть науки о законах, другие — науки о событиях; первые учат тому, что всегда имеет место, последние — тому, что однажды было». —Виндельбанд В. Прелюдии. СПб., 1904, с. 320). Привилегируя неповторимость исторических событий, баденцы тем самым отказывали историческим (гуманитарным) наукам в праве на теоретические обобщения, отводя им описательную, «идеографическую» роль.
с. 217. ...истории с сонетами. — Во время борьбы вокруг «Федры» (1677) сторонники и противники Расина обменивались пародийными и насмешливыми сонетами, колкость которых выходила за рамки чисто литературной полемики, задевая личное достоинство участвовавших в ней лиц.
с. 222. ...тулузские монахини (Filles de l'Enfance)... — Имеется в виду конгрегация женских монастырей в Тулузе, находившихся под влиянием янсенизма; конгрегация была создана в 1662 г. и упразднена по наущению иезуитов в 1686 г.
с. 226. Я птичка; у меня есть крылья... Я мышка; слава грызунам! — Строки из басни Жана Лафонтена (1621 — 1695) «Летучая мышь и две ласки» (Басни, II, V).
Литература сегодня (La litterature, aujourd'hui). —Впервые в журнале «Tel Quel», 1961, № 7. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 155—166. Публикуется впервые.
Текст представляет собой ответ на анкету «Литература сегодня», открытую журналом «Тель Кель» осенью 1961 г. (№ 7) и печатав¬шуюся вплоть до лета 1963 г. (№ 14). Первым было предложено выступить Барту, чьи теоретические взгляды оказали значительное влияние на редакцию журнала и на его идейную эволюцию.
Журнал «Тель Кель» (выходивший с 1960 по 1983 г. под руковод¬ством писателя Филиппа Соллерса) возник как орган одноименной левой литературной и литературно-теоретической группы (Жан Рикарду, Жан-Пьер Фай, Жерар Женетт, Марселен Плейне, Юлия Кристева и др.). В первый период своего существования журнал выступал главным образом против так называемого «традиционалист¬ского романа», исходящего из конформистского приятия современной
580
буржуазной действительности. Между тем, по мнению «Тель Кель», эта действительность (во всех своих аспектах) должна стать объектом радикальной критической рефлексии и столь же радикального преодо¬ления. Именно по этой причине идеи Барта (как автора «Нулевой сте¬пени письма» и «Мифологий») с его принципиальной установкой на демистификацию буржуазной культуры оказались созвучны умонастрое¬ниям, царившим в редакции «Тель Кель». В начале 60-х гг. журнал возлагал серьезные надежды на авангардистскую практику «нового ро¬мана» (Ален Роб-Грийе, Мишель Бютор и др.). Вскоре, однако, стал очевидным тот факт, что французский авангард («новый роман», «театр абсурда») критикует наличную действительность как бы изнутри, не порывая с существующими культурными ценностями; остро подмечая болезни общества, он в сущности способствует их излечению, «очи¬щению от скверны», тем самым выполняя катартическую и компенсатор¬ную функции; по выражению Барта, такой «авангард» способен лишь на «эстетическую» и «этическую», но отнюдь не на «политическую» критику буржуазной идеологии (см.: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 81).
Разрыв с «новым романом» (в 1964 г.) ознаменовал переход группы «Тель Кель» от авангардизма к левому радикализму, открыто ориенти¬рующемуся на достижения современных гуманитарных наук: именно гуманитарные дисциплины (структурная антропология, семиотика и т. п.), показывающие, как «сделана» культура, могут явиться, по мнению участников группы, вернейшим инструментом демистификации идеологических основ буржуазного мира. Эта «сциентистская» пере¬ориентация «Тель Кель» опять-таки осуществилась не без прямого влияния Барта (см.: Barthes R. L'aventure semiologique. P.: Seuil, 1985, p. 12).
Впрочем, как в биографии самого Барта, так и в «биографии» «Тель Кель» сциентистский, структуралистский период оказался недол¬гим. Неудовлетворенная описательными установками классического структурализма, стремясь понять не только то, как «сделана» идеология, но и то, как она «порождается», группа стала прямо апеллировать к учению К. Маркса, раскрывшего социально-экономические корни вся¬кого «ложного сознания». «Постструктуралистская» программа «Тель Кель» была объявлена весной 1967 г. (№ 29), что, впрочем, не спасло группу от раскола: в 1968 г. из нее вышел писатель и критик Жан-Пьер Фай (род. в 1925), создавший левый «коллектив», принявший название «Шанж» (см: Manifestation du collectif «Change». — In: Ecrits sur l'art et manifestes des ecrivains francais. M.: Прогресс, 1981).
Просуществовав 23 года, группа «Тель Кель» оказала значитель¬ное влияние на движение левых интеллектуалов во Франции.
с. 235. ...Гольдман... — В работе «Бог сокровенный» (см. коммент. к с. 66) Л. Гольдман попытался объяснить расиновские «трагедии отказа от мира» («Федра» и др.) как прямое выражение идеологии «правого крыла» в янсенизме.
с. 236. Вы писали... — См.: Барт Р. Нулевая степень письма. — В кн.: Семиотика. М.: Прогресс, 1983, с. 349.
с. 241. «Ревность» (1957) — роман А. Роб-Грийе; «Изменение» (1957) — роман М. Бютора.
с. 242. ...примитивный миф о реализме... — См. коммент. к с. 92.
581
Воображение знака (L'imagination du signe).
— Впервые в жур¬нале «Arguments», 1963, № 27—28. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 206—212. Публикуется впервые.
с. 250. ...исследования русской формальной школы... — Проблемам синтагматического развертывания сюжета посвящены, в частности, многие работы В. Б. Шкловского (1893—1984), например: «Связь прие¬мов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1919), «Развертыва¬ние сюжета. Как сделан Дон-Кихот» (1921) и Б. В. Томашевского (1890—1957): «Теория прозы. Поэтика» (1925); В. Я. Пропп (1895— 1970) в «Морфологии сказки» (1928; 2-е изд. — 1969) заложил основы структурной нарратологии.
«Сон Сципиона» входит в 6-ю книгу сочинения Цицерона «О государстве».
с. 252. ...социологию видений. — Имеется в виду социологическая модель Л. Гольдмана. См., в частности: Гольдман Л. Структурно-генетический метод в истории литературы. — В кн.: Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX—XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987.
Структурализм как деятельность (L'activite structuraliste).
— Впервые в газете «Lettres nouvelles», 1963, № 32, февраль. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 213—220. Публикуется впервые.
Две критики (Les deux critiques).
— Впервые в журнале «Modern Language Notes», 1963, № 78, декабрь. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 246—251. Публикуется впервые.
с. 263. ...как показал Мангейм... — В работе «Идеология и утопия» (1929) немецкий социолог К. Мангейм (1893—1947) стремился раскрыть идеологические предпосылки не только позитивистской системы знания, но и всякого познавательного процесса как такового. Ср.: «Каждое познание направлено... на определенный предмет и применяется прежде всего к нему. Однако характер подхода к предмету зависит от природы субъекта..., ибо для того, чтобы стать познанием, видение должно быть формализовано и концептуализовано, а формализация и концептуали¬зация зависят от состояния теоретико-понятийной системы отсчета. Какие понятия и уровни соотнесения существуют..., не в последней степе¬ни зависит от историко-социального положения ведущих (resp. мысля¬щих) представителей определенных групп». — Мангейм К. Идеология и утопия. М.: ИНИОН, 1976, с. 105; см. также коммент. к с. 132.
с. 265. ...Башляр показал... — См.: Башляр Г. Предисловие к кни¬ге «Воздух и сны». — «Вопросы философии», 1987, № 5, с. 109.
с. 267. ...Ш. Морона, чья критика..., увенчанная докторской сте¬пенью... — Имеется в виду докторская диссертация французского литературоведа-неофрейдиста Ш.-П. Морона (1899—1966) о Расине, защи¬щенная в университете г. Экс-ан-Прованс в 1957 г.
582
с. 268. ...критика феноменологическая... — Феноменология (от греч. phainomenon — являющееся и logos — слово, знание) — философская дисциплина, ставящая своей целью беспредпосылочное описание феноменов и смыслов (подробнее см.: Бабушкин В. У. Феноме¬нологическая философия науки. М.: Наука, 1985). В эстетике феноме¬нологический метод исходит из того, что конкретная целостность произведения (и соответствующий ей акт непосредственного, нерасчле-ненного восприятия) возникает как результат взаимодействия целого ряда онтологических «слоев», а также (во временных искусствах) ди¬намических «фаз» развертывания текста; задача исследователя заклю¬чается в том, чтобы выявить («эксплицировать») эти слои и фазы (см.: Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: ИЛ, 1962).
...тематическая критика — феноменологическое крыло фран¬цузской «новой критики» (Жорж Пуле, Жан-Пьер Ришар, Жан Старобинский и др.), стремящееся эксплицировать архетипические символы, мотивы и т. п., направляющие всякое индивидуальное творчество.
Что такое критика? (Qu'est-ce que la critique?).
— Впервые (под названием «Criticism as language») в газете «Times Literary Supple¬ment», 1963, 27 сентября. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 252—257. Публикуется впервые.
с. 269. ...Г. Башляр, начав с анализа тематических субстанций... — Французский философ Гастон Башляр (1884—1962) в работах 30— 40-х гг. («Психоанализ огня», 1938; «Вода и сны», 1942; «Земля и грезы о покое», 1948), написанных отчасти под влиянием теории архе¬типов К. Г. Юнга, искал источники поэтической образности в коллектив¬ном «резервуаре прасимволов» (Огонь, Вода, Воздух, Земля). Позднее Башляр пришел к выводу, что указанные субстанции следует рас-сматривать не как первичные доминанты воображения, а как одну из реализаций или проекций его общей функции.
с. 271. ...и оправдание свое она находит не в «истине». — Речь идет о субстанциалистской трактовке «истины» (онтологический объекти¬визм Платона, классический европейский рационализм, позитивистский редукционизм и др.). Подобно тому как для Платона (противопос¬тавлявшего умопостигаемый мир вечных «идей» текучему миру чувствен¬ных «вещей») только «идеи» являются предметом знания, тогда как относительно «вещей» могут существовать лишь недостоверные «мне¬ния», — точно так же и позитивистская методология склонна проводить границу между эмпирическим миром «явлений» и потаенным миром «сущностей», оказывающихся подлинным предметом науки. Тем самым субстанциализм представляет себе познавательный акт 1) как прорыв из мира «явлений» в мир «сущностей»; 2) как пассивно-созерцательное копирование разумом этих сущностей; 3) как преодоление множества «мнений» об объекте и нахождение некоей единой и единственно адек¬ватной «истины» о нем — тезис, являющийся, в частности, краеугольным в картезианской эпистемологии: «...существует лишь одна истина каса¬тельно каждой вещи, и кто нашел ее, знает о ней все, что можно знать» (Д e к а р т Р. Рассуждение о методе. С приложениями. Диопт¬рика. Метеоры. Геометрия, М.: Изд-во АН СССР, 1953, с. 24).
Барт как раз и полемизирует с подобным пониманием «истины», имея в-виду те случаи в литературоведении, когда произведение рас-
583
сматривается всего лишь как эмпирический эпифеномен, за которым скрывается породившая его субстанциальная «причина» (тэновские «первоначальные силы», плехановский «социологический эквивалент», фрейдовские «комплексы» и т. п.); проникновение в такую «причину» — путем «взлома» произведения — якобы и приводит к постижению его окончательной «истины». Барт же исходит из следующих методологи¬ческих посылок, утвердившихся в ходе современной «эпистемологической революции»: 1) познающий субъект не пассивно запечатлевает преднаходимые «сущности» (сама «сущность» на деле есть не что иное, как взаимопереплетение «атрибутов»), но занимается активной рацио¬нальной деятельностью, направленной на освоение объекта; 2) поэтому он не созерцает объект, но включает его в свою деятельность, в раз¬личные формы собственного опыта, испытывает в свете определенных — исторически меняющихся — гносеологических установок; 3) в зависи¬мости от этих установок один и тот же объект по-разному раскры¬вается перед исследователями, придерживающимися разных познава¬тельных парадигм. Таким образом, отвергая субстанциалистскую трак¬товку «истины», Барт настаивает отнюдь не на непознаваемости, а на познавательной неисчерпаемости объекта и тем самым на существо¬вании не одной, а множества «истин» о нем — истин, являющихся функ¬цией истории, исторического движения человеческого разума. Наконец, определяя литературоведение как «дискурс о дискурсе» (а не об усло¬виях его возникновения), Барт переносит проблему «истины» из сферы внешних «причин», порождающих литературу, в сферу самой литературы как особой смысловой реальности (см. также статью Барта «История или литература?» в наст, сборнике и коммент. к с. 319).
...«спокойной совестью». — См. коммент. к с. 132.
с. 272. «Валидность» (от лат. validus — адекватный, пригодный, имеющий силу). — В психологии валидность — важнейший критерий ка¬чества теста, означающий его пригодность для измерения того, что он предназначен измерять (так, тест, пригодный для оценки интеллек¬туальных способностей, может не годиться для оценки темперамента и т. п.). Понятие «валидности» («пригодности») широко применяется и в других гуманитарных науках; по Ельмслеву, например, «пригодной» является лишь теория, включающая «ряд предпосылок, о которых из предшествующего опыта известно, что они удовлетворяют условиям применения к некоторым опытным данным», так что мера «пригодности» теории оказывается мерой ее «реалистичности» (см.: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. — В кн.: «Новое в лингвистике», вып. 1. М.: ИЛ, 1960, с. 274—276).
Вместе с тем всякая теория, согласно Ельмслеву, должна отвечать трем «эмпирико-дедуктивным» требованиям: «Описание должно быть свободным от противоречий (самоудовлетворяющим), исчерпывающим и предельно простым. Требование непротиворечивости предшествует требованию исчерпывающего описания. Требование исчерпывающего описания предшествует требованию простоты» (там же, с. 272).
Употребляя термин «валидность», Барт пытается совместить в нем критерий «пригодности» с критерием «внутренней непротиворечивости» («связности», «когерентности») теории: «пригодным» может быть только «систематический» язык описания. При этом литературоведческая теория (социологическая, психоаналитическая и т. п.) считается валидной
584
постольку, поскольку адекватно описывает определенный смысловой «срез» произведения (или литературы в целом). Однако, будучи не в силах претендовать на абсолютное исчерпание смысловой полноты ли¬тературы, подобная теория ни в коем случае не может считаться «истинной» (т. e. владеющей единственной и окончательной «истиной» о литературном объекте).
с. 273. Алетический — от греч. aletheia — истина.
Литература и значение (Litterature et signification). — Впервые в журнале «Tel Quel», 1964, № 16. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Essais critiques. P.: Seuil, 1964, p. 258—276: Публикуется впервые.
с. 278. ...благодаря своей «валидности»... — См. коммент. к с. 272.
с. 279. ...смысл перехода от «ангажированной» литературы... к «абстрактной» литературе... — Под «абстрактной» литературой в 50-е — начале 60-х гг. во Франции понимали творчество авторов («неорома¬нистов», представителей «театра абсурда»), не стремившихся к не¬посредственной постановке актуальных социально-политических проб¬лем в своих произведениях.
с. 281. Посмотришь на слова — это язык... — аллюзия на строки из басни Ж. Лафонтена; см. коммент. к с. 226.
с. 282. ...ее «субстанцию»... — Барт использует предложенное Л. Ельмслевом членение плана содержания семиотических объектов на субстанцию содержания и форму содержания, а плана выражения — на субстанцию выражения и форму выражения. Субстанция содержа¬ния — это «аморфная масса мысли», как бы преднаходимая языком. Специфические границы, проводимые в этой субстанции каждым кон¬кретным языком, выделение в ней различных факторов и нахождение различных «центров тяжести» Ельмслев назвал формой содержания. Аналогичным образом субстанцию выражения в естественных языках можно определить как их фонетическую область, а форму выражения — как фонологическую организацию этой области, меняющуюся от языка к языку (см. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. — В кн. «Новое в зарубежной лингвистике. Вып. I». М.: ИЛ, 1960, с. 305 — 318).
с. 284. «Что такое литература?» — См. коммент. к с. 132.
с. 286. ...литература со спокойной совестью... — См. коммент. к с. 132.
с. 287. ...психоанализ в виде диссертации Морона. — См. коммент. к с. 267.
с. 288. В подлиннике: «tout „non-sens" n'est jamais, a la lettre, qu'un „contre-sens"»; слов, которые были бы эквивалентны выражению „нечто, противное смыслу", в оригинале нет. — Прим. ред.
с. 293. ...в беккетовском «Годо». — Имеется в виду пьеса одного из создателей «театра абсурда» Сэмюэля Беккета (род. в 1906) «В ожида¬нии Годо» (1952).
...известная «белизна» письма. — См. коммент. к с. 132.
585
Риторика образа (Rhetorique de l'image)
— Впервые в сб. «Com¬munications», 1964, № 4, р. 40—51. Перевод выполнен по указанному изданию. Публикуется впервые.
с. 304. ...молчание бога не позволяет сделать выбор между раз¬личными знаками... — Аллюзия на работу Л. Гольдмана «Бог сокровен¬ный» (см. коммент. к с. 66), где трагическая ситуация определяется через этическую равноценность возможных для героя способов пове¬дения.
с. 305. ...панический «трепет смыслов». — Слово «панический» про¬исходит от имени бога Пана, который был способен криком ввергать нарушителей своего покоя в ужас; см. также с. 259—260 наст. издания.
с. 313. ...наша психея... структурирована наподобие языка. — Речь идет о гипотезе Ж. Лакана; см. с. 590 наст. издания.
с. 317. ...из всех метабол. — О метаболах см.: Дюбуа Ж. и др. Общая риторика М.: Прогресс, 1986.
Критика и истина (Critique et Verite).
— Перевод, выполненный по изданию: Barthes R. Critique et Verite. P.: Seuil, 1966, впервые напечатан (с сокращениями) в кн.: Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX—XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987, с. 349—387. В настоящем издании публикуется полный, заново отредактированный текст перевода.
с. 319. «Новая критика» — условное название, под которым принято объединять ряд литературоведческих направлений (экзистенциализм, «тематическая критика», социологизм, структурализм и др.), сформи¬ровавшихся во Франции в 50—60-е гг. в противовес «старой», «уни¬верситетской» (позитивистской) критике (см. статьи Барта «Две кри¬тики» и «Что такое критика?» в наст. изд.) и опирающихся на методы современных гуманитарных наук (лингвистика, семиотика, антропология, социология, психология).
Разница между «старой» и «новой» критиками сводится в основ¬ном к следующему. Позитивизм был уверен в существовании одно¬значной «истины» произведения («...можно вполне трезво предсказать, что со временем установится полное согласие относительно определе¬ний, содержания и смысла произведений» — Лансон Г. Метод в истории литературы. М.: Товарищество «Мир», 1911, с. 45), которую якобы можно установить с помощью редуцирующего каузально-гене¬тического метода, стремящегося свести литературу к совокупности тех или иных детерминирующих ее факторов (биологических, социально-исторических, биографических и т. п.). Такая редукция смысла к его детерминантам получила название «объяснительной процедуры». Что касается «новой критики», то в целом отнюдь не отвергая генетический метод как таковой, она сделала акцент на самом смысле, которым является произведение, подчеркнув его символическую многозначитель¬ность, то есть неисчерпаемость заложенных в нем смысловых инстан¬ций. Соответственно, задача «новой критики» — не в экспликации явных значений текста, а в эксплицировании его неявных смысловых пластов. Ожесточенность полемики между Пикаром и Бартом прямо вытекает из различного понимания самих целей литературоведения как науки.
586
с. 324. Г-н де Норпуа, Бергот — персонажи романического цикла М. Пруста «В поисках утраченного времени» (издан в 1913—1927).
с. 325. Тератология — часть медицины, изучающая аномалии и уродства живых существ.
с. 327. ...от той степени строгости, с которой он применит избран¬ную им модель к произведению. — См. коммент. к с. 272.
с. 331. ...следуем ли мы за Фрейдом или... за Адлером... — Авст¬рийский психолог Альфред Адлер (1870—1937), начинавший как после¬дователь 3. Фрейда, впоследствии отверг пансексуализм и биологизм своего учителя, выдвинув тезис об общественной обусловленности пси¬хики человека (см.: Адлер А. Индивидуальная психология. — В кн.: История зарубежной психологии. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1986).
с. 334. Жюльен Бенда (1867—1956) —французский литератор, выступивший (в книге «Предательство интеллигентов», 1927) в защиту «интеллектуализма», против любых форм интуитивизма.
с. 336. ...пассеистского жаргона... — Пассеист (от франц. le passe — прошлое) — сторонник возврата к прошлому, противник прогресса.
с. 338. Кризаль — персонаж комедии Ж.-Б. Мольера «Ученые женщины» (1672), с позиций житейского «здравого смысла» отвергаю¬щий всякую ученость как бесполезное мудрствование.
с. 339. ...к тому Мраку Чернильницы, о котором говорил Маллар¬ме... — С. Малларме противопоставлял бездонную многосмысленность поэтического слова («Мрак Чернильницы») тому слою его явных, сугубо поверхностных значений, усвоением которого довольствуется «толпа» (см.: Mallarme S. ?uvres completes. P., Gallimard, 1945, p. 383).
с. 339. Да неужели же я существую до своего языка? и далее. — Барт здесь опирается на языковую теорию французского психоанали¬тика Жака Лакана (1901 — 1981); см. коммент. к с. 366.
с. 343. Жизель, Альбертина, Андре — персонажи романического цикла М. Пруста «В поисках утраченного времени».
с. 344. Люсьен Февр и Мерло-Понти заявили о нашем праве постоянно переделывать историю истории. — Под «переделкой» здесь понимается та смена научных «картин мира», которая сама происхо¬дит под действием истории, создающей все новые и новые исследо¬вательские «языки», ценностно-познавательные установки, предостав¬ляемые в распоряжение ученого эпохой, в которую он живет и т. п. Наряду с Л. Февром и М. Мерло-Понти, методологическое обоснова¬ние подобной «переделки» дал и французский философ-герменевтик Поль Рикёр (род. в 1913), чья работа «История и истина» (1955) оказала влияние на статью «Критика и истина» Р. Барта.
с. 348. ...правила... подвергаются «сожжению» (в обоих смыслах этого слова). — Французский глагол bruler означает «жечь» и «разо¬блачать».
с. 351. ...как это видно из теории четырех смыслов. — Согласно этой средневековой теории, Иерусалим, например, в буквальном (историческом) смысле означает город в Иудее, в аллегорическом — христианскую церковь, в моральном — душу верующего, а в анаго-
587
гическом (возвышенном, мистическом) — царствие небесное. Изло¬жение схемы четырех смыслов (или четырех толкований) см., напри¬мер, в письме Данте к Кан Гранде делла Скала (Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука, 1968, с. 387).
с. 352. ...писатели держат сторону Кратила, а не Гермогена. — В противоположность Кратилу (персонажу одноименного диалога Платона), убежденному в том, что «существует правильность имен, присущая каждой вещи от природы», его оппонент Гермоген утверждал, что «ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть» (Платон. Кратил, 383а, 384 d).
с. 357. Наряду с языковой способностью, постулированной Гум¬больдтом и Хомским... — Поясняя понятие языковой способности, В. Гумбольдт писал: «Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не просто как чувственное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимо¬связях уже должен быть заложен в нем» (Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984, с. 313—314). В концепции американского языковеда Наума Хомского (род. в 1928) языковая способность (компетенция) — это заложенное в человеке «знание» языка, «абстрактная система, лежащая в основе поведе¬ния, система, состоящая из правил, которые взаимодействуют с целью задания формы и внутреннего значения потенциально бесконеч¬ного числа предложений» (Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972, с. 89).
с. 358. Берма — персонаж романического цикла М. Пруста «В поисках утраченного времени», актриса. О посещении героем пред¬ставления «Федры» с Берма в главной роли рассказывается в начале романа «У Германтов».
с. 359. ...отправная точка анализа, горизонтом которого является язык. — См. коммент. к с. 366.
с. 362. ...во времена Лотреамона. — Барт имеет в виду стихию фантасмагории, заполняющую «Песни Мальдорора» французского писателя Изидора Дюкасса (1846—1870), выступившего под псевдони¬мом «граф Лотреамон».
с. 366. ...любое письмо... указывает не на внутренние атрибуты субъекта, но на факт его отсутствия и далее. — В этих рассуждениях Барт опирается на учение видного французского психолога, создателя структурного психоанализа Жака Лакана (1901 —1981). Основные положения этого учения вкратце сводятся к следующему.
Психический аппарат человека, по Лакану, включает в себя три инстанции — реальное (le reel), воображаемое (l'imaginaire) и сим¬волическое (le symbolique).
Реальное. Характеризуя психическое становление индивида, Ла¬кан исходит из факта первичной неотчлененности «я» ребенка от окружающего мира — факта, известного еще в прошлом веке (так, А. А. Потебня в работе «Мысль и язык» (1862) писал: «На первых порах для ребенка еще все — свое, еще все — его я; хотя именно потому, что он не знает еще внутреннего и внешнего, можно сказать и наоборот, что для него вовсе нет своего я. ...исходное состояние
588
сознания есть полное безразличие я и не-я». — Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976, с. 170). По Лакану, «мир» для ребенка в первую очередь отождествляется с телом Матери и персонифицируется в нем, а потому выделение из этого мира (отделе¬ние от материнского тела), образование субъективного «я», противо¬поставляемого объективируемому «не-я», оказывается своего рода нару¬шением исходного равновесия и тем самым — источником психической «драмы» индивида, который, ощущая свою отторгнутость от мира, стремится вновь слиться с ним (как бы вернуться в защищенное мате¬ринское лоно). Таким образом, первичной движущей силой человеческой психики оказывается нехватка (le manque-a-etre), «зазор», который индивид стремится заполнить. Это стремление Лакан обозначил терми¬ном потребность (le besoin). Сфера недифференцированной «потребно¬сти», настоятельно нуждающейся в удовлетворении, но никогда не могущей быть удовлетворенной до конца, и есть реальное. «Реальное» властно заявляет о себе в каждый миг существования индивида (в этом смысле оно всегда «здесь»), но вместе с тем находится по ту сторону вся¬кой рациональности и потому не может быть уловлено ни в процессе психоаналитического сеанса (Лакан выводит «реальное» за пределы научного исследования), ни в процессе субъективной саморефлексии: оно «вне игры».
Воображаемое. По Лакану, это тот образ самого себя, которым располагает каждый индивид, его личностная самотождественность, его «Я» (Moi). Формирование «воображаемого» происходит у ребенка в возрасте от 6 до 18 месяцев — на стадии, которую Лакан назвал «стадией зеркала»: именно в этот период ребенок, ранее воспринимав¬ший собственное отражение как другое живое существо, пытавшийся его потрогать, лизнуть или просто заглянуть за зеркало, начинает отождествлять себя с ним (что выражается в необычайном оживлении, смехе, мимике и т. п.). Таким образом, процесс формирования «вообра¬жаемого» оказывается оборотной стороной процесса разрыва индивида с внешним миром, с телом Матери. Важнейшая функция «воображае¬мого» — психическая защита индивида: «воображаемое» подчиняется не «принципу реальности», а логике иллюзии: оно создает такой образ «Я», который устраивает индивида и играет экранирующую роль как по отношению к объективной действительности, так и по отношению к тем образам этого индивида, которые существуют в сознании его партнеров по коммуникации — «других»; в этом смысле «воображаемое» есть область «незнания», заблуждения человека относительно самого себя. Недифференцированная «потребность», характеризующая уровень «реального», будучи спроецирована в сферу «воображаемого», конкретизируется в форме желания (le desir), управ¬ляемого принципом удовольствия/неудовольствия и ориентированного на эмпирические объекты. При этом диалектика «желания» такова, что его удовлетворение (например, утоление жажды) приводит к исчезновению самого желания, то есть первичного жизненного импуль¬са; такое удовлетворение равносильно смерти, поэтому для поддержа¬ния жизни необходимо возникновение все новых и новых объектов желания. Однако подлинной потребностью человека является, по Лака¬ну, не само по себе стремление к овладению этими объектами, а стрем¬ление к слиянию с миром: слиться же с миром — значит получить призна¬ние с его стороны, быть любимым (хвалимым и т. п.) другими людьми
589
(так, ребенок, выпрашивающий у матери сладости, на самом деле требует ее внимания, ласки): подлинное желание человека состоит в том, чтобы другой его желал, в нем нуждался и т. п.; он хочет сам быть «объектом», которого не хватает партнерам по социальной ком¬муникации, хочет быть причиной «желания» с их стороны (см. Lacan J. Ecrits. P.: Seuil, 1966, р. 181, 268). Таким образом, выявляется принципиальная зависимость индивида от окружающих его людей, обобщаемых Лаканом в понятии Другого, носителя «символического». Символическое. По Лакану, это совокупность социальных уста¬новлений, представлений, норм, предписаний, запретов и т. п., которую ребенок застает готовой при своем рождении и усваивает по большей части совершенно бессознательно; «символическое», будучи «порядком культуры», выполняющим регуляторную функцию, как раз и персони¬фицируется в фигуре Другого или Отца, поскольку именно через Отца ребенок впервые приобретает навыки культурного существования, то есть усваивает социальный Закон. «Символическое» — это область сверхличных, всеобщих, социокультурных смыслов, задаваемых инди¬виду обществом; это, следовательно, область бессознательного. Отсюда — радикальный пересмотр Лаканом классического понятия «субъекта». Если в рамках картезианской традиции «субъект» рассмат¬ривался как некая субстанциальная целостность, как суверенный носи¬тель сознания и самосознания (ср. Cogito ergo sum) и как ценност¬ная точка отсчета в культуре, то, по Лакану, напротив, субъект (le sujet) предстает как функция культуры, как точка пересечения различных символических структур и как точка приложения сил бес¬сознательного: не культура является атрибутом индивида, а индивид оказывается «атрибутом» культуры, говорящей «при помощи» субъекта; сам же по себе «субъект» есть «ничто» (rien), некая «пустота», заполняемая содержанием символических матриц. Отсюда — постоян¬ное взаимодействие между субъектом как носителем культурных норм и «Я» (Moi) как носителем «желания», то есть между «символиче¬ским» и «воображаемым». «Символическое» стремится полностью под¬чинить себе индивида, тогда как задача «Я» состоит в том, чтобы, используя топосы культуры, создать с их помощью собственный нар¬циссический образ, то есть, подставив «Я» на место «субъекта», соз¬дать себе культурное алиби. Тем самым уточняется понятие бессозна¬тельного: бессознательное, по Лакану, это «речь Другого», но это такая речь, которая постоянно редактируется «воображаемым»: «Бессознательное — это глава моей истории, которая отмечена пробе¬лом или обманом, это глава, подвергшаяся цензуре» (Lacan J. Ecrits. P.: Seuil, 1966, p. 259). При этом бессознательное рассматри¬вается Лаканом в качестве своеобразного языка, ибо символическое организовано по тем же законам, что и естественные языки («бессозна¬тельное структурировано как язык») : в нем можно выделить сферу означающих и означаемых, язык и речь, парадигмы и синтагмы, законы метафорического переноса и метонимического смещения и т. п. Вместе с тем следует иметь в виду существенное отличие «языка бессознатель¬ного», с которым имеет дело психоанализ, от естественных языков, с которыми имеет дело лингвистика как таковая, — отличие, на которое указал, в частности, Э. Бенвенист: бессознательная символика являет¬ся одновременно «и подъязыковой и надъязыковой. Подъязыковой она является потому, что источник ее расположен глубже, чем та область,
590
в которой благодаря воспитанию и обучению закладывается механизм языка. В ней используются знаки, не поддающиеся членению и до¬пускающие многочисленные индивидуальные вариации... Эта симво¬лика является надъязыковой вследствие того, что в ней используются знаки очень емкие, которым в обычном языке соответствовали бы не минимальные, а более крупные единицы речи» (Бенвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда. — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика, М.: Прогресс, 1974, с. 125—126).
В заключение следует отметить решительное стремление Лакана к дебиологизации психоанализа, то есть к устранению фрейдовского пан-сексуализма. Вынося за пределы исследования все собственно биоло¬гические потребности, Лакан соотносит душевную жизнь индивида не с физиологическими импульсами организма, а с ценностями, эта¬лонами и символами культуры, рассматривает бессознательное не как нечто стихийное (фрейдовское «оно»), а как упорядоченную область, где происходит социализация личности.
с. 370. ...согласно Лукачу, Рене Жирару и Л. Гольдману... — Имеются в виду следующие работы: «Теория романа» (Die Theorie des Romans. Berlin, 1920) Д. Лукача, книга Р. Жирара «Романти¬ческая ложь и романическая правда» (Mensonge romantique et verite romanesque. P.: Grasset, 1961) и названная Бартом статья Л. Гольдмана «Введение в проблемы социологии романа», входящая в его книгу «Социология романа» (Pour une sociologie du roman. P.: Gallimard, 1964).
с. 373. ...апофатический риск. — Апофансис (греч. apophansis — утверждение) — суждение, в котором посредством утверждения или отрицания полагается что-либо как существующее или несуществующее.
с. 374. ...Пруста, любителя чтения и подражаний. — Аллюзия на сборник М. Пруста «Пастиши и смесь» (Pastiches et melanges, 1919),. где автор воспроизводит стилистическую манеру ряда крупных фран¬цузских литераторов. В эту книгу входит и эссе Пруста «О чтении».
От науки к литературе (De la science a la litterature) — Впер¬вые под названием «Science versus literature» в газете «Times Literary Supplement», 1967, 28 сентября. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Le bruissement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 13—20. Публикуется впервые.
с. 375. ...язык, благодаря своим обязательным категориям... — Об «обязывающей» власти языка, стремящегося подчинить любого го¬ворящего своим нормам и правилам, писал еще в начале XIX в. немец¬кий философ Фридрих Шлейермахер (1768—1834); см.: Fr. Schleiermacher's samtliche Werke, Abt. 3. Zur Philosophie, Bd 2. Berlin, 1838, S. 213. Аналогичная мысль была подробно развита в XX столетии американским лингвистом и этнологом Францем Боасом (1858—1942) и Романом Якобсоном (1896—1982), на которых непосредственно опи¬рается Барт. Ср.: «Таким образом, основное различие между языками состоит не в том, что может или не может быть выражено, а в том, что должно или не должно сообщаться говорящими». «Грамматика воистину ars obligatoria..., поскольку она обязывает говорящего прини-мать решения типа „да — нет". Как неоднократно указывал Боас, грамматические значения данного языка направляют внимание говоря-
591
щего коллектива в определенную сторону и благодаря своему обяза¬тельному принудительному характеру оказывают влияние на поэзию, верования и даже на философское мышление» (Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение. — В кн.: Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985, с. 233—234).
с. 376. ...рамки классицизма и гуманизма. — Имеется в виду «гуманизм» ренессансного и картезианского типа, превращающий изо¬лированного «субъекта» в решающую инстанцию социокультурного процесса и игнорирующий тот факт, что на самом деле этот субъект является результатом проекции социокультурных, исторически возни¬кающих ценностей.
с. 377. ...согласно определению Романа Якобсона. — См.: Якоб¬сон Р. Лингвистика и поэтика. — В кн.: «Структурализм: „за" и „про¬тив"». М.: Прогресс, 1975.
с. 380. ...театрально или фантазматически... — Согласно Лакану, «театральность» есть такой способ «разыгрывания» индивидом собствен¬ного «Я» (Moi) перед «другими», при котором он способен контроли¬ровать собственное «воображаемое», согласовывать его с требованиями «символического»; «фантазм», по Лакану, это способ придать «жела-нию» приемлемую, с «символической» точки зрения, форму, это «нор¬мальный» разрыв между реальностью и «воображаемым», «экран не¬знания»; см. также коммент. к с. 366.
...в научном дискурсе, из которого ученый объективности ради самоустраняется... — По Барту, претензии ученого-позитивиста на «научную объективность», то есть презумпция «беспредпосылочности» научного знания, представляют собой характерную форму «фантазма», основанного на стремлении индивида скрыть от самого себя социо¬культурные, идеологические установки, направляющие его познаватель¬ную деятельность и определяющие «картину мира», из которой он не¬осознанно исходит.
Смерть автора (La mort de l'auteur).
— Впервые в журнале «Manteia», 1968, № V. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Le bruissement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 61—68. Публикуется впервые.
с. 387. ...так же как «я» есть всего лишь тот, кто говорит «я». — Ср.: «Какова же та „реальность", с которой соотносится (имеет ре¬ференцию) я или ты? Это исключительно „реальность речи", вещь очень своеобразная. Я может быть определено только в терминах „про¬изводства речи" („locution"), a не в терминах объектов, как определя¬ется именной знак. Я значит „человек, который производит данный рече¬вой акт, содержащий я". Данный речевой акт по определению является единственным и действительным только в своей единственности. ...Но параллельно нужно рассматривать я и как единовременный акт произ¬водства формы я (instance de forme). Форма н с языковой точки зре¬ния существует только в том акте речи, в котором она высказывается.
Таким образом, во всем этом процессе налицо два совмещенных единовременных акта: акт производства формы я как реферирующего (referent) и содержащий это я речевой акт как реферируемое (refere)» (Бенвенист Э. Природа местоимений. — В кн.: Бенвенист Э.
592
Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, с. 286). Местоимение «я» таким образом, относится к категории «шифтеров», принадлежащих к языковому коду (где «я» противопоставлено «ты» как «отправитель со¬общения» его «получателю») и в то же время отсылающих к содержанию данного конкретного высказывания (см.: Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В кн.: «Принципы типологи¬ческого анализа языков различного строя». М.: Наука, 1972).
с. 388. ...лингвисты вслед за философами Оксфордской школы име¬нуют перформативом... — Философы «Оксфордской школы» (Гилберт Райл, род. в 1900; Джон Уисдом, род. в 1904; Джон Остин, 1911 — 1960) ознаменовали своей деятельностью новый этап в развитии неопозити¬визма, связанный с заменой логического анализа языка анализом линг-вистическим. О перформативе см.: Остин Дж. Л. Слово как дейст¬вие. — В кн.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XVII. М.: Прогресс, 1986; Бенвенист Э. Аналитическая философия и язык. — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974).
Эффект реальности (L'effet de reel). — Впервые в сб.: «Communi¬cations», 1968. 11. Перевод выполнен по изданию: В a r t h e s R. Le bruis¬sement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 167—174. Публикуется впервые.
с. 398. ...реализм в литературе сложился примерно в те же деся¬тилетия, когда воцарилась «объективная» историография. — Барт имеет в виду позитивистскую иллюзию о возможности беспредпосылочного знания в естественных и гуманитарных науках — иллюзию, переносимую в область художественного творчества многими «нату-ралистически» ориентированными писателями середины XIX в.
...реальность относилась к сфере Истории и тем четче противопоставлялась правдоподобию... — Ср.: «Из сказанного ясно и то, что задача поэта — говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходи¬мости. ...Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэ¬зия больше говорит об общем, история — о единичном» (Аристо¬тель. Поэтика, 1451 а-b).
С чего начать? (Par ou commencer?). — Впервые в журнале «Poetique», 1970, № 1. Перевод выполнен по указанному изданию. Публикуется впервые.
Эта статья является конкретным методическим примером «тексто¬вого анализа». Барт следующим образом классифицирует «тексты». Прежде всего он выделяет «чистый» текст, ничем не ограниченную смысловую полноту, не откристаллизовавшуюся, не «сгустившуюся» ни в какое конкретное «произведение». Такой текст есть бесконечная игра самой культуры, «вечное настоящее», «романическое без рома¬на, поэзия без стихотворения, эссеистика без эссе, письмо без стиля, производство без продукта, структурирование без структуры» (Barthes R. S/Z, P.: Seuil, 1970, p. 11), иными словами, он представляет собой сугубо идеальную, утопическую возможность «тотальности», не диффе¬ренцированной на культурные «коды» и потому не поддающейся ни анализу, ни интерпретации, ни «прочтению», но допускающей лишь абсолютное отождествление с собой, «пере-писывание». Идеальному
593
тексту Барт противопоставляет массу реально существующих текстов, структурированных в виде «произведений» и следовательно, сплетен¬ных из множества хотя и взаимообратимых, но все-таки дискретных «кодов», поддающихся аналитическому прочтению, объективации. Это — «классические», по выражению Барта, тексты с неограничен¬ной поливалентностью; тем не менее их бесконечное смысловое движе¬ние может быть как бы приостановлено исследователем, остановившим свой выбор на одном из «кодов» и положившим его в основу неко¬торой конкретной интерпретации данного текста. Наконец, среди «классических» текстов Барт выделяет группу текстов с ограниченной поливалентностью, с «неполной множественностью», в той или иной мере сводимой к исчислимому набору образующих их кодов. Подобные тексты (роман Ж. Верна «Таинственный остров», новелла Бальзака «Сарразин» и рассказ Э. По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром») и являются предметом бартовского анализа.
с. 403. ...диегесис (греч.) — здесь: повествование, с. 410. ...пойетический — от греч. глагола poiein 'делать', 'изготов¬лять'.
От произведения к тексту (De l'?uvre au texte).
— Впервые в журнале «Revue d'esthetique», 1971, № 3. Перевод выполнен по изда¬нию: Barthes R. Le bruissement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 69—78. На русском языке опубликована в журнале «Вопросы ли¬тературы», 1988, № 11 (пер. Д. А. Силичева). В наст. сб. публикуется в новом переводе.
с. 413. ...перелом же... произошел в прошлом веке, с появлением марксизма и фрейдизма. — Речь идет в первую очередь об открытии области бессознательного, осуществленном в социологическом плане К. Марксом (ср.: «Они не сознают этого, но они это делают». — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 84), а в индивидуально-психологическом — 3. Фрейдом. В бессознательном коренятся подлин¬ные мотивы человеческой деятельности, которые, однако, преломляют¬ся в коллективном или индивидуальном сознании в иллюзорной форме «идеологии» или «воображаемого» (см. коммент. к с. 132 и с. 366). Таким образом, «в социальной действительности наблюдается то же внедрение прошлого в настоящее, то же расхождение между реальной действительностью и отражением последней в представлениях людей, та же тревога по поводу „недостаточности знания", то же стремление облекать действительность в одежды мертвых, словом, та же скрытая „вторая сцена", которую всегда учитывал — применительно к своей области и к своим проблемам — Фрейд», — отмечают Ф. В. Бассин и В. E. Рожнов. Вместе с тем у Фрейда «все замыкается в пси¬хологическом плане, только этот уровень принимается во внимание, и именно в этом коренится роковая ошибка Фрейда. Маркс же, объяс¬няя законы „незнания", исходил из объективных фактов — борьбы общественных классов, характера производства и процессов обмена» (Бассин Ф. В., Рожнов В. E. Предисловие. — В кн.: Клеман К. Б., Б р ю н о П.,Сэв Л. Марксистская критика психоанализа. М.: Прогресс, 1976, с. 14—15).
с. 415. ...произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом. — В лакановских терминах смысл сказанного: явное зна-
594
чение произведения («то, что хочет сказать автор») возникает как продукт деятельности «Я» (Moi); см. коммент. к с. 366.
с. 420. Ведь «я», пишущее текст, это тоже лишь «бумажное» «я». — Ср.: «...шифтер... лишь указывает на субъект акта высказывания, но он его не обозначает» (Lacan J. Ecrits. P.: Seuil, 1966, p. 800); см. также коммент. к с. 387.
Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По (Analyse textuelle d'un conte d'Edgar Poe).
— Впервые в сб.: Semiotique narrative et textuelle, ed. Cl. Chabrol. P.: Larousse, 1973, p. 29—54. Перевод выпол¬нен по указанному изданию. Публикуется впервые.
с. 425. ...процесс означивания. — См. коммент. к с. 470.
Удовольствие от текста (Le Plaisir du texte).
Перевод выпол¬нен по изданию: Barthes R. Le Plaisir du texte. P.: Seuil, 1973. Публикуется впервые.
с. 462. ...своего рода г-на Теста наизнанку. — Г-н Тест — герой ряда произведений Поля Валери (1871 —1945), воплощение доведенного до крайности интеллектуализма.
с. 464. ...желание, невроз. — О «желании» в лакановском понима¬нии см. коммент. к с. 366; «невроз», будучи функцией «желания», представляет собой способ построения воображаемого «Я» из матери¬ала «символического»; «невротик» не порывает с «порядком культуры», но подвергает его деформации, стремится подчинить деятельности «воображаемого».
с. 465. ...как утверждает в таких случаях теория текста. — Имеет¬ся в виду «теория текстопорождения», предложенная Ю. Кристевой; см. Kristeva J. ??????????.. Recherches pour une semanalyse. P.: Seuil, 1969.
с. 466. ...францисканство, взывающее ко всем словам одновре¬менно... — Одной из задач Франциска Ассизского (1182—1226) и основанного им монашеского ордена была проповедь среди народа без различия сословий и вероисповедания (миссионерство в нехристиан¬ских странах).
с. 467. ...с ее спокойной совестью... — См. коммент. к с. 132.
с. 468. Тмесис — разъединение элементов сложного или производ¬ного слова; Барт употребляет этот термин для обозначения такого способа чтения, при котором пропускаются те или иные фрагменты текста.
с. 470. ...а слоистостью самого акта означивания. — «Означива¬ние» — лингвистический термин, при помощи которого Ю. Кристева описывает основной аспект текстопорождения: «Мы будем называть означиванием ту работу по дифференциации, стратификации и кон¬фронтации, которая осуществляется в языке и которая проецирует на линию, создаваемую говорящим субъектом, коммуникативную и грамматически структурированную цепочку означающих». Соответ¬ственно, если уровень значений (фено-текст) является предметом семиотики, то уровень означивания (гено-текст) должен стать предме-
595
том «семанализа»: «Семанализу, который будет изучать в тексте озна¬чивание и его разновидности, придется встать по ту сторону означаю¬щего, субъекта и знака, равно как и по ту сторону грамматической организации дискурса, с тем, чтобы достигнуть той зоны, где сосредо¬точиваются ростки того, что станет значением в наличном состоянии языка» (Kristeva J. Op. cit., p. 9).
с. 471. ...в нас вливается стихия идеологии и воображаемого. — См. коммент. к с. 132, 366, 413.
с. 473. Логомахия (грен.) — битва слов.
...это фено-текст... — Обосновываемое Ю. Кристевой про¬тивопоставление гено-текст / фено-текст следует принципиально отли¬чать от хомскианской оппозиции глубинная структура / поверхност¬ная структура по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, порож¬дающая модель Хомского имеет дело только с изолированными пред¬ложениями, а не с дискурсом. Во-вторых, «глубинная структура» представляет собой не что иное, как отражение на понятийно-логи¬ческом уровне той же самой конструкции, которая — в грамматически и синтаксически оформленном виде — присутствует и на «поверхност¬ном» уровне; в структурном отношении составляющие в обоих случаях идентичны (такова, например, схема «субъект — предикат» в индо¬европейских языках). Теория Хомского, таким образом, вопреки свое¬му названию, не знает подлинного процесса порождения-трансфор¬мации, перехода от одного типа категорий (или логики) — к друго¬му. По Кристевой же, «гено-текст — это абстрактный уровень лингвистического функционирования, который, отнюдь не отражая фразовых структур, предшествуя этим структурам и их превышая, представляет собою их анамнез». «Гено-текст — это бесконечное означающее, которое не может «быть» чем-то «определенным», по¬скольку оно не существует в единственном числе; ему лучше подходит название «означающие» (множественные и до бесконечности диффе-ренцированные означающие), по отношению к которым наличное означающее... есть всего лишь ограничитель..., ак-циденция... Это — множественность означающих, в которой (а не вне которой) помеща¬ется и тем самым сверхдетерминируется непосредственно формулируе¬мое (фено-текстовое) означающее». «Коммуникативной функции фено-текста гено-текст противопоставляет процесс производства значений» (Kristeva J. Op. cit., p. 282—284).
с. 474. ...живые огни... заменяющие нам... общие понятия... древней философии. — Аллюзия на «Новые опыты о человеческом разу¬ме» Г. В. Лейбница. Ср.: «...душа содержит изначально принципы различных понятий и теорий, для пробуждения которых внешние пред¬меты являются только поводом... Математики называют их общими понятиями. Современные философы дают им другие красивые назва¬ния, а Юлий Скалигер, в частности, называл их semina aeternitatis или же Zopyra, как бы желая сказать, что это живые огни, вспышки света, которые скрыты внутри нас и обнаруживаются при столкнове¬нии с чувствами, подобно искрам, появляющимся при защелкивании ружья» (Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах, т. 2. М.: Мысль, 1983, с. 48—49).
596
с. 478. ...всякую букву. — «Буква», по Лакану, соотносится с поня¬тием «высказывания-результата» (l'enonce), с непосредственным содержанием языкового сообщения, которое может выступать в роли явственно зримого означающего, за которым скрывается ускользаю¬щее, вытесняемое означаемое — «акт высказывания» (renonciation).
с. 480. ...буддийской Сангхе. — Сангха — монашеская община при храме или монастыре; монахи, как правило, освобождались от повин¬ностей, налогов и отработок и жили за счет специальных групп лю¬дей, работавших на сангху, а также подношений и подарков насе¬ления.
...уподобляется индейскому потлачу. Торжество у северо¬американских индейцев, во время которого происходит взаимный обмен дарами; одни и те же дары циркулируют постоянно, так что их ценность повышается в зависимости от количества состоявшихся потлачей.
с. 483. ...романическое... — Оппозиция роман / романическое
коррелятивно у Барта оппозиции произведение / текст (см. его статью «От произведения к тексту» в наст, сб.); если для «романа» («произ¬ведения», «фено-текста») характерна моносемия, строгая парадигмати¬ческая и синтагматическая организованность, то для «романического» («текста», «интертекста», «гено-текста») — полисемия, множествен¬ность, беспорядочное кишение смыслов; «роман» стремится увлечь читателя яркими характерами, сюжетом и т. п., «романическое» — доставить ему «удовольствие» «текстовой работой».
Майя (санскр.) — здесь: распадение Единого на множество частей.
с. 485. ...это докса, форма бессознательного, короче, идеоло¬гия... — См. коммент. к с. 132, 366, 413.
с. 490. Мана — слово, употребляемое в Меланезии и Полинезии для обозначения безличной силы, разлитой в природе и способной концентрироваться в отдельных носителях (людях, животных, пред¬метах).
Сатори — в дзэн-буддизме: внезапное озарение, наступаю¬щее в результате углубленного самососредоточения, состояние «чи¬стого сознания», свободного от воздействия посторонних мыслей и позволяющего заглянуть в подлинную «природу вещей».
с. 491. Матесис (греч.) — познание.
Мандала (санскр.) — схематическое или живописное изо¬бражение Вселенной в буддийской живописи.
с. 492. ...Башляр сумел создать чистую критику чтения. — См.: Башляр Г. Предисловие к книге «Воздух и сны»; Предисловие к книге «Поэтика пространства». — «Вопросы философии», 1987, № 5, с. 113—121.
с. 496. Нэмбутсу (японск.) — буддийская молитва.
с. 502. ...говорить о «тревоге»: благородное, ученое слово... Термин «тревога» (l'angoisse) является, в частности, одним из ключевых в словаре экзистенциализма.
597
с. 516. Эпохэ (греч.) — воздержание, самообладание.
Разделение языков (La division des langages).
— Впервые в сб.: Une Nouvelle Civilisation? Hommage a Georges Friedmann. P.: Galli¬mard, 1973. Перевод выполнен по изданию: Вarthes R. Le bruisse¬ment de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 113—126. Публикуется впервые.
с. 522. ...сартровский... анализ «буржуазности» Флобера. — Барт имеет в виду двухтомное исследование Ж.-П. Сартра о Флобере «L'Idiot de la famille», вышедшее в 1971 г.
с. 528. ...отсылаю к лакановскому анализу «предполагаемого субъекта знания». — См.: Lacan J. Ecrits. P.: Seuil, 1966, p. 855— 860.
Аристотель... различал две группы доказательств. — По Аристотелю, «технические» способы убеждения основаны на приемах и правилах риторического искусства (tekhne), тогда как «нетехниче¬ские» — на объективных данных (таковы, например, свидетельские показания, письменные договоры и т.п.). «Технические» средства убеждения кодифицированы в самой риторике как науке, и нужно только научиться ими пользоваться; «нетехнические» же нуждаются в том, чтобы их добыли, нашли (см. Аристотель. Риторика, 1355Ь 35).
с. 532. ...Якобсон вслед за Боасом справедливо отметил. — См. коммент. к с. 375.
с. 533. ...определенную компетенцию. — Компетенция, по Хомскому, — знание своего языка говорящим-слушающим (см. также коммент. к с. 357); варианты перформации. — Перформация (употребление) — реальное использование языка в конкретных ситуациях (см.: Хом¬ский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972, с. 9).
Война языков (La guerre des langages).
— Выступление на сим¬позиуме Le Conferenze dell'Associazione Culturale Italiana, 1973. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Le bruissement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 127—132. Публикуется впервые.
Гул языка (Le bruissement de la langue).
— Впервые в сб.: Vers une esthetique sans entraves. Melanges Mikel Dufrenne. P.:U.G.E., 1975. Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Le bruissement de la langue. P.: Seuil, 1984, p. 93—96. Публикуется впервые.
с. 541. ...роман Золя. — Имеется в виду роман Э. Золя «Человек-зверь» (1890).
Лекция (Lecon).
— Перевод выполнен по изданию: Barthes R. Lecon. P.: Seuil, 1978. Публикуется впервые.
с. 545. ...я всегда был ближе к журналу «Тель Кель». — См. с. 580 коммент.
с. 546. ...я вступаю в сферу, которую... можно назвать сферой вне-власти. — Коллеж де Франс был основан в 1529 г. Франциском 1 как светское учебное заведение, независимое от Парижского универ¬ситета. В настоящее время Коллеж де Франс входит в ведение
598
Министерства национального образования, не испытывая непосред¬ственного давления со стороны тех или иных политических партий, группировок и т. п., что и имеет в виду Барт.
с. 548. ...как показал Якобсон... — см. коммент. к с. 375.
с. 550. ...акт, чуждый всякому... слову, и направленный против всеобщности, стадности, моральности языка... — В работе «Страх и трепет» (1843) С. Киркегор (1813—1855) дал следующую интерпрета¬цию жертвоприношения Авраама (Бытие, 22): Авраам любит Исаака, но Бог повелевает ему предать сына жертвенной смерти; Авраам готов выполнить повеление, но его «беда и тоска» не столько в переживае¬мой трагедии, сколько в том, что он не может выразить ее в слове — не может ни пожаловаться, ни добиться соболезнования просто пото¬му, что не будет понят, ибо поступок человека, без всякой разумной причины убивающего любимое существо, противоречит любым нормам человеческой этики. Действительно, сущность этического долга, по Киркегору, в том, что он значим для каждого и потому является выражением «всеобщего»; соответственно, задача отдельного инди¬вида, коль скоро он стремится быть этическим существом, — посту¬питься своей «единичностью» ради приобщения к коллективным нравственным ценностям; приобщиться же к коллективной нравствен¬ности значит, в свою очередь, приобщиться к языку как к интер¬субъективному средству выражения и коммуникации. «Пока я говорю, — пишет Киркегор, — я выражаю всеобщее, и если я этого не делаю, то меня никто не может понять». Люди не могут понять Авраама и не могут «плакать» над ним потому, что требование о жертвоприношении исходит лично от Бога и обращено лично к Аврааму; оно не имеет «всеобщей» формы, не способно быть эталоном этического долга. Поступок Авраама — это выражение его «единичной» веры, как раз и обрекающей библейского героя па изоляцию и молчание: «рыцарь веры» Авраам молчит потому, что поставил единичное выше всеобщего (подробный анализ работы Киркегора «Страх и трепет» см. в кн.: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миро¬созерцания Сёрена Киркегора. М.: Искусство, 1970, с. 219—230).
с. 552. ...подобно Болонскому камню... — Имеется в виду болонский шпат, обладающий фосфорическими свойствами, впервые обнаружен¬ными в 1630 г. одним из болонских алхимиков.
с. 553. ...в латинском языке знание и сочность этимологически родственны. — Латинское существительное sapor означает 'сочность', а глагол sapere — 'иметь вкус', 'быть вкусным', но также: 'быть ра¬зумным'.
с. 555. ...изменить жизнь. — Имеется в виду 11-й из «Тезисов о Фейербахе» К. Маркса: «Философы лишь различным образом объяс¬няли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 4).
с. 556. ...утопия языка оборачивается возникновением языка уто¬пии и далее. — Барт здесь полемизирует с собственной программой преодоления отчуждения языка, изложенной за четверть века до этого; см.: Барт Р. Нулевая степень письма. — В кн.: «Семиотика». М.: Радуга, 1983, с. 347—349; см. также: Barthes R. Roland Barthes. P.: Seuil, 1975, p. 80.
599
с. 559. ...подобно Вотану и Логе... — Аллюзия на сюжет оперы Р. Вагнера «Золото Рейна» (1876).
с. 564. ...наиболее продвинувшаяся часть семиологии... — Речь идет о работах представителей русской (В. Я. Пропп и др.), фран¬цузской (А.-Ж. Греймас, Кл. Бремон, Ц. Тодоров и др.) и северо¬американской (А. Дандис, П. Маранда и др.) нарратологических школ. См., в частности: Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М.: Наука, 1985; обзор и обобщение основных идей в области теории повествовательных текстов см. в работе: Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов. — В кн.: Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX—XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987.
с. 567. Экскурс — французское слово excursion означает 'уклоне¬ние от заданной темы' и, соответственно, 'экскурс' ('экскурсию') в какую-либо другую область.
с. 567. ...место Отца. — Символическая фигура Отца играет центральную роль в психоанализе. 3. Фрейд дал ей биологическое толкование (см.: Фрейд 3. Тотем и табу, М.-Пг., 1924; см. также с. 152 наст, сб.), а Ж. Лакан — культурологическое. По Лакану, Отец, будучи носителем «порядка культуры», Закона, исходящего от общества, тем самым «регулирует» «желания» индивида; в частности, «порядок культуры» навязывает каждому набор определенных амплуа, социальных ролей, «масок» и т. п., к которым «Я» вынуждено с боль¬шим или меньшим успехом приспосабливаться; отсюда — зазор между «воображаемым» и «символическим», ощущение принуди¬тельной силы Закона и стремление сбросить его иго (иго Отца); см. также коммент. к с. 366.
Г. К. Косиков
Библиография ............... 601
Работы Р. Барта
I. Монографии, эссе, сборники статей
Le Degre zero de l'ecriture. P.: Seuil, 1953.
Michelel par lui-meme. P.: Seuil, 1954.
Mythologies. P.: Seuil, 1957.
Sur Racine. P.: Seuil, 1963.
Essais critiques. P.: Seuil, 1964.
Le Degre zero de l'ecriture suivi de Elements de semiologie. P.: Gonthier, 1965.
Critique et Verite. P.: Seuil, 1966. Systeme de la Mode. P.: Seuil, 1967. S/Z. P.: Seuil, 1970.
L'Empire des signes. Geneve: Skira, 1970.
Sade, Fourier, Loyola. P.: Seuil, 1971.
Le Degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux Essais critiques. P.: Seuil, 1972.
Le Plaisir du texte. P.: Seuil, 1973.
Roland Barthes. P.: Seuil, 1975.
Fragments d'un discours amoureux. P.: Seuil, 1977.
Lecon. P.: Seuil, 1978.
Soilers ecrivain. P.: Seuil, 1979.
La Chambre claire. P.: Gallimard — Le Seuil, 1980.
Le Grain de la voix. Interviews. P.: Seuil, 1981.
L'Obvie et l'Obtus. Essais critiques III. P.: Seuil, 1982.
Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV. P.: Seuil, 1984.
L'Aventure semiologique. P.: Seuil, 1985.
II. Переводы на русский язык
Основы семиологии. — В кн.: «Структурализм: „за" и „против", М.: Прогресс, 1975.
Лингвистика текста. — В кн.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. VIII. М.: Прогресс, 1978.
Текстовой анализ. — В кн.: «Новое в зарубежной лингвистике», вып. IX. М.: Прогресс, 1979.
Нулевая степень письма, — В кн.: «Семиотика». М.: Радуга, 1983. Третий смысл. Исследовательские заметки о нескольких фотограммах
601
С. М. Эйзенштейна. — В кн.: Строение фильма. М.: Радуга, 1984 Драма, поэма, роман. — В кн.: «Называть вещи своими именами
Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века». М.: Прогресс, 1986.
Критика и истина. — В кн.: «Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX—XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе». М.: Изд-во МГУ, 1987
Введение в структурный анализ повествовательных текстов, — В кн.:
«Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX—XX вв. Трактаты
Статьи. Эссе». М.: Изд-во МГУ, 1987.
Лабрюйер: от мифа к письму (фрагменты). — В кн.: «Памятные книжные даты - 1988». М.: Книга, 1988.
Литература о Р. Барте 1. Монографии
Mallac G., Eberbach М. Barthes. P.: Editions universitaires, 1971
Сalvet L.-J. Roland Barthes: un regard politique sur le signe. P.: Payot, 1973.
Heath S. Vertige du deplacement: Lecture de Barthes. P.: Fayard 1974.
Thody Ph. Roland Barthes. A conservative estimate. Atlantic High¬lands: Humanities press, 1977.
Fages J.-B. Comprendre Roland Barthes. Toulouse: Privat, 1979.
Nordahl Lund St. L'aventure du signifiant. Une lecture de Barthes. P.: Presses Universitaires de France, 1981.
Wasserman G. R. Roland Barthes. Boston: Twayne, 1981.
Hillenaar Н. Roland Barthes, existentialisme, semiotiek, psychoana¬lyse. Assen: Van Gorcum, 1982.
Lavers A. Roland Barthes, structuralism and after. Cambridge: Har¬vard University Press, 1982.
Sontag S. L'ecriture meme: a propos de Roland Barthes. P.: Chris¬tian Bourgois, 1982.
Ungar St. Roland Barthes: the professor of desire. Lincoln: The University of Nebraska press, 1983.
Roger Ph. Roland Barthes, roman. P.: Grasset, 1986.
II. Специальные номера журналов
«La Nouvelle revue francaise», 1970, n 214.
«Tel Quel», 1971, n 47.
«L'Arc», 1974, n 56.
«Le Magazin litteraire», 1975, n 97.
«Revue d'esthetique», 1981, n 2. Sartre/Barthes.
«Poetique», 1981, n 47.
«Communications», 1982, n 36.
«Critique», 1982, t. 38, n 423/424.
III. Коллоквиум
Pretexte: Roland Barthes. Colloque de Cerisy. P.: U.G.E. 1978.
602
Именной указатель.
Составил Г. К. Косиков 603
Адан Антуан (Adam A., 1899— 1980), французский литературо¬вед, специалист по французской литературе XVII в. —211, 217, 230
Адлер Альфред (Adler А., 1870— 1937), австрийский психиатр, создатель «индивидуальной пси¬хологии», отвергающей панбиологизм 3. Фрейда — 331
Аллар Роже (Allard R., 1885— 1960), французский поэт-«фантазист» — 51
Альберес Рене Марий (Alberes R. М., род. в 1923), француз¬ский литературный критик — 337
Амьель Анри-Фредерик (Amiel Н.-F., 1821 — 1881), швейцар¬ский писатель, автор интимно-психологического «Дневника» (1847—1881) - 506
Ангелус Силезиус (Angelus Silesius, наст. имя Иоганн Шефлер, 1624—1677) —немецкий фило¬соф-мистик — 473
Анрио Эмиль (Henriot E., 1889— 1961), французский писатель, литературный критик — 53
Антониони Микеланджело (Antonioni M., род. в 1912), италь¬янский кинорежиссер — 544
Аполлинер Гийом (Apollinaire G., наст. имя Вильгельм Аполлина¬рий Костровицкий, 1880—1918), французский поэт — 54
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ — 188, 323, 372, 419, 528, 531
Арто Антонен (Artaud A., 1896— 1948), французский поэт, ре-
жиссер, актер, создатель теории «магического» искусства, приз¬ванного «выразить невырази¬мую жизнь тела» — 517
Аткинсон Джеймс Джаспер (At¬kinson J., ?—1899), шотланд¬ский этнограф, автор работы «Первобытное право» (опубл. в 1903), где изложена теория «циклопической семьи» — 152
Ашар Марсель (Achard M., 1899—1974), французский дра¬матург — 320
Бальзак Оноре (Balzac Н., 1799— 1850), французский писатель — 55, 135, 384, 403, 410, 422, 468, 469, 487, 521, 522
Барбе д'Оревилли Жюль-Амеде (Barbey d'Aurevilly J., 1808— 1889), французский писатель-романтик — 509
Барнав Антуан (Barnave A., 1761 —1793), французский поли¬тический деятель, оратор — 134
Барон Этьен (Baron E.), автор учебных пособий по геогра¬фии — 335
Барюзи Жан (Baruzi J., 1881 — 1953), французский философ-бергсонианец, историк рели¬гии — 546
Батай Жорж (Bataille G., 1897— 1962), французский писатель, эссеист, стремившийся обнару¬жить в человеческом «я» уро¬вень «чистого» существования, лишенного атрибутов — 348, 415, 464, 485, 502, 508, 512
Башляр Гастон (Bachelard G., 1884—1962), французский фи-
603
лософ, один из создателей «суб¬станциального психоанализа» в эстетике — 74, 228, 262, 265, 269, 270, 345, 351, 492
Бенвенист Эмиль (Benveniste E., 1902—1976), французский линг¬вист — 453, 525, 546, 559
Бенда Жюльен (Benda J., 1867— 1956), французский писатель, эссеист — 334
Бенишу Поль (Benichou P., род. в 1908), французский литерату¬ровед, культуролог — 129
Бенци Роберто (Benzi R., род. в 1937), музыкант-вундеркинд, с 11-ти лет дирижировавший ор¬кестрами в Западной Европе, Америке, Африке и Японии — 52
Беркли Джордж (Berkeley G., 1685—1753), английский фило¬соф — 58
Бланшо Морис (Blanchot M., род. в 1907), французский писатель, критик, эссеист, пытавшийся описать феномен преломления сверхиндивидуальных содержа¬ний сквозь призму индивиду¬альной экзистенции — 286, 288, 289, 343, 347, 349, 350
Блен Жорж (Blin G., род. в 1917), французский литературовед, представитель «психологическо¬го» литературоведения — 362
Блок Марк (Bloch M., 1886— 1944), французский историк-ме¬диевист, автор работ по методо¬логии исторической науки — 212, 222
Блуа Леон — (Bloy L., 1846— 1917), французский писатель, памфлетист — 285
Боас Франц (Boas F., 1858— 1942), американский этнограф и языковед, предтеча дескриптив¬ной лингвистики — 532
Бодлер Шарль (Baudelaire Gh., 1821 —1867), французский поэт — 73, 78, 382, 385, 389, 396 428, 431, 457
Бональд Луи-Габриэль-Амбруаз де (Bonald L., 1754—1840),
французский философ, теоретик монархо-католицизма — 375
Брантом Пьер де Бурдей (Bran¬tome Р., ок. 1540—1614), фран¬цузский писатель-мемуарист — 521
Брейд Джеймс (Braid J., 1795— 1860), английский врач, сфор¬мулировавший понятие гипно¬тизма — 439
Брехт Бертольт (Brecht В., 1898— 1956), немецкий драматург — 60, 61, 64, 105, 127, 261, 276— 280, 387, 479, 485, 512, 560, 561
Брюнетьер Фердинанд (Brunetiere F., 1849—1906), французский литературовед, представитель позитивистской культурно-исто¬рической школы — 341, 362
Брюно Фердинанд (Brunot F., 1860—1938), французский линг¬вист, представитель социологи¬ческой школы в языкознании — 526, 528
Буало-Депрео Никола (Boileau-Despreaux N., 1636—1711), французский поэт, теоретик классицизма — 362
Булез Пьер (Boulez P., род. в 1925), французский-композитор, последователь А. Шенберга — 256, 294
Бурже Поль (Bourget P., 1852— 1935), французский писатель, испытавший влияние позитиви¬стского редукционизма — 224
Бэкон Фрэнсис (Bacon F., 1561 — 1626), английский философ — 483
Бюрна-Провен Маргерит (Burnat-Provins M., 1872—1952), фран¬цузская поэтесса-декадентка, художница — 51, 54
Бютор Мишель (Butor M., род. в 1926), французский писатель, представитель «нового рома¬на» — 245, 252, 256, 257, 293
Валери Поль (Valery P., 1871 — 1945), французский поэт, теоре¬тик искусства — 79, 139, 240, 386, 396, 442, 504, 546
604
Ван Гог Винсент (Van Gogh V., 1853—1890), голландский ху¬дожник — 385
Вебер Жан-Поль (Weber J.-P., род. в 1931), французский лите¬ратуровед, представитель «те¬матической критики» — 262
Вегенер Альфред (Wegener A, 1880—1930), немецкий геофи¬зик, автор теории дрейфа кон¬тинентов — 210
Верлен Поль (Verlaine Р., 1844— 1896), французский поэт— 133, 372
Верн Жюль (Verne J., 1828— 1905), французский писатель — 402, 405, 470, 494
Вернан Жан-Пьер (Vernant J.-P., род. в 1914), французский исто¬рик, мифолог — 390
Видаль де ла Бланш Поль (Vidale de la Blanche P., 1845—1918), французский географ — 68
Вико Джамбаттиста (Vico G., 1668—1744), итальянский мыс¬литель - 534
Вильгельм Оранский (Guillaume d'Orange, 1650—1702) — 222
Виолле-ле-Дюк Эжен (Viollet-le-Duc E., 1814—1879), француз¬ский архитектор — 104
Витар Никола (Vitard N., 1624— 1683), двоюродный брат Жана Расина — 227
Вольтер (Voltaire, наст. имя Франсуа Мари Аруэ, 1694— 1778), французский философ, писатель — 217, 339
Вьеле-Гриффен Франсис (Viele-Griffin F., 1864—1937), фран¬цузский поэт-символист — 352
Галуппи Бальдасаре (Galuppi В., 1706—1785), итальянский ком¬позитор — 209
Гарден Жан-Клод (Gardin J.-CI., род. в 1925), французский ар¬хеолог, применивший методы теории информации для анали-за исторического материала — 256
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
(Hegel G. W. F., 1770—1831), немецкий философ — 210, 259, 260, 544
Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (Holderlin F., 1770— 1843), немецкий поэт — 358
Генриетта Английская (Henriette d'Angleterre, Анна Стюарт, гер¬цогиня Орлеанская, 1644— 1670), дочь английского короля Карла I, жена Филиппа Ор¬леанского — 222
Геродот (ок. 484 — ок. 420 до н. э.), древнегреческий историк — 285
Гиннекен Якоб ван (Ginneken J. van, 1877—1945), голландский ученый-католик, языковед, ав¬тор книги «Принципы психоло¬гической лингвистики» (1908) __463
Гоббс Томас (Hobbes T., 1588— 1679), английский философ — 462, 501
Гольдман Люсьен (Goldmann L., 1913—1970), французский фи¬лософ, создатель школы «гене¬тического структурализма» в литературоведении — 129, 143, 188, 213, 220, 221, 223, 225, 228, 235, 262, 269, 286, 287, 290, 370
Гомер, древнегреческий поэт — 285
Гонкур Эдмон и Жюль (Goncourt E. и J., 1822—1896, 1830—1870), братья, французские писатели-натуралисты — 522
Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65 до н. э. — 8 до н. э.), римский поэт — 285
Граммон графиня де (Grammont, урожд. Елизавета Гамильтон, 1641 —1708), сторонница янсенистов — 213
Гране Марсель (Granet M., 1884— 1940), французский синолог, применивший социологические методы к изучению культуры, предшественник структурализма в этнологии — 215
Гранже Жиль-Гастон (Granget G.-G., род. в 1920), француз-
605
ский социолог, экономист, исто¬рик науки — 256
Грей Марина (Gray М.), писа¬тельница — 64
Греймас Альгирдас-Жюльен
(Greimas A.-J., род, в 1917), французский лингвист, семио¬тик, автор работ по структур¬ной поэтике —315, 523
Грин Жюльен (Green J., род. в 1900), французский писатель-католик — 494
Гумбольдт Вильгельм фон (Hum¬boldt W. von, 1767—1835), не¬мецкий философ — 357
Гуссерль Эдмунд (Husserl E., 1859—1938), немецкий фило¬соф-феноменолог — 195
Гюго Виктор (Hugo V., 1802— 1885), французский писатель — 134, 516, 551
Гюйота Пьер (Guyotat P., род. в 1940), французский писатель; в 70-е гг. примыкал к группе «Тель Кель» -- 543
Данте Алигьери (Dante Alighieri, 1265—1321), итальянский поэт — 359, 555
Дантон Жорж Жак— (Danton G.-J., 1759—1794), французский политический деятель — 501
Дарвин Чарлз Роберт (Darwin Gh., 1809—1882), английский натуралист; в работе «Проис¬хождение человека и половой отбор» (1871) предпринял по¬пытку объяснить возникновение экзогамии — 152, 153
Дармес Мариус (Darmes М., 1797—1841), заговорщик, поку¬шавшийся в 1840 г. на жизнь короля Луи-Филиппа — 516, 517
Дебюсси Клод (Debussy Cl., 1862—1918), французский ком¬позитор — 479
Де Квинси Томас (De Quincey T., 1785—1859), английский писа¬тель-романтик — 389
Делез Жиль (Deleuze G., род. в 1925), французский философ-структуралист — 522, 550
Деметрий Филерский (сер. IV в. — 283 до н. э.) — древнегреческий государственный деятель, ора¬тор — 342
Деррида Жак (Derrida J., род. в 1930), французский философ, представитель постструктура¬лизма — 454
Дефо Даниель (De Foe D., 1660— 1731), английский писатель— 406
Дидро Дени (Diderot D., 1713— 1784), французский философ, писатель — 321, 516
Диккенс Чарльз (Dickens Gh., 1812—1870), английский писа¬тель — 468
Доминичи Гастон (Dominici G.) — 48, 49, 122
Достоевский Федор Михайлович (1821 —1881), русский писатель — 199
Дрейфус Альфред (Dreyfus A., 1859—1935), французский офи¬цер, ложно обвиненный в госу¬дарственной измене — 134
Друэ Мину (Drouet M., наст. имя Мари-Ноэль Друэ, род. в 1947), французская поэтесса-вундер¬кинд — 48—56, 73, 119, 127
Думер Поль (Doumer P., 1857— 1932), французский политиче¬ский деятель, президент Фран¬ции в 1931 — 1932 гг. — 209
Дюбуа Жан (Dubois J.), совре¬менный французский лингвист, автор работы «Политическая и социальная лексика во Франции с 1860 по 1872 г.» (1962) — 526
Дюма Александр (Dumas A., 1802—1870), французский пи¬сатель — 422
Дюмезиль Жорж-Эдмон-Рауль (Dumezil G., 1898-1988), французский культуролог, исто¬рик религий — 256, 294
Дюпарк Тереза (Du Parc T., 1633—1668), французская дра-
606
матическая актриса — 213, 221, 227, 228, 229, 265
Дюприе Жерар (Dupriez G.) —122
Дюркгейм Эмиль (Durkheim E., 1858—1917), французский со¬циолог-позитивист — 520
Дютрей Николь (Dutreil N., род. в 1920), французская писатель¬ница — 64
Екатерина II (1729—1796), рус¬ская императрица — 334
Ельмслев Луи (Hjelmslev L., 1899—1965), датский лингвист, один из создателей глоссематики — 305, 315
Жазинский Рене (Jasinski R., 1898—1985), французский исто¬рик литературы — 217, 221 — 223, 225, 229, 230
Жданов Андрей Александрович (1896—1948), советский поли¬тический деятель — 129
Жене Жан (Genet J., 1910—1986), французский писатель, драма¬тург — 78, 420, 508
Жид Андре (Gide A., 1869— 1951), французский писатель — 133
Жирар Ален (Girard A., род. в 1914), французский социолог — 349
Жирар Рене (Girard R., род. в 1923), французский социолог, историк, литературовед -- 262, 370
Жироду Жан (Giraudoux J., 1882—1944), французский писа¬тель, драматург — 269
Золя Эмиль (Zola E., 1840— 1902), французский писатель — 55, 134, 283, 468, 470, 487, 494, 541, 551
Ионеско Эжен (Ionesco E., род. в 1912), французский драма¬тург, представитель «театра аб¬сурда» — 108, 140, 288, 292, 293
Камю Альбер (Camus A., 1913— 1960), французский философ-экзистенциалист, писатель — 279, 288
Карл I (Charles 1, 1600—1649), король Англии, Шотландии и Ирландии (1625—1649) — 222
Кастро Фидель (Castro F., род. в 1927), деятель кубинского и международного коммунистиче¬ского движения — 240
Кафка Франц (Kafka F., 1883— 1924), австрийский писатель — 137, 237, 354
Кейроль Жан (Cayrol J., род. в 1911) французский писатель— 293
Кейру Гастон (Cayrou G., 1880— ?), французский лексикограф — 325
Кемп Робер (Kemp R., 1879— 1959), французский литератур¬ный критик — 217
Кено Реймон (Queneau R., 1903— 1976), французский писатель — 292, 293, 334
Киркегор Сёрен (Kierkegaard S., 1813—1855), датский философ, писатель, предшественник экзи¬стенциализма — 176, 358, 550, 558
Клингсор Тристан (Klingsor T., наст. имя Леон Леклер, 1874— 1966), французский поэт, близ¬кий к «фантазистам» — 51
Клодель Поль (Claudel P., 1868— 1955), французский писатель-католик — 191, 272
Клоссовский Пьер (Klossovski P., род. в 1903), французский пи¬сатель, эссеист — 558
Кокто Жан (Cocteau J., 1889— 1963), французский писатель, художник, театральный дея¬тель— 50, 119
Кольридж Сэмюэль Тэйлор (Co¬leridge S. T., 1772—1834), ан¬глийский поэт-романтик, лите¬ратурный критик — 381
Корде Д'Арманс Шарлотта де (Corday Gh., 1768—1793), жирондистка, убийца Ж.-П. Ма¬рата — 392
607
Корелли Арканджело (Corelli A., 1653—1713), итальянский ком¬позитор, скрипач — 209
Корнель Пьер (Corneille P., 1606 1684), французский драма¬тург — 172, 179, 181, 206, 214, 224, 325, 326
Крёбер Альфред Луи (Kroeber А., 1876—1960), американский эт¬нограф, автор работы «Стиль и цивилизация» (1957)—235
Кристева Юлия (Kristeva J., род. в 1935), французский семиотик, представительница постструкту¬рализма — 503, 515
Кроче Бенедетто (Сrосе В., 1866— 1952), итальянский философ, эстетик, литературовед — 270
Курнонский (Curnonski, наст. имя Морис Эдмон Сайан, 1872— 1956), французский гастроном, автор книг о французской кухне и ее истории — 553
Курциус Эрнст Роберт (Curtius E. R., 1886-1956), немецкий литературовед — 395
Кюри Пьер (Curie P., 18.59—1906), французский физик — 190
Лакан Жак (Lacan J., 1901 — 1981), французский психоана¬литик, представитель постфрей¬дизма — 333, 348, 366, 415, 478, 492, 554
Лами Бернар (Lamy В., 1640— 1715), французский рациона¬лист, картезианец, автор работ по риторике — 218
Лансон Гюстав (Lanson G., 1857 —1934), французский литера¬туровед, представитель куль¬турно-исторической школы — 262, 267, 270, 271
Лафонтен Жан де (La Fontaine J. de, 1621 —1695), французский поэт, баснописец — 304
Леви-Стросс Клод (Levi-Strauss Cl., род. в 1908), французский этнолог-структуралист — 141, 249, 250, 256, 257, 260, 270, 348, 359, 409
Лейбниц Готфрид Вильгельм
(Leibniz G. W., 1646—1716) немецкий философ — 496
Ле Клезио Жан-Мари-Гюстаг, (Le Clezio J.-M.-G., род. н 1940), французский писатель — 347
Леклер Серж (Leclaire S., род. н 1924), французский психоаналитик, последователь Ж. Лакана — 478
Лемерсье Луи-Жан-Непомюсен (Lemercier N., 1771 — 1840), французский драматург, кри¬тик, сторонник классицизма — 330
Леметр Жюль (Lemaitre J., 1853— 1914), французский писатель и критик-импрессионист — 205
Ленуар Жаклин (Lenoire J.), со¬временная французская писа¬тельница — 64
Линкольн Авраам (Lincoln A.. 1809—1865), американский по¬литический деятель, президент США (1860-1865) — 60
Литтре Эмиль (Littre E., 1801-1881), французский филолог-по¬зитивист, автор многотомного «Словаря французского языка» (1863—1873) — 325
Лойола Игнатий (Loyola I., 1491 — 1556), испанский религиозный деятель, основатель ордена ие¬зуитов — 348
Лотреамон (Lautreamont, наст. имя Изидор-Люсьен Дюкас, 1846—1870), французский поэт — 362, 381, 492
Лукач Дьёрдь (Lukacs G., 1885— 1971), венгерский философ-марксист — 129, 269, 370
Людовик XIV (1638—1715), ко¬роль Франции (1643—1715) — 200
Малки Адуан (Malki A.) — 63
Малларме Стефан (Mallarme S., 1842—1898), французский поэт —131, 256, 269, 339, 343, 346, 352, 365, 367, 385, 386 422, 487, 555, 566
Мальро Андре (Malraux А., 1901 —
608
1976), французский писатель, эстетик — 102, 269
Мангейм Карл (Mannheim К., 1893—1947), немецкий социо¬лог — 226, 263
Манн Томас (Mann T., 1875— 1955), немецкий писатель — 568
Маркс Карл (Marx К., 1818— 1883) — 113, 117, 210, 235, 344, 479, 529, 533, 555
Маро Клеман (Marot С., 1496— 1544), французский поэт — 133
Марр Николай Яковлевич (1864— 1934), русский советский линг¬вист, создатель «яфетической теории» — 129
Матисс Анри (Matisse Н., 1869— 1954), французский художник — 492
Маторе Жорж (Matoret G., род. в 1908), французский лингвист, автор работы «Словарь и обще¬ство при Луи-Филиппе» (1951) — 526
Мей Жорж (May G., род. в 1920), американский литерату¬ровед, автор работ по француз¬ской литературе XVII—XVIII вв. — 167
Мейе Антуан (Meillet A., 1866— 1936), французский языковед, компаративист, представитель социологической школы в язы¬кознании — 525
Мемлинг Ганс (Memling Н., ок. 1433—1494), нидерландский художник — 509
Менетрие Клод-Франсуа (Menestrier С.-F., 1631 — 1705), фран¬цузский филолог, автор работ по геральдике — 304
Мерло-Понти Морис (Merleau-Ponty М., 1908—1961), фран¬цузский философ-экзистенциа¬лист, феноменолог — 249, 344, 546
Месмер Франц (Mesmer F., 1734— 1815), немецкий врач, создатель теории «животного магнетиз¬ма» — 439
Местр Жозеф граф де (Maistre J. de, 1753—1821), французский философ, писатель, теоретик монархо-католицизма — 134
Мишле Жюль (Michelet J., 1798— 1874), французский историк — 68, 216, 289, 290, 392, 393, 400, 533, 546, 554, 567, 568
Мольер Жан-Батист (Moliere J-B., наст. имя Жан-Батист Поклен, 1622—1673), французский дра¬матург — 54, 94, 172, 293, 325, 525
Мондриан Питер (Mondrian P., 1872—1944), нидерландский ху¬дожник-абстракционист — 252, 256, 257, 294
Монтень Мишель Эйкем де (Mon¬taigne М. de, 1533—1592), французский мыслитель-гума¬нист, эссеист — 133, 319
Монтескьу-Фезансак Робер граф де (Montesquiou-Fezensac R. de, 1855—1921), французский по¬эт — 266, 273, 386
Море Марсель (More M.), совре¬менный французский литератур¬ный критик — 411
Мориак Франсуа (Mauriac F., 1885—1970), французский пи¬сатель — 269, 336
Морон Шарль (Mauron Gh., 1899—1966), французский литературовед-неофрейдист, созда¬тель «психокритики» — 142, 143, 223, 225, 229, 267, 269, 286, 287
Мосс Марсель (Mauss M., 1872— 1950), французский этнолог, социолог — 133
Моцарт Вольфганг Амадей (Mo¬zart W. A., 1756—1791), ав¬стрийский композитор — 52, 55, 119
Мурнау Фридрих Вильгельм (Murnau F., 1889—1931), немецкий кинорежиссер — 501
Найт Рой Клемент (Knight R. С.), современный английский лите¬ратуровед, автор работ о Раси¬не — 229
Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte, 1769-1821), фран-
609
цузский император (1804— 1814) —62, 179
Неккер Жак (Necker J. 1732— 1804), французский государ¬ственный деятель, директор фи¬нансов в 1776—1790 гг. — 209
Низар Дезире (Nizard D., 1806— 1888), французский литератур¬ный критик, сторонник класси¬цизма — 330, 339
Николь Пьер (Nicole Р., 1625— 1695), французский писатель-моралист, янсенист — 399
Ницше Фридрих (Nietzsche F., 1844—1900), немецкий фило¬соф, представитель «философии жизни» — 344, 348, 484, 488, 495, 497, 510, 514, 528, 537, 539, 562
Ноай Анна графиня Матьё де (Noailles A. de, 1876—1933), французская поэтесса — 51
Нострадамус (Nostradamus, наст. имя Мишель де Нотрдам, 1503— 1566), французский врач, аст¬ролог, предсказатель — 321
Ньютон Исаак (Newton J., 1642— 1727), английский математик, физик, астроном — 527
Обиньяк Франсуа Эделен аббат д' (Aubignac F. Н. de, 1604 — 1676), французский писатель-классицист, литературный кри-тик — 206
Омбредан Андре (Ombredane A., 1898—1958), французский этно¬лог, психолог — 346
Онеггер Артюр (Honegger A., 1892—1955), французский ком¬позитор, швейцарец по проис¬хождению, один из основателей «шестерки» — 209
Орсибаль Жан-Поль-Луи (Orcibal J., род. в 1913), француз¬ский историк литературы и ре¬лигиозной мысли — 217, 221, 223
Остин Джон Л. (Austin J. L., 1911 — 1960), английский фило¬соф, представитель «лингвисти¬ческой философии» — 453
Пазолини Пьер Паоло (Pazolini P. P., 1922—1975), итальян¬ский писатель, кинорежиссер — 557
Парен Брис (Parin В., 1897— 1971), французский философ, автор работ по философии язы¬ка — 292
Паскаль Блез (Pascal В., 1623— 1662), французский философ — 52, 129, 220, 228, 235, 269, 286
Пиатье Жаклин (Piatier J.), сов¬ременная французская писа¬тельница, журналистка — 326
Пикар Реймон (Picard R., 1917— 1980), французский литературо¬вед, специалист по литературе XVII в., представитель «универ¬ситетской критики» — 143, 214, 217, 319—321, 324, 326, 330, 334, 362, 366, 367
Пируэ Жорж (Pirouet G., род. в 1920), швейцарский писатель, поэт, эссеист — 337, 338
Пишуа Клод (Pichois Cl., род. в 1935), французский литературо¬вед-компаративист — 212
Платон (428—348 до н. э.), древ¬негреческий философ — 188
Плейне Марселен (Pleinet M., род. в 1933), французский пи¬сатель, литературный критик, участник группы «Тель Кель» — 492
Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), русский философ-марксист — 221
По Эдгар Алан (Рое E., 1809— 1849), американский писатель — 382, 428, 429, 431—434, 436, 437, 439, 443, 444, 446, 455, 457, 458, 461, 497, 512
Помье Жан (Pommier J., 1893— 1973), французский литературо¬вед, представитель «универси¬тетской критики» — 143, 167, 213, 217, 230, 292, 408
Понж Франсис (Ponge F., 1899— 1988), французский поэт — 240, 269
Превер Жак (Prevert J., 1900— 1977), французский поэт — 285
610
Присциан (конец V — начало VI в.), римский грамматист — 372
Пропп Владимир Яковлевич (1895—1970), русский советский фольклорист, пионер структур¬ного изучения повествователь¬ных текстов — 250, 256, 294, 359
Пруст Марсель (Proust М., 1871 — 1922), французский писатель — 131, 241, 264, 266, 269, 273, 319, 324, 344, 346, 352, 374, 386, 420, 422, 469, 478, 480, 487, 490, 491, 494, 504, 508, 522, 525
Пуле Жорж (Poulet G., род. в 1902), бельгийский литературо¬вед-феноменолог, один из ини¬циаторов структурного изучения литературы во Франции — 144, 262, 270, 286, 287, 372
Пуссер Анри (Pousseur Н., род. в 1929), бельгийский компози¬тор, представитель бельгийской додекафонической школы — 257
Пьер аббат (Pierre, abbe, наст. имя Анри Груэ, род. в 1912), основатель благотворительного общества «Еммаус» — 59
Пюисегюр Арман-Марк-Жак де Шатене маркиз де (Puysegur A. de, 175I — 1825), французский генерал, адепт месмеризма — 439
Рабле Франсуа (Rabelais F., ок. 1494—1553), французский писа¬тель — 214, 477, 525
Расин Жан (Racine J., 1639— 1699), французский драма¬тург—137, 142—208, 211—213, 216—222, 224—232, 235, 263— 267, 269, 286, 289, 290, 291, 325, 326, 329, 330, 332, 343, 358, 359, 363, 372, 382
Рассел Бертран (Russel В., 1872— 1970), английский философ, представитель логического по¬зитивизма — 321
Ревель Жан-Франсуа (Revel J.-F., наст. имя Жан-Франсуа Рикар, РОД. в 1924), французский пи¬сатель, автор философско-публицистических эссе — 321 '
Ревзин Исаак Иосифович (1923— 1974), советский лингвист — 402
Рембо Артюр (Rimbaud A., 1854— 1891), французский поэт — 51, 52, 55, 119, 137, 140, 345
Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Н., 1606—1669) -голландский живописец — 163
Ренан Эрнест (Renan E., 1823— 1892), французский философ-позитивист — 549
Рибо Теодюль (Ribot T., 1839 — 1916), французский психолог, представитель ассоцианизма, основатель французской психо¬патологической школы — 231, 267
Риго Жак (Rigaut J., 1898— 1929), французский дадаист — 138
Рикёр Поль (Ric?ur P., род. в 1913), французский философ-герменевтик — 350
Ришар Жан-Пьер (Richard J.-P., род. в 1922), французский ли¬тературовед, представитель «те¬матической критики» — 102, 256, 262, 270, 286, 287, 290, 372
Роб-Грийе Ален (Robbe-Grillet A., род. в 1922), французский пи¬сатель, представитель «нового романа» — 132, 245, 252, 293, 477, 482
Робер Марта (Robert M., род. в 1914), французский литерату¬ровед, представительница «пси¬хологической критики» — 266, 354
Роршах Герман (Rorschach Н., 1884—1922), швейцарский пси¬хиатр, автор психологического теста, основанного на интерпре¬тации чернильных пятен — 314
Ружье Луи (Rougier L., 1889— 1982), французский философ, представитель логического по¬зитивизма — 321
Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа маркиз де (Sade A.-F., 1740— 1814), французский писатель —
611
348, 464, 473, 482, 492, 510, 516, 542
Сардуй Северо (Sarduy S., род. в 1937), кубинский писатель (живет во Франции), предста¬витель «латиноамериканского барокко»; в 60—70-е гг. был близок к группе «Тель Кель» — 466, 486, 502
Сарсэ Франсиск (Sarcey F., наст. имя Франсуа Сарсэ де Сютьер, 1827—1899), французский теат¬ральный критик, выступавший с позиций теории «здравого смыс¬ла» — 205
Сартр Жан-Поль (Sartre J.-P., 1905—1980), французский фи¬лософ-экзистенциалист — 75, 78, 101, 104, 123, 132, 224, 230, 262, 269, 279, 280, 560
Севинье Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де (Sevigne M. de, 1626—1696), французская писательница — 214, 491
Сегюр Софи графиня де (Segur S. de, урожд. Софья Федоровна Ростопчина, 1799—1874), фран¬цузская детская писательница; мотивы жестокости и насилия в ее романах компенсируются по¬бедой добра над злом — 482
Сезанн Поль (Cezanne P., 1839— 1906), французский художник-постимпрессионист — 477
Селеста (Celeste, Селеста Альбаре, 1891—?), домоправитель¬ница Пруста с 1913 по 1922 г. — 273
Селин Луи-Фердинанд (Celine L.-F., наст. имя Луи-Фердинанд Детуш, 1894—1961), француз¬ский писатель — 551
Сен-Жюст Луи-Антуан де (Saint-Juste L.-A. de, 1767—1794), французский политический дея¬тель, оратор, организатор рево¬люционного террора — 128
Сен-Марк Жирарден (Saint-Marc Girarden, наст. имя Марк Жи¬рарден, 1801 — 1873), француз¬ский писатель, литературный критик — 340
Сент-Бёв Шарль-Огюстен (Sainte-Beuve Ch.-A., 1804—1869), французский писатель, поэт, создатель «биографического ме¬тода» в литературной крити¬ке— 214, 270, 324
Серро Женевьева (Serreau G.,) современная французская пи¬сательница, публицистка — 61
Сико Сабина (Sicaud S., 1914— 1928), французская поэтесса-вундеркинд — 51
Симон Клод (Simon Cl., род. в 1913), французский писатель, представитель «нового рома¬на» — 293
Соллерс Филипп (Sollers Ph., род. в 1936), французский писатель, представитель «нового нового романа», критик, руководитель журнала «Тель Кель» — 293, 416, 466, 477, 486, 517, 543
Сорейа (род. в 1932), жена шаха Ирана Мохаммеда Реза Пех¬леви (разведена в 1958 г.) — 240
Соссюр Фердинанд де (Saussure F. de, 1857—1913), швейцар¬ский лингвист — 74, 77, 253, 270, 276, 309, 520, 559, 560
Софокл (ок. 496—406 до н. э.), древнегреческий драматург — 358
Сталин (наст. имя Джугашвили Иосиф Виссарионович, 1879— 1953) — 129
Сталь Никола де (Stael N. de, 1914—1955), французский ху¬дожник-авангардист — 477
Старобинский Жан (Starobinski J., род. в 1920), швейцарский литературовед, представитель «тематической критики» — 144, 262, 270, 286, 287, 291
Стендаль (Stendhal, наст. имя Анри-Мари Бейль, 1783—1842), французский писатель — 55, 236, 241, 290, 478, 490, 499
Страбон (ок. 58 до н. э. — ок. 25 н. э.), древнегреческий геог¬раф — 68
Судэ Поль (Souday P., 1869—
612
1929), французский литератур¬ный критик — 326
Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120), римский историк — 158, 229
Тибоде Альбер (Thibaudet A., 1874—1936), французский лите¬ратурный критик-бергсонианец — 416
Тиксье-Виньянкур Жан-Луи (Tixier-Vignancour J.-L., род. в 1907), французский политиче¬ский деятель, кандидат от «ультра» на президентских вы¬борах 1965 г. — 322
Толстой Лев Николаевич (1828— 1910), русский писатель—468
Томсон Джордж (Thomson G., род. в 1903), английский исто¬рик культуры, литературовед — 228
Трубецкой Николай Сергеевич (1890—1938), русский языко¬вед, создатель структурной фо¬нологии — 256
Тьер Адольф (Thiers A., 1797— 1877), французский историк, политический деятель — 400
Тьерри-Монье (Thierry-Maulnier, наст. имя Жак Талагран, 1909—1988), французский дра¬матург, эссеист, театральный критик — 211, 320
Тэн Ипполит (Taine Н., 1828— 1893), французский философ-по¬зитивист, представитель куль¬турно-исторической школы в литературоведении — 210, 235, 270, 341, 362
Фарук (1920—1965), король Егип¬та (1936—1952) — 106
Февр Люсьен (Febvre L., 1878— 1956) французский историк — 212—215, 217—219, 344
Федр (ок. 15 до н. э. — ок. 70 н. э.), римский баснописец — 79, 83
Флобер Гюстав (Flaubert G., 1821 — 1880), французский пи¬сатель— 103, 104, 131, 392, 393, 395—397, 400, 422, 467, 477, 478, 487, 491, 521—523, 532
Форнере Ксавье (Forneret X., 1809—1884), французский пи¬сатель, автор максим, построен¬ных на черном юморе, один из предшественников сюрреали¬стов — 452
Франкастель Пьер (Francastel P., 1900—1970), французский исто¬рик искусства; изучал живопись как симптом состояния цивили¬зации — 218
Фрейд Зигмунд (Freud S., 1856— 1939), австрийский врач-пси¬хиатр, создатель психоанали¬за — 77, 84, 85, 87, 152, 153, 248, 267, 331, 344, 358, 480, 495, 501, 533
Фридрих II (1712—1786), король Пруссии (1740—1786) — 334
Фриш Карл фон (Frisch K. von, 1886—1982), австрийский энто¬молог, расшифровавший меха¬низм передачи информации у пчел — 394
Фуко Мишель (Foucault M., 1926—1984), французский фило¬соф-структуралист — 546
Фурье Шарль (Fourier Ch., 1772— 1837), французский философ, социолог, представитель утопи¬ческого социализма — 136, 510, 516
Хомский Аврам Наум (Chomsky N. род. в 1928), американский лингвист, создатель трансформационно-генеративной грамма¬тики — 335, 356, 357, 503, 533
Хрущев Никита Сергеевич (1894 —1971), советский политиче¬ский деятель, с 1953 по 1964 г. — 1-й секретарь ЦК КПСС — 258, 279
Цельс Авл Корнелий (I в. до н. э. — I в. н. э.), римский врач-эн¬циклопедист — 321
Чайковский Петр Ильич (1840— 1893), русский композитор — 385
613
Чаплин Чарлз Спенсер (Chaplin Ch. S., 1889—1977), американ¬ский актер, кинорежиссер, сце¬нарист — 59—61
Шанмеле Мари-Демаре (Champmesle M.-D., 1642—1698), фран¬цузская драматическая актри¬са — 221
Шарко Жан-Мартен (Charcot J.-M., 1825—1893), француз¬ский врач-невропатолог, психо¬терапевт — 439
Шатобриан Франсуа-Рене де (Chateaubriand F.-R., 1768— 1848), французский писатель-романтик— 134, 416, 551
Шекспир Уильям (Shakespeare W., 1564—1616), английский драма¬тург — 274, 335, 359
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (Schelling F. W. J., 1775—1854), немецкий фило¬соф -- 58
Шпитцер Лео (Spitzer L., 1887— 1960), австрийский литерату¬ровед, представитель «стили¬стической школы» — 230, 270
Эзоп (VI в. до н. э.), древнегре¬ческий баснописец — 79, 83, 114
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—1948), советский кино¬режиссер — 460
Эйнштейн Альберт (Einstein A.. 1879—1955), физик-теоретик — 56—59, 100, 414
Эйфель Гюстав (Eiffel G., 1832-1923), французский инженер — 408
Энгельс Фридрих (Engels F., 1820-1895) — 76
Эпикур (341—270 до н. э.), древнегреческий философ — 516
Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) — 183
Эшби Уильям Росс (Ashby W. R., 1903—1972), английский кибернетик, изобретатель гомеостата— 135
Якобсон Роман Осипович (1896—1982), русский и американский филолог, один из создателей структурализма — 270, 294, 342. 352, 377, 409, 438, 532, 548
Содержание
Ролан Барт — семиолог, литературовед. Вступительная статья Г. К. Косикова.................. . . 3
Из книги «Мифологии».............. ... 46
Предисловие. Перевод Г. К. Косикова........ . . 46
I. Мифологии .................... 48
Литература и Мину Друэ. Перевод Г. К. Косикова . . 48
Мозг Эйнштейна. Перевод Б. П. Нарумова ... . . 56
Бедняк и пролетарий. Перевод Б. П. Нарумова..... 59
Фото-шоки. Перевод Б. П. Нарумова...... . . 61
Романы и дети. Перевод Б. П. Нарумова..... . . 64
Марсиане. Перевод Г. К. Косикова....... . . 66
Затерянный континент. Перевод Г. К. Косикова . . . 69
II. Миф сегодня. Перевод Б. П. Нарумова..... . . 72
Литература и метаязык. Перевод С. Н. Зенкина ... . . 131
Писатели и пишущие. Перевод С. Н. Зенкина .... . . 133
Из книги «О Расине». Перевод С. Л. Козлова........ 142
Предисловие.................. ... 142
I. Расиновский человек............. . . 146
1. Структура................. . . 146
III. История или литература?.......... . . 209
Литература сегодня. Перевод С. Н. Зенкина..... . . 233
Воображение знака. Перевод Н. А. Безменовой .... . . 246
Структурализм как деятельность. Перевод Н. А. Бeзменовой 253
Две критики. Перевод С. Н. Зенкина........ . . 262
Что такое критика? Перевод С. Н. Зенкина..... 269
Литература и значение. Перевод С. Н. Зенкина .... . . 276
Риторика образа. Перевод Г. К. Косикова..... . . 297
Критика и истина. Перевод Г. К. Косикова...... . . 319
От науки к литературе. Перевод С. Н. Зенкина .... . . 375
Смерть автора. Перевод С. Н. Зенкина.......... 384
Эффект реальности. Перевод С. Н. Зенкина........ 592
С чего начать? Перевод С. Н. Зенкина........ . . 401
От произведения к тексту. Перевод С. Н. Зенкина...... 413
Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По. Перевод Козловалова ......................... . 424
Удовольствие от текста. Перевод Г. К. Косикова . . . . 462
Разделение языков. Перевод С. Н. Зенкина . . . 519
Война языков. Перевод С. Н. Зенкина...... . 535
Гул языка. Перевод С. Н. Зенкина...... 541
Лекция. Перевод Г. К. Косикова........ 545
Комментарии. Составил Г. К. Носиков . 574
Библиография ............... 601
Именной указатель. Составил Г. К. Косиков 603
615
Ролан Барт
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ СЕМИОТИКА. ПОЭТИКА
В книге использованы архивные фотографии
Редактор В. Д. Мазо Младший редактор Р. И. Алимова
Художник Л. E. Смирнов
Художественный редактор С. В. Красовский
Технические редакторы Л. Ф. Шкилевич, Н. И. Касаткина
Корректор Г. М. Котлова
ИБ №16190
Сдано в набор 22.02.88. Подписано в печать 28.02.89. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура "литературная". Печать офсетная. Условн. печ. л. 32,34. Усл. кр.-отт. 64,98. Уч.-изд. л. 35,02. Тираж 9600 экз. Заказ № 328. Цена 2 р. 60 к. Изд. № 43596
Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прог¬ресс" Государственного комитета СССР по делам изда¬тельств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17. Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате В/О "Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книж-ной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.