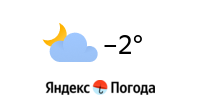Борис Акунин
Страсть и долг
Действительный тайный советник Гавриил Львович Курятников, запахнув полы подбитого ватой шлафрока — утро выдалось прохладное, — тихонько приоткрыл дверь казенной квартиры и спустился на скоростном лифте к почтовому ящику. Повернул ключ, вынул пачку свежих газет. Первым делом осторожно и брезгливо, как ядовитую змею, вытянул свежий номер «Московского богомольца» и зашуршал серыми страницами. На первой полосе любимой москвичами газеты во весь лист красовался заголовок вершковыми буквами: «ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ЛЮБИЛ ДОМАШНИХ ПТИЦ». И ниже, мельче, но все равно крупно: «Скандальные показания девиц легкого поведения против генерального прокурора Курятникова». Гавриил Львович застонал и покачнулся, схватившись рукой за высокий лоб. Разорвать, немедленно разорвать этот бульварный листок.
«Ведомости народных депутатов», как и подобает газете умеренного и респектабельного направления, поместили новость на второй странице и мелким шрифтом. Бог даст, Полинька не заметит — она всегда сразу перелистывает на страницу светской хроники и культуры. С «Русским словом» и «Московским созерцателем» тоже обстояло благополучно — редактора этих изданий относились к позиции Гавриила Львовича с уважением.
Истребив пасквильного «Богомольца», его превосходительство аккуратно свернул остальные газеты и положил их обратно в ящик. Вот проснется Полинька, выпьет кофею и спустится за свежей прессой. Теперь можно, нестрашно. С тех пор, как начался весь этот кошмар, телевизионные новости в доме, не сговариваясь, смотреть перестали — только голливудский сериал «Скорая помощь» и канал «Культура». Радио тоже не слушали.
О кошмаре в семье говорить было не принято — будто не было его, и все тут. Первые недели Полина Аполлоновна ходила вся почерневшая и смотреть на супруга избегала, а потом преодолела себя, поняла, что если еще и она мужа казнить станет — сломается Гавриил Львович, не выдержит. Не то чтобы даже пожалела его, клятвопреступника и блудодея, нет. Просто вспомнила о долге. Ведь одно дело — Ганечка, слабости и грехи которого за долгие годы замужества она изучила слишком даже хорошо, и совсем другое дело — генеральный прокурор Курятников, государственный муж и человек чести. То есть, конечно, было совершенно очевидно, что женского прощения Гавриилу Львовичу не дождаться никогда, но уважения супруги он, по крайней мере, не утратил. Как и своего собственного.
Да, слаб и грешен. Знал это за собой всю жизнь, еще с Пажеского корпуса, когда после вечерней молитвы лазил через забор и до рассвета пропадал в дешевых домах терпимости на Лиговке.
Страшный, сильный бес, имя которому сладострастие, с младых ногтей терзал плоть и душу Гани Курятникова лютым соблазном. По молодости лет справляться с напастью Гавриил Львович не умел вовсе и не раз попадал из-за своей пылкой влюбчивости и африканской чувственности в рискованные истории. Как только на юридическом поприще удержался — загадка. Верно, берег Курятникова ангел-хранитель, мощнокрылый Гавриил, от гибели, для некоей великой цели. А гибель по временам ходила близехонько. До сих пор в сырую погоду давал себя знать кусок свинца, засевший под правым локтем — напоминание о давней дуэли со втором секретарем Свято-Даниловского райкома из-за золотоволосой лорелеи замзаворгсектором. Да и позже, уже в Первопрестольной, случалось всякое — хлебнула Полина Аполлоновна, тогда еще просто Полинька, и горя, слез, и сердечных обид.
Но годам к тридцати, когда другие сластолюбцы только-только начинают втягиваться в Большой Разврат, свершилась с Курятниковым разительная перемена. Долг оказался сильнее чувственности. Вдруг дошло до Гавриила Львовича, что человек, избравший дорогу правосудия, должен быть безупречен и чист — иначе нет у него нравственного права охранять белоснежную тогу Закона.
И Курятников сумел одолеть злокозненного беса. Жизнь, до тех пор мутная и хмельная, сразу вошла в мирное, равнинное русло. Полинька ожила, помолодела, родила мужу одну за другой двух дочек, умниц и красавиц. И с карьерой пошло на лад: стал Гавриил Львович самым молодым в российской истории товарищем генерального прокурора, а после, в положенный срок, был сочтен достойным возглавить это почтенное ведомство.
И лишь одному Богу, а вернее, дьяволу известно, каких мук, какого неимоверного напряжения воли стоило Курятникову бесстрастно взирать на стройноногих секретарш в обтяжных мини-юбках, на сдобных, пышногрудых депутатш из фракции «Дамы России», на министра богоугодных дел Амалию Францевну фон Безе или даже просто на улыбчивых дикторш с канала НТВ (особенно его превосходительству нравилась одна черненькая, с легкой косиной в милых глазках).
Достигнув пятидесяти, решил было Гавриил Львович, что все, недолго осталось ему мучиться — скоро станет поспокойней, поутихнет неистовство гормонов, потеснится буйная плоть и даст дорогу покойной мудрости, благословенной награде зрелого возраста. Так ведь и вправду вроде как спокойней стало. Хотя бесстыдные, обжигающие сны мучили по-прежнему. Ну да что сны — это, как известно, материя безответственная и силе воле неподвластная.
И вдруг, как гром среди ясного предзакатного неба — то самое. Проклятое, благословенное, вознесшее до райских кущ и обрушившее в адские бездны. Казалось, все теперь отдал бы, чтобы не было той роковой ночи. А в то же время (сердце-то не обманешь) твердо знал Курятников: не случись той ночи, и жизнь ему была бы не в жизнь.
Произошло же вот что: действительный тайный советник Курятников, генеральный прокурор, кавалер Ордена Подвязки и звезды «За заслуги перед отечеством» 2-й степени, один из первейших сановников державы, влюбился сразу в двух женщин.
Даже и в юные, сумасшедшие годы такого с ним никогда не случалось, а тут на тебе.
Гавриил Львович расследовал дело огромной государственной важности. Знал, что ходит по лезвию бритвы. Всего можно было ожидать от злодеев: и публичной пощечины, и клеветы, и даже яду в любимом прокуроровом коктейле «маргарита».
Однажды его превосходительство подъезжал к зданию прокураторы в своем бронированном «даймлер-бенце». Оторвал глаза от секретной распечатки и обмер. У ворот стояла стройная барышня в шляпе со страусовым пером и в вуалетке. Встретив взгляд государственного человека, откинула дымчатый газ с тонкого лица, шагнула вперед (лимузин как раз притормаживал), и у Гавриила Львовича стиснулось в груди от мерцания ее ярко-зеленых глаз.
А в тот же день, вернее уже вечером, когда Курятников со своим швейцарским коллегой был в «Геликон-опере» на «Сказках Гофмана», он увидел давешнюю незнакомку в соседней ложе. Она обернулась, и генеральный прокурор ахнул: глаза у прелестницы оказались уже не зеленые, а синие-пресиние. Гавриил Львович взял себя в руки, вспомнив о существовании цветных контактных линз, и всецело отдался волшебному неистовству Офенбаха.
Погибель действительного тайного советника пришла назавтра, на рауте у английского посланника сэра Эндрю Вуда.
У мраморной лестницы, возле зеркала, Курятников увидел прекрасную незнакомку как бы раздвоившейся. Сначала решил, что это шутки венецианского зеркала, однако, приблизившись, понял, что девушек, действительно, две — у одной глаза были синие, как воды Красного моря в Эйлате, а у другой зеленые, как листья мяты. Гавриилу Львовичу вспомнилась картина Джона Эверетта Миллеса «Осенние листья», и, хотя Курятников знал, что любить прерафаэлитов — признак неважного вкуса (как раз об этом на последней встрече в Кремле он разговаривал с премьер-министром), но именно эта картина, на которой изображены две загадочные девушки с пленительными и тревожными глазами, еще с детства наполняла его душу неизъяснимым томлением.
Он сам подошел к сестрам-близнецам, никто его на аркане не тянул. Завязался разговор. Одна назвалась Одилией, другая Нормой. Ни фамилий, ни места службы своих новых знакомых Гавриил Львович не узнал — постеснялся спросить. Конечно, при его должности и почти неограниченных сыскных возможностях ничего не стоило бы выяснить такие пустяки, но слежка за дамами, да еще из личных видов, противоречила представлениям Курятникова о чести.
И началось наваждение. Гавриилу Львовичу снилась то зеленоглазая Одилия, то синеокая Норма, а иногда — и это было всего сладостней — обе сразу.
Развязался узел неожиданно.
Однажды, тому с полгода, секретарша принесла конверт. В нем — записка, пахнущая духами «Кэнзо» (младшая дочь генерального прокурора, студентка историко-филологического факультета РГГУ, пользовалась точно такими же). В записки ни единого слова — только адрес, вразлет начертанный алой губной помадой.
А слов было и не нужно. Гавриил Львович завернулся в плащ, надел широкополую шляпу и один, без свиты, даже без телохранителей, что было чистейшим безумием, вышел на окутанную сизыми сумерками Большую Дмитровку. По дороге терзался догадкой: которая? То хотелось, чтобы это непременно оказалась Норма, а потом вдруг начинал шептать: «Одилия, Одилия, Одилия».
Дверь открылась навстречу сама собой, когда палец в желтой лайковой перчатке еще только тянулся к звонку.
За распахнутыми створками чернел благоуханный мрак. «Иногда я жду тебя», — чарующе выпевал голос Алсу, любимой певицы действительного тайного советника.
Курятников шагнул вперед, и его обняли невидимые обнаженные руки — но не две, а четыре, и даже будто не четыре, а много больше. В объятьях этой тысячерукой, тысяченогой богини Гавриил Львович провел сладостнейшую ночь своей жизни.
Ну, а дальнейшее что ж — дальнейшее известно: гнусный шантаж, видеопленка, запросы в парламенте и тягчайшее, незаслуженнейшее оскорбление — высочайший рескрипт об отстранении от должности.
Застрелиться — конечно же, таков был первый порыв: умереть, уснуть, и знать, что с этим сном исчезнут все волненья сердца, тысячи страданий…
Пустить себе пулю в лоб — это было бы простительной слабостью, но о чем Гавриил Львович не думал ни минуты, так это о добровольной отставке. Пренебречь долгом, не довести до конца важнейшее расследование, от которого зависело будущее не только России, но и всего человечества! Нет, нужно было проявить твердость, нести свой крест до конца.
От опального генпрокурора отвернулись многие, очень многие. Но не все, потому что для российского чиновничества слово «честь», слава богу, — не пустой звук.
На запросы сенаторов и депутатов Гавриил Львович отвечать отказался, потому что благородный человек не рассказывает публично о своих женщинах, даже если они повели себя недостойно. А если уж сказать всю правду, до сегодняшнего утра в бедном сердце его превосходительства теплилась робкая, почти безумная надежда: а может быть, Одилия и Норма тоже стали жертвами чудовищной интриги? И тогда приходил на помощь священный принцип, имя которому Презумпция.
И вот сегодня новый удар. «Скандальные показания девиц легкого поведения»…
Как там, в финале «Короля Лира»: «Разбейся, сердце. Как ты не разбилось?»
Тихо ступая, Гавриил Львович миновал гостиную и остановился у входа в спальню жены.
Полинька, светлый ангел, еще спала
Борис Акунин
Невольник чести
Вошел в студию на негнущихся, деревянных ногах, словно поднимался на эшафот. Если только можно, Авва Отче, эту чашу мимо пронеси.
Не пронесет — нельзя.
Пока не включили камеру, Ипполит Вяземский, ведущий самой рейтинговой из всех информационно-аналитических программ Императорского телевидения, сидел, закрыв лицо руками, и думал: вот бы сейчас остановилось сердце. Откинуться назад, опрокинуться вместе с креслом и никогда, никогда больше не видеть этого массивного чиппендельского стола с батареей бутафорских телефонов, этого слепящего света, этого ненавистного серебристого задника с размашистой надписью «Честно говоря».
Взял себя в руки, выпрямился, по привычке проверил безупречность крахмальных воротничков. До эфира оставалось десять секунд, уже пошла заставка: мужественный красавец с трехдневной щетиной на волевом подбородке и рассыпавшейся пшеничной прядью вкось (он самый, Ипполит Вяземский) тянет микрофон прямо к белым губам умирающего драгуна, а вокруг разрывы смертоносной шимозы, чмоканье о землю разрывных пуль дум-дум, и видно, как за Тереком гарцуют немирные горцы в папахах и черкесках с газырями. Разумеется, монтаж. Никогда в жизни Ипполит не совершил бы такой подлости — интервьюировать человека, которому предстоит вот-вот встретиться с вечностью. Но опросы показали, что с новой заставкой рейтинг передачи стал на ноль целых восемь десятых выше. Основной зритель программы — мелкие чиновники, приказчики и мастеровые, самый костяк электората, а им, согласно исследованиям специалистов по массовому сознанию, нравится мелодрама с латентными садо-мазохистскими коннотациями.
«Господи Боже, прости и укрепи», — мысленно поправил Ипполит молитву нобелевского лауреата и твердым, красивым баритоном начал, сурово глядя в круглое дуло объектива:
— Здравствуйте, дамы и господа. В студии ваш покорный слуга Ипполит Вяземский. Вы снова смотрите честную и беспристрастную передачу «Честно говоря». Сегодня нас с вами ожидает любопытнейшая экскурсия в некие интимные чертоги, куда не то что царь, но даже и сам столичный генерал-губернатор ходит исключительно пешком.
Визажисты и имиджмейкеры не раз говорили Ипполиту, что он держится перед камерой не совсем правильно, слишком уж напряжен и неподвижен лицом. Поначалу множество нареканий вызывало и обыкновение ведущего держать левую руку под столом — это было неверно с точки зрения мимопсихологии. Но потом выяснилось, что телезрители к этой манере привыкли и даже полюбили ее, а обозреватели стали писать, будто Вяземский держит руку под столом нарочно, как бы намекая, что главный козырь он припрятывает на будущее.
О, если б они знали, что пальцы невидимой для камеры руки намертво стиснуты, а ногти впиваются в ладонь, так что после эфира остаются кровавые стигматы — особенно в те дни, когда приходится говорить чудовищные гнусности. Как, например, сегодня.
Ипполит привык на своей тошнотворной службе ко всякому, но испытание, выпавшее на его долю нынче, превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. С мерзостью приготовленного материала не шли ни в какое сравнение ни позорнейший спецрепортаж о педофилии в стенах Святейшего Синода (пришлось расплачиваться нервным срывом и тремя неделями бессонницы), ни даже фальшивая сенсация о перемене пола председателем коммунистической партии, достойнейшим человеком и образцовым семьянином (коммунисты, разумеется, проиграли императорские выборы, но с Ипполитом случился микроинфаркт).
Вчера Вяземского вызвал Шеф и в своей всегдашней задушевной манере сказал:
— Ипа, золотко, горю. На тебя вся надежда. Выручай. ГубоК наехал — по всему меню: банки, шманки, офшоры, хуеры. Понял, гнида лысая, куда ветер дует. Дедушка снова в отключке, вот псы и борзеют. Сделай Губка, как ты умеешь. В нокаут, в кашу. Без интеллигентских соплей. Ты ж волк, а не какой-нибудь слюнявый Доренко-Пидоренко.
Шеф коротко хохотнул, а Ипполит болезненно улыбнулся — его покоробил грубый выпад в адрес уважаемого коллеги.
Когда же он просмотрел полученные от Шефа видеоматериалы, стало совсем худо. Всю ночь просидел в монтажной, то куря крепкие французские сигареты, то глотая сердечное. Один раз — на счастье рядом никого не было — из груди вырвалось глухое, сдавленное рыдание.
Бедный ГубоК (так называли столичного генерал-губернатора — кто любовно, а кто и неприязненно) не заслужил этого подлого, запрещенного удара, равнозначного политическому убийству. Ипполит всегда симпатизировал маленькому, энергичному человеку, при котором Первопрестольная похорошела, посвежела, украсилась дивной красоты монументами. Столичные обыватели недаром полюбили потертую треуголку Губка и его знаменитые нафиксатуаренные усы а-ля фюрст Бисмарк. Ну себе на уме, ну окружен вороватыми чиновниками, ну любит и сам хорошо пожить, но зато ведь и о городе не забывает, а маленькие слабости — у кого их нет?
И вот этого славного хлопотуна он, Ипполит Вяземский, должен втоптать в грязь. Невыносимо!
Но Ипполит Вяземский — человек слова и исполнит долг чести. Как сказал великий Лао-цзы: «Благородный муж знает, что нет ничего белее признательности и чернее неблагодарности». Эта цитата не раз в трудную минуту укрепляла израненную душу тележурналиста.
— Честно говоря, каждый из нас частенько наведывается в это уединенное место, — сказал Ипполит в камеру, чуть скривив уголок рта в саркастической усмешке. — И простые трудяги, и духовные особы, и звезды эстрады, и даже (многозначительная пауза) вершители наших судеб.
На экране замелькали картинки всевозможных туалетов: деревенский нужник, вокзальный сортир, совмещенный санузел хрущобы, малахитовый гигиенический гарнитур из новорусского дворца (очень вероятно, что Шефу же и принадлежащего).
— Ими-то, вершителями, мы сейчас и займемся. Честно говоря, нам стало интересно, на каких стульчаках восседают народные избранники — да вот хоть бы наш неутомимый генерал-губернатор, избирательная кампания которого построена на похвальном лозунге «Покупаем отечественное!»
Ипполит просто физически ощутил, как рейтинг программы рванулся кверху. Электорат перестал рыскать по каналам, мечась между ток-шоу и футбольным обозрением, припал к экранам Императорского канала. По просторам великой державы прокатился многоголосый крик: «Ма-ань! Хорош по телефону болтать, давай сюда!»
— Честно говоря, мы были уверены, что наш главный патриот проводит самые сокровенные минуты своей жизни наедине с унитазом родного Пролетарского завода, который бьется, как рыба о лед, пытаясь сбыть свою незатейливую продукцию.
На экране крупным планом возник фаянсовый раструб уродливого творения подмосковных мастеров и наложением — изможденные лица сидящих без зарплаты рабочих. А сейчас — первый нокдаун:
— У нашего генерал-губернатора три уборных в одной квартире, три в другой, четыре в загородном особняке и еще несколько в охотничьем домике. Ах, какой завидный рынок сбыта для отечественных производителей, подумали мы, — с деланой наивностью проговорил Ипполит и хищно подмигнул. — Ну и, по нашей обычной привычке, решили проверить. Смотрим отчет нашего специального корреспондента.
Пошел большой, восьмиминутный сюжет — тошнотворные съемки скрытой камерой. Бедняга Губок — кто же за него после такого проголосует…
Смотреть эту гадость еще раз у Ипполита не было сил. Он показал ассистенту, что сейчас вернется, и, пошатываясь, удалился в умывальную.
Проглотил противорвотную таблетку. С ненавистью поглядел в зеркало на свое гладкое, лоснящееся от грима лицо.
После прошлой передачи Липочка, придя из пансиона, спросила: «Папа, а что такое «подонок»? Зинаидыванна говорит, что ты подонок.»
Один звонок Шефу, и Зинаидыванна вылетела бы с завидного места, а заодно с ней и директриса. Но Ипполит доносительствовать не стал — просто забрал обеих дочерей из пансиона.
Потому что бесстрашная Зинаидыванна права. Он подонок, и знает это лучше, чем кто-либо другой.
Бедные девочки, Липочка и Аглая, еще не раз доведется им выслушивать такое про папу. И ведь не объяснишь, не растолкуешь, что если Ипполит Вяземский и подонок, то исключительно из соображений чести. Он — невольник чести. Или подонок чести — это одно и то же.
Шесть лет назад, когда он был подающим надежды, но скромным, еще очень скромным репортером, случилось несчастье. Жена, обожаемая Настенька, которая, по заверениям врачей, должна была родить двойню, произвела на свет сиамских близнецов — двух крошечных девочек, сросшихся бочками. Охваченный ужасом и отчаянием Ипполит сбился с ног и выяснил, что только в далеком Аомыне есть чудо-хирург доктор Лю, который может разъединить малюток, сохранив жизнь обеим. Однако операция китайского кудесника стоила полмиллиона долларов, а в ту пору для Вяземского это была совершенно фантастическая сумма. Лучше бы уж его не было вовсе, этого доктора Лю — легче было бы мириться с трагедией. Мысль о том, что спасение возможно, но из-за проклятой бедности недоступно, сводила Ипполита с ума. А между тем шли недели, месяцы, и каждый потерянный день уменьшал шансы на успех операции.
И вдруг свершилось чудо. Ипполиту позвонил Шеф, находившийся тогда в самом зените могущества. Сказал: «Слышал о твоей проблеме. Подваливай ко мне в Кремль. Ты парень способный, надо помочь». А ведь они тогда еще даже не были знакомы!
Операция прошла успешно, дочки превратились из двухголового змея-горыныча в очаровательных резвуний и хохотушек. Ипполит же дал себе клятву: для этого человека он сделает все. Такой долг невозможно было выплатить даже собственной жизнью.
А расплата и вышла много дороже, чем просто жизнь. Во всяком случае, для человека чести.
Теперь могущество Шефа пошатнулось. Газеты прочат ему скорое падение, суму и тюрьму. Так неужто в эту горькую годину Вяземский предаст своего благодетеля? Именно теперь, когда Шеф так нуждается в помощи! Нет, в роду Вяземских так не поступают.
Над зеркалом замигала красная лампочка — через тридцать секунд выход в эфир.
Ипполит бросился назад в студию, сел в кресло. Ассистент молниеносным движением поправил ведущему пробор и отскочил в сторону.
Уверенным голосом, с недоброй усмешкой Ипполит сказал в камеру:
— Вы имели возможность лицезреть любителя отечественной продукции восседающим на унитазах во всех его резиденциях поочередно. Иностранное происхождение раззолоченных сосудов, которым его превосходительство доверяет лелеять свою филейную часть, очевидно. Честно говоря, поневоле вспоминается народная присказка: «Кто сладко жрет, тот ……» — и Вяземский произнес в рифму чудовищную гадость, им же самим сочиненную — народ тут был не при чем.
От омерзения ногти впились в ладонь до крови.
Борис Акунин
Восток и Запад
Хаджи Муратов спустился с гор, чтобы немножко повоевать. Его мюридам стало скучно отсиживаться в мрачных ущельях, а еще нужно было отомстить неверным за великого Имама, коварно убитого прилетевшей из неба ракетой.
Ехали на грузовиках по гладкому шоссе. Время от времени попадались заставы, но, слава Аллаху, русские падки на бакшиш, а серебра у Муратова было много. Он уже начал думать, что сможет доехать по широкой равнине до самого главного города гяуров, который, если верить телевизору, сиял разноцветными огнями и совсем не знал, что такое война. Но на рассвете, у въезда в большой поселок, названия которого наиб не запомнил, удача от него отвернулась. На горе поселку начальник кордона оказался очень честным, а может быть, очень глупым. Он не взял денег и стал стрелять.
Нукеры убили упрямого офицера и его людей, но после этого ехать дальше стало нельзя. Воины рассыпались по сонным улицам, для острастки постреливая по окнам домов, а со всех сторон уже стекались солдаты и казаки.
Пускай здесь, решил Хаджи, это место не хуже всякого другого. И пожалел только, что не запомнил, как называется селение, где ему суждено встретиться с Аллахом.
Посреди поселка был большой белый дом с толстыми стенами, окруженный высокой оградой. В таком можно долго обороняться.
Люди Муратова вбежали в вестибюль, расположились у окон, высунули наружу стволы автоматов и начали стрелять. Однако гяуры на огонь вдруг отвечать перестали, хотя на улицах становилось все больше бронетранспортеров, а в небе гудели боевые вертолеты.
Потом к наибу подошел Курбан и сказал:
— Плохо, Хаджи. Они не стреляют, потому что это больница.
2.
Получив известие о том, что чеченские абреки захватили больницу, где находятся сотни мирных обывателей, премьер-министр Виктор Степанович Лорис-Меликов обернулся к образам и перекрестился. Настал час, которого он со страхом ждал с того самого дня, когда решил ступить на поприще общественного служения. Он знал, что рано или поздно судьба поставит его перед выбором, который на самом деле выбором не является. Виктор Степанович всегда говорил, что человек, посвятивший свою жизнь народу, перестает принадлежать себе. Теперь настало время, когда эти слова придется подтвердить делом.
— Подготовить мой самолет, — сказал он помощнику. — Я вылетаю.
Помощник напомнил:
— Вас просила позвонить Ариадна Аркадьевна.
— Да-да, после, — кивнул Лорис-Меликов и пообещал себе, что о жене пока думать не будет — сейчас требовалась непреклонная твердость.
3.
Мюриды почтительно наблюдали, как Хаджи, опустившись на колени подле стенгазеты «Наша забота — здоровье трудящихся», молится Всевышнему.
Вразуми, научи, — шептал Муратов, прижавшись лбом к холодному линолеуму. Как поступить? Нельзя, чтобы пострадали невинные.
Больницу обложили со всех сторон. Мюриды попытались было выпустить через служебный вход хотя бы рожениц, но стоило двери чуть приоткрыться, как с площади, не разбирая, ударили из крупнокалиберного пулемета — одну женщину убили и двух ранили.
Как вывести отсюда больных и врачей, чтобы не путались под ногами и не мешали воевать? Ведь Пророк сказал: «Да не будут твоими врагами малые и слабые».
Аллах не давал ответа. Видно, Сам не знал, как тут быть.
4.
Аэропорт «Минводы» остался позади. Министерский кортеж на сумасшедшей скорости несся мимо пыльных станиц.
Лорис-Меликов еще раз спросил себя, уже безо всякой надежды: быть может, существует какой-нибудь иной выход?
Нет, иного выхода не было.
Разумеется, идти на поводу у разбойников нельзя. Довольно один раз уступить — и начнется целая вакханалия похищений и захватов заложников. Каждая жизнь, выкупленная сегодня, завтра и послезавтра отольется сотнями и тысячами смертей. Нет-нет, тысячу раз правы израильтяне: никаких уступок, никаких сделок, никакого торга. Заплатить кровавую цену один раз, чтобы не пришлось платить вновь и вновь. Он, Лорис-Меликов, властью, данной ему Богом и государем, берет ответственность на себя.
Пользуясь тем, что адъютант заклевал носом, премьер-министр украдкой выудил из-под рубашки золотой медальон и поцеловал спрятанную в нем женскую фотографию.
Прости, мое сокровище, и не осуждай.
— Полковник. — Виктор Степанович осторожно тронул адъютанта за плечо. — Алоизий Христофорович, проснитесь. Соедините-ка меня, голубчик, с Муратовым.
5.
Телефон в кабинете главврача, не подававший признаков жизни уже много часов, оглушительно затрезвонил. Курбан доложил, что с наибом хочет говорить самый главный гяурский начальник Лорис-Меликов, лютый враг чеченского народа.
Хаджи взял трубку с тяжелым чувством. Знал, что сейчас услышит. Министр скажет: сдавайся, Муратов, и тогда я позволю невинным выйти наружу. Иначе твое имя будет навеки опозорено, а твоя честь вывалена в грязи.
— Я, — коротко сказал Хаджи в микрофон и закрыл глаза, еще не решив, как будет отвечать. Как жаль, что Аллах в бесконечной мудрости Своей запретил самоубийство.
— Хаджи Муратов, вы меня слышите? — услышал он голос, много раз слышанный по телевизору.
— Да.
— Хаджи Муратов, это вы? — спросил Виктор Степанович, не уверенный, что односложно отвечавший человек достаточно знает русский. — Я не стану вести с вами переговоры до тех пор, пока все больные и медперсонал не будут освобождены. Вы меня поняли?
Молчание.
— Вместо всех этих людей предлагаю в заложники себя, — сказал Лорис-Меликов, отчетливо выговаривая каждое слово.
Тут он вспомнил, что не так давно один из политиков в предвыборной ажитации уже предлагал обменять себя на всех кавказских пленников чохом, и поспешил добавить:
— Это не демагогия, Муратов. Я приду к вам, а вы откроете двери и всех отпустите. В обмен на девятьсот гражданских лиц вы получите премьер-министра России. Выгодная сделка, соглашайтесь. И тогда я выслушаю все ваши требования.
В запечатанном конверте лежал приказ, составленный еще в самолете: через десять минут после того, как из больницы выйдет последний заложник, нанести по зданию бомбовый удар и вперед, на штурм. Под обломками погибнут все злодеи, а вместе с ними и Виктор Степанович Лорис-Меликов, но после этого ни один террорист больше не посмеет брать российских подданных в заложники. Никогда.
Хаджи подумал: вот оно — чудо, явленное Аллахом. Честь будет спасена, и сдаваться не придется. Еще повоюем. Подумал и так: если бы все министры Белого Царя были, как этот, то, может, и независимости не нужно. Вслух же сказал:
— Воины Ислама за женщин и больных не прячутся. Придержи своих шакалов, чтоб не стреляли. А сам не приходи. Зачем ты мне?
6.
Последним из ворот вышел главврач — это было в 18.07. Он немного постоял, обернувшись к больничному корпусу, словно хотел с ним попрощаться, и бегом пересек пустую площадь.
В 18.30 начался обстрел, потом бомбардировка. Бой же шел еще много часов — сражались сначала на первом этаже, потом на втором, на третьем, на четвертом и наконец на крыше.
Была уже глубокая ночь, когда в актовый зал гимназии, где расположился Временный штаб, вошел уездный воинский начальник и с поклоном поставил на стол перед Лорис-Меликовым отрезанную голову Хаджи Муратова.
— Ваше высокопревосходительство, живых ни одного не взяли, — развел руками генерал.
Голова абрека была сверху бритая, а снизу заросшая густой черной бородой. Открытые глаза оказались голубыми. Они свирепо смотрели куда-то сквозь премьер-министра, но в целом мертвое лицо выглядело спокойным и даже, пожалуй, безмятежным.
East is East, West is West, печально подумал Виктор Степанович, которого второе рождение настроило на поэтический лад. Очевидно, придется отпустить этих диких детей гор на волю. Пусть живут себе, как хотят. Насильно мил не будешь.
Борис Акунин
Тефаль, ты думаешь о нас
Точным движением иллюзиониста Ягкфи сдернул со стеклянного куба белую драпировку, и взорам попечительской комиссии предстало последнее творение главного столичного ваятеля.
После долгой, по меньшей мере минутной паузы генерал-губернатор спросил, насупя редкие белесые бровки:
— Это у тя че?
— Она самая, — чуть покраснев, ответил Ягкфи. — Триумфальная арка в честь 55-летия Великой Победы. Хороша, да?
Его превосходительство сделался сначала багровым, потом сизым и под конец даже лиловым.
— Ты че? — медленно проговорил он, начиная сильно сердиться. — Ты, блин, че? Ты на чью мельницу? Ты, генацвали, меня совсем за сявку держишь? Мало мне твоей дули на Крымской! Чтоб я перед выборами заместо Василия Блаженного поставил на Красной площади вот эту… эту…
Генерал-губернатор задохнулся, так и не найдя достойного определения для творения президента Императорской академии изящных художеств.
Ягкфи быстро обвел взглядом сидящих за столом и понял, что дело плохо. Лица у попечителей были потерянные, а заместитель генерал-губернатора по строительству, утонченная душа и поклонник югендстиля, застроивший всю Древнепрестольную чудесными зданиями а-ля Сецессион, кажется, был близок к обмороку.
Что ж, беднягу можно было понять. Арка и в самом деле смотрелась премерзко: гигантская белая загогулина, и сверху — урод-Освободитель, тычущий в небо фаллообразным автоматом ППШ. В нем-то, автомате, и заключался весь смысл Конструкции, но не объяснять же это членам комиссии!
Значит, опять, как во время утверждения памятника Отцу Русского Флота, придется прибегнуть к куммупенетрации, с тоскливым чувством подумал Ягкфи. А что прикажете делать?
Он посмотрел лиловому генерал-губернатору в маленькие, замутившиеся от ярости глазки, переключил растринг с шестой позиции на четырнадцатую и звучным, размеренным голосом заговорил:
— Снеся безвкусную эклектическую постройку, запирающую главную площадь демократической России в контур меж мавзолеем тоталитарного идола и напоминанием о кровавых годах опричнины, мы очищаем легкие нашей столицы для вдыхания свежего воздуха нового тысячелетия и меняем весь энергетический окрас кровеносной системы столицы с венозно-багряного на артериально-алый, светлый, жизнеутверждающий…
Через минуту импульс начал действовать, и генерал-губернатор, будто погрузившись в транс, стал одобрительно покачивать головой и слегка пошлепывать мягкими губами в такт велеречивой бессмыслице.
— Да, — сказал он наконец. — Да, в трынду Василия. Сука такая, вздохнуть площади не дает. Ставь свою хреновину.
Старика было жалко, но времени оставалось катастрофически мало — не до сантиментов. Остальные члены комиссии тут же единогласно утвердили проект, а пресс-секретарь его превосходительства подошел и, обласкав триумфатора бархатистыми восточными глазами, шепнул: «Все моими стараниями-с. С вас, душа моя, причитается». Жалкий мздоимец. Знал бы он…
Как обычно, куммупенетрация отняла много праны, и по широкой белой лестнице генерал-губернаторовой резиденции Ягкфи спускался совершенно обессиленным. Начальник охраны, ожидавший в вестибюле, лаконично, по-военному, доложил:
— Через главный нельзя. Демонстранты. Уже пронюхали. Разорвут. Пожалуйте через черный.
Но и у черного хода вышло не слава Тефалю. Едва Ягкфи шагнул из дубовых дверей под холодный ноябрьский дождик, как из-за колонны выскочил какой-то очкастый, бородатый и бросился на зодчего с кухонным ножом. Перехваченный бдительными телохранителями, забился в их крепких руках, истошно завопил, клацая зубами:
— За что, за что ты так ненавидишь Москву, зверь?! Что она, бедная, тебе сделала?!
Ягкфи распорядился отпустить несчастного безумца, а сам, опечаленный, сел в «паккард» и велел ехать домой. Бедные, заблудшие, Тефаль им судья. Не ведают, что творят.
Труднее всего было привыкнуть к этой слепой ненависти, хотя и москвичей, конечно, тоже понять можно. Подгоняемый неумолимым напором времени, он понаставил на Москве немало отвратительнейших чудищ. Сначала — бронзовый бестиарий у священной кремлевской стены, потом нарезанного ломтиками, да еше и пронзенного рогатиной змееныша на Наполеоновой горе, потом ключевой элемент всей Конструкции — кошмарного истукана над съежившейся Москвой-рекой. Сего последнего невежественные туземцы пытались подорвать, да уберег Всемилостивый Тефаль.
Зато теперь, с принятием проекта Триумфальной Арки, задание было почти исполнено. Взорвать злосчастный, ни в чем не повинный храм с его узорчатыми луковками — неделя; кое-как соорудить (или, как говорит его превосходительство, сляпать) белый бетонный каркас с гипсовым автоматчиком — две недели; еще восемь дней на сборку замаскированного в автомате гиперлокатора. И тогда все будет готово: невидимая дуга копронаведения перекинется от автоматного дула к кудлатой башке пучеглазого царя, а два корректирующих луча (кольцеобразный микродиапазоновый с Наполеоновой горы и диффузионный от Манежных зверушек) не дадут сигналу ослабнуть. Задание Межзвездного комитета будет выполнено точно и в срок.
Президент изящной Академии запер за собой дверь спальни, встал перед зеркалом, покривившись, посмотрел на свое отражение: вислые щеки, мясистые губы, хрящеватый ком носа. Обитатели Земли простодушны, неиспорчены, по-своему даже трогательны, только вот внешность у них — с непривычки испугаешься. Да и привычка не больно-то помогает. Этак забудешь, как выглядят нормальные лица.
Он оглянулся, борясь с искушением. А что? Дома никого. Опять же дело сделано — можно себя и побаловать.
Решительно расстегнул шов, скрытый в жировых складках шеи, взялся рукой за подбородочные брыли, осторожно потянул, и маска капюшоном повисла на спине.
Хорош, ох как хорош собой был Ягкфи Еыукуеудш (так на самом деле звали существо, известное столичным жителям под совсем иным именем) — той редкостной, драгоценной красотой, что встречается лишь на старинных мезогранских селенограммах: точеная линия зубохвата, мужественные кольцесбросы страмзы, мягкий, лучистый свет люминозыров (особенно левого нижнего, прикрытого подрагивающим полупрозрачным стробовеком).
Милая, милая, произнес про себя Ягкфи, воскрешая в памяти дорогие сердцу черты. Ты только меня дождись, уже недолго осталось.
Благодаря системе копронаведения, выстроенной в стратегически важной точке планеты Земля, третья ракетная флотилия с Тефалевой помощью благополучно преодолеет 36364585900000000 эонов межпланетного пространства и прецизионно высадит на Ленинских горах спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям.
За время командировки Ягкфи успел всей душой привязаться к славным игнорамусам, населяющим голубую планету. Им, бедняжкам, невдомек, что из невидимых песочных часов их земного бытия высыпаются последние крупинки. Земляне радуются, как дети, подсчитывая, сколько дней осталось до цифры с тремя нулями. Но в миг, когда часы на Спасской башне (которая специально для этой цели была возведена предшественником Ягкфи, опытным скаутом по имени Анщвщк Лщтэ) пробьют роковую полночь, наступит тот самый конец света, о котором людей предупреждал еще Шщфтт Ищпщыдщм. Мол, упадет на землю звезда, и отворится кладезь бездны, и помрачится солнце, и обезумеют компьютеры — одним словом, произойдет интрапланетарная микрокатастрофа, предсказанная Межзвездным вычислительным центром еще две световых недели назад.
Земляне предостережения не поняли, и теперь ясно, что это к лучшему — страшно представить, какая бы тут началась паника. Но паники не будет: магическая формула, спасительная молитва, с некоторых пор звучащая в телеэфире, призвана успокоить туземцев, внедрить в их подсознание оптимизм и веру в будущее.
Слава Тефалю, теперь все и в самом деле устроится. Прилетят утыканные антеннами корабли спасателей (невежественные переводчики «Откровения» вообразили, что речь идет о саранче: «у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала»), корабли разместят в своих четырехмерных недрах всех обитателей Земли, предварительно их усыпив, а проснутся земляне уже на планете Вуфер, как две капли воды похожей на Землю, только трава там не зеленая, а розовая, и вода белая. На Вуфере уж и отделочные работы заканчиваются.
Возьмет Ягкфи свои три световых отгула и вместе с милой завалится куда-нибудь на Уигтэлшт Ргещк, подальше от всех. Как изрек поэт: «Ещ ыдууз! зуксрфтсу ещ вкуфь!»
Клянусь Тефалем, лучше не скажешь.
Борис Акунин
Спаситель Отечества
— …Поднимется мускулистая рука миллионов трудового мещанства и колхозного батрачества, и прогнивший режим отправится на свалку истории!
Про «мускулистую руку миллионов» Зиновий Андреевич вставил нарочно, превосходно понимая, что делегатам съезда это пакостное словосочестание придется по сердцу, а вот в подсознании телезрителей, травмированном гимназической программой, отзовется смутным отголоском чего-то давно забытого, но неприятного.
Сел на место под гром аплодисментов и скандирование «Ленин-партия-Андреич!» Сосед по президиуму, председатель думского комитета по борьбе с внутренними и внешними врагами, пожал оратору руку, а потом, не совладав с чувствами, еще обнял его и поцеловал. «Молоток, Андреич, вставил дерьмократам», — шепнул он, брызгая слюной и пуча истероидные глаза.
Зиновий Андреевич украдкой вытер руку о полу сюртука. От потных рукопожатий партийных товарищей на правой ладони высыпала нервная экзема, а от их большевистских поцелуев с губ неделями не сходил герпес. Проклятое интеллигентское чистоплюйство — так и не изжил, за столько-то лет.
Непременный секретарь осмотрел залу с нескрываемым отвращением — знал, что товарищи по партии воспримут его всегдашнюю брезгливую мину как проявление суровой принципиальности. Ну и физиономии, подумал он, скользя взглядом по распаренным лицам делегатов. Упыри какие-то. Тысячу раз прав Ортега-и-Гассет: самоподавление личности во имя ложно понятых коллективистских ценностей приводит к вырождению нации. О, ненавистный большевизм, чума двадцатого века, долго еще ты будешь сосать кровь из многострадальной плоти моего народа?
Когда двадцать лет назад Зиновий Андреевич, интеллигент в восьмом поколении, объявил домашним, что собирается стать членом КПСС, от него ушла жена, специалистка по Лотреамону, отец-профессор его проклял, а мать вдруг зачастила в церковь и все молилась за просветление заблудших и вразумление неразумных. И сколько ни доказывал Зиновий Андреевич дорогим людям, что коммунистического дракона можно уничтожить только изнутри, сделавшись одной из его огнедышащих голов, они не желали слушать. Было горько, больно, обидно. Но великая цель требовала великих жертв.
И никому ведь не расскажешь, сколько сил потратил Зиновий Андреевич и его единомышленники, такие же патриоты и мученики идеи с партбилетом в кармане и постылым талоном в райкомовский (позднее обкомовский и цековский) распределитель, чтобы свершить чудо из чудес — расшатать и повалить тоталитарного колосса.
Герой любимого сериала Зиновия Андреевича штандартенфюрер Штирлиц 23 февраля втайне от сослуживцев по Имперскому управлению безопасности отмечал свой любимый праздник — День Красной Армии, а непременный секретарь Российской большевистской партии каждый год 19 августа, в сладостную годовщину великого Армагеддона, выпивал в одиночку бутылку «Вев Клико».
Тогда, в 91-ом, его единомышленники вышли из КПСС, решив, что их свяшенный долг выполнен. Зиновий Андреевич смотрел им вслед с тоской и завистью. Счастливцы, теперь они были уважаемыми членами общества, читали лекции в Гарвардах, непринужденно цитировали Мандельштама и пели под гитару Галича. Что ж, у каждого свой путь. Зиновию Андреевичу выпал самый кремнистый, но зато и самый важный. У него была своя миссия, свой крест — стать главной башкой поверженного, но все еще могучего и смертельно опасного чудовища.
Если в вандемьере 93-его хилое российское народовластие и удержалось на плаву, то лишь благодаря лидеру оппозиции. Ценой титанических усилий, идя на чудовищный риск, Зиновий Андреевич переиграл, перехитрил, переболтал ЦК и не дал-таки своим рвавшимся в бой соратникам присоединиться к мятежу красных полковников.
А еще большая опасность подстерегала Россию на прошлых императорских выборах, когда за три месяца до голосования большевиков поддерживали 92% избирателей. Горькая ирония заключалась в том, что дорогая сердцу Зиновия Андреевича демократия должна была пасть жертвой собственных завоеваний — несчастные, темные соотечественники, дети и внуки крепостных, твердо вознамерились отдать свои голоса вчерашним притеснителям. Надежды на избавление почти не было.
Вот когда Зиновий Андреевич развернулся во всем своем блеске! Он проявил такую феерическую доблесть, перед которой меркли двенадцать подвигов Геракла.
Первым делом отправился в Цюрих, якобы на экскурсию по ленинским местам. На самом же деле лег в клинику, чтобы сделать трудную пластическую операцию, в результате которой обзавелся неаппетитнейшей бородавкой на носу. С этим украшением, повергавшим в трепет прекрасную половину избирателей, Зиновий Андреевич объехал всю империю. Произносил идиотские речи, неграциозно плясал вприсядку и даже, подобно чеховскому персонажу, распевал песни сильным, но несказанно противным голосом. Одну активистку из Города Невест при ритуальнои партийном лобзании укусил за губу до крови, а фотографируясь с октябрятами, исподтишка щипал бедняжек за пухлые попки, добиваясь, чтобы малютки заплакали и стали рваться от злого лысого дядьки. Предвыборное турне увенчалось грандиозным успехом — Зиновию Андреевичу удалось-таки распугать большевистский электорат, и многострадальная, горячо любимая Россия получила четырехлетнюю передышку.
Тут ведь каждый год, каждый месяц был на вес золота. Время, все решало время. Только бы подросло новое поколение, не изуродованное страхом, двойным стандартом и культом Павлика Морозова. Иногда непременный секретарь чувствовал себя тем самым героическим голландским мальчиком, который держится из последних сил, закрыв своим слабым тельцем прореху в дамбе. А в особенно трудные минуты (ведь есть же предел силам человеческим!) — героическим спартанским мальчиком, в живот которого вгрызается безжалостный лисенок.
Гораздо легче было бы достичь поставленной цели, если б не безумные, не поддающиеся разумению действия демократической власти. Власть делала все, чтобы свести усилия Зиновия Андреевича на нет. Сначала он негодовал и сетовал, а потом вдруг словно пелена упала с глаз. Все оказалось просто и ясно.
Глупости и преступления, совершаемые под прикрытием высочайшего имени, со всей очевидностью свидетельствовали, что демократической партией руководит такой же глубоко законспирированный штандартенфюрер, втайне работающий на дело большевизма. И теперь участь России зависела от того, кто из двух Штирлицев окажется предприимчивей и хитрее — красный снаружи, но белый внутри Зиновий Андреевич или его белый снаружи, но красный внутри vis-а-vis.
А между тем благословенная передышка заканчивалась, надвигалось новое испытание, опять над отечеством сгущались предвыборные тучи, и в небе высверкивало грозными сполохами.
Тот, другой Штирлиц нанес ряд мощных и неожиданных ударов.
Подорвал авторитет правительства, безо всяких видимых резонов разогнав за год четыре чудеснейших министерства.
Повалил и растоптал едва-едва начинавшую крепнуть национальную валюту.
Умудрился сделать так, что перед парламентскими выборами власть осталась вообще без собственной партии.
Наконец, снова вздумал завоевать Чечню, отлично зная, что с этим гиблым делом не справились даже такие орлы, как Ермолов с Паскевичем.
Но и Зиновий Андреевич не дремал. Он составил свой собственный план большевистской Цусимы — и не только составил, но уже и приступил к его осуществлению.
В результате тончайшей, многоходовой интриги удалось разделить единый большевистский поток на несколько ручьев. Главная каверза здесь таилась в самой идее выбора, вещи несовместной с коммунистическим одномыслием. Теперь тугодумным сторонникам большевизма предстояло выбирать, за кого отдать голос: за «Союз патриотов-коммунистов», за блок «К победе ленинизма» или за «Движение большевиков-ленинцев»? Но ведь для этого придется сравнивать, думать. А размышление — для коллективистских ценностей процесс архиопасный, могущий Бог весть куда завести.
В столице исход выборов был предрешен. Вожак московского пролетариата (страстный читатель Хайдеггера и еще более непримиримый враг коммунизма, чем сам Зиновий Андреевич) обещал в канун рокового дня выпустить своих седовласых фурий, чтобы прошли по Тверской, стуча кастрюлями и понося молодежь, очкастых, бородатых и евреев. (Согласно достоверным статистическим исследованиям, эти четыре отчасти совпадающие категории, составляли 65,34% московских избирателей.)
Был и еще один стратегический козырь — на самый крайний случай. В прошлом месяце Зиновий Андреевич инкогнито совершил путешествие в Амстердам, где провел в квартале «красных фонарей» омерзительную ночь с проституткой-трансвеститом. Встреча, от одного воспоминания о которой Зиновия Андреевича кидало в холодный пот, была снята на пленку. Если уж совсем не будет другого выхода, перед вторым туром императорских выборов придется подбросить эту запись в редакцию «Московского богомольца» или на главный телевизионный канал. Сам Зиновий Андреевич при этом, конечно, погибнет, растерзанный товарищами по партии, но Россия получит жизненно важную отсрочку еще на четыре года. Что такое жизнь одного человека по сравнению с судьбой Родины.
Съезд подходил к концу. Все встали и запели партийный гимн. Зиновий Андреевич придвинулся к микрофону, поправил пенсне и с искренним чувством подхватил, вкладывая в ненавистные слова совсем иной смысл:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим…
Борис Акунин
PTSD
«Доктор, это случилось снова.» Генерал тяжело опустился на кушетку, сцепил крепкие, узловатые пальцы и горько покачал головой.
«Да, я видел по телевизору. — Соломон Борисович с участием покивал. — Вы располагайтесь на кушетке поудобнее, вытяните ноги. Сеанс будет долгим. Признаться, я никогда еще не встречался с таким головоломным случаем. Разве что в восемьдесят втором, когда еще работал в сфере психотерапии. У одной пациентки наблюдался странный синдром. Очень любила принимать гостей. Целый день провозится у плиты, наготовит всяких разносолов, а перед тем как подавать на стол, вдруг ощущает непреодолимый позыв плюнуть в каждое блюдо. И плевала, ничего не могла с собой поделать. Потом выяснилось, что, когда она была грудным младенцем, ее мать всякий раз перед кормлением плевала себе на сосок — ей казалось, что так гигиеничней. Представляете? Тогда-то я и решил заняться психоанализом. Чтобы докопаться до сути проблемы, я должен вскрыть корневую систему вашего патогенного бессознательного, выявить парадигму невротической симптоматики. Вы рациональный, зрелый, волевой человек. Ваша странная аномалия безусловно носит аффектный характер и сублимирует некий разрушительный позыв. Расскажите, как это произошло на сей раз».
Генерал тяжело вздохнул и стал рассказывать. Шел митинг протеста против антинародного режима. Речь была подготовлена заранее. Он собирался говорить о катастрофической бездуховновсти неокомпрадорской буржуазии. Вдруг, когда по конспекту следовало повернуть к идее человеколюбия и соборности, он ни к селу ни к городу, глядя прямо в нацеленные телекамеры, выкрикнул злополучную фразу: «А виноваты во всем жиды! Хороший жид — мертвый жид!» и это уже в третий раз за минувший год…
Безумно стыдно. Не говоря уж о том вреде, который наносят эти безобразные припадки народно-патриотическому делу. Некоторые товарищи вновь поставили вопрос об исключении генерала из партии — и если б не боевые заслуги, если б не четыре боевых ранения, полученных в боях с афганскими сионистами, то выгнали бы с треском и позором. Зиновий Андреевич выручил, опять взял на поруки, но при расставании руки не подал. И пришлось проглотить.
Закончил генерал на молящей ноте, в обычной жизни совершенно ему несвойственной: «Помогите, доктор. Спасите меня. Сделайте что-нибудь! Это как мина замедленного действия — никогда не знаешь, когда прозойдет взрыв. А может быть, меня прозомбировали тайные враги России? Или я сумасшедший?»
Соломон Борисович выслушал внимательно, строча золотым «паркером» в блокноте. «С психическим здоровьем у вас, милейший, все в полном порядке. А зомбирования никакого не существует. Чушь это все, враки. Тут другое: истинная причина вашей спонтанно проявляющейся юдофобии полностью вытеснена в подсознаие. Работа психоаналитика — помочь вам в локализации травматического очага. Давайте искать вместе. Будем постепенно двигаться в прошлое. Если понадобится, дойдем хоть до эпохи еврейско-монгольского ига. — Доктор коротко улыбнулся, давая понять, что шутит и что так далеко в историю забираться не придется. — Ваши приступы — классическое проявление PSTD.» «Что?» — приподнялся генерал, решивший, что не дослышал. «Лежите-лежите. У вас post-traumatic stress disorder. Посттравматический синдром. Где-то в вашем прошлом таится психическая травма, связанная с евреями. Вы готовы вскрыть механизм своего подсознания? Предупреждаю, что дело это неприятное и даже страшное. Никогда не знаешь, что может выплыть.» «Я не робкого десятка,» — улыбнулся генерал, но от слов психоаналитика по сердцу пробежал холодок. «Тогда приступим. — Соломон Борисович включил магнитофон. — Начнем с современности — так уж, для порядка. Скажите, много ли среди ваших соратников евреев?»
Генерал удивился. Ему никогда не приходило в голову различать людей по национальному признаку — был бы человек хороший. Да и партия, к которой он принадлежал, отстаивала интернационализм и твердо держалась ленинско-павловских принципов (в смысле, не принципов академика Павлова, а принципов Павла, для которого несть ни иудея, ни еллина).
«Право, не знаю. Может быть, московский гауляйтер Ампиров? В его внешности есть что-то семитское». «Он не уводил у вас жену? Не делал скрытых гомосексуальных намеков? Не вызывал в вас тайного мазохистского или садистского влечения? Прошу говорить совершенно откровенно — не нужно ничего скрывать».
«Господь с вами! — даже растерялся генерал. — У нас с Ампировым добрые товарищеские отношения». «Может быть, в вашей жизни когда-либо прежде имела место личная драма, в которой был повинен еврей?» «Да нет же, уверяю вас! Разве что в Афганистане, когда душманы и зеликманы взяли меня в плен. Они грозились сделать мне обрезание, но я убил часового и бежал». «Стало быть, вы выплеснули фрустрационный импульс на часового. Нет, это не та травма, которая нам нужна».
Соломон Борисович задумался.
«Хорошо, давайте двигаться дальше в прошлое. Вам, вероятно, пришлось немало хлебнуть с пятым пунктом во времена брежневизма?» «Как всем. Долго не выпускали в загранкомандировки, и в партию из-за национальности приняли только с шестого раза. Но это в порядке вещей — такое уж было время. Я относился с пониманием, и зла на евреев не держу, честное слово».
Он вспомнил, как в шестьдесят седьмом его бессовестно завалили на вступительных экзаменах в Военно-политическую академию. Фимка Гурвич, отличный парень, после шепнул: «Ты, Алик, не виноват — просто квоту русских на этот год уже набрали». И еще потом, в семьдесят восьмом, когда из генштаба безо всяких объяснений вдруг перевели в Вычегду, начальник отдела генерал Шмуэльсон по секрету сказал: «Ты замечательный работник, но я ничего не мог сделать. Сказали на парткоме: у тебя в отделе и так двое русских. Не Селедкина же мне гнать — у него жена парализованная».
«Нет, — решительно сказал генерал вслух. — Ерунда все это. Я всегда говорил, что целеустремленный человек сумеет пробиться, несмотря на пятый пункт. И пробился. Как видите, я генерал-полковник, хоть и стопроцентный русак. Отец — Емельян Патрикеевич, мать — Арина Святогоровна».
Врач проницательно посмотрел генералу в глаза. «Я вижу, что вы говорите правду. Ладно, тогда давайте двигаться дальше, в пятидесятые. Время было трудное, борьба с космополитизмом, дело русских врачей-вредителей. Наверняка это коснулось и вашей семьи?» «Конечно, коснулось. Но меньше, чем других. Дедушке-профессору пришлось, конечно, посидеть, но недолго. Бабушке однажды на рынке плюнули в лицо. Меня в училище обзывали «наймитом мирового славянства» и раз пытались устроить темную, но я сумел постоять за себя». «Значит и тут ничего… а где вы были во время войны?» «В оккупации, мы же со Смоленщины. Но я был совсем маленький, ничего не помню».
Соломон Борисович заглянул в карту, весь вдруг как-то напрягся и стал удивительно похож на хищную клювастую птицу. «Так-таки ничего? — вкрадчиво повторил он. — Но во время освобождения вам было уже семь лет. Это странно. Очень странно». «Самому странно. Очевидно, у меня поздно стали воспоминания формироваться. Время голодное, витаминов не хватало».
Но доктор уже не слушал — чиркал что-то ручкой в блокноте.
«Наша проблема там, — азартно сказал он. — Девяносто четыре процента патогенных психотравм генерированы в раннем предпубертате. Придется прибегнуть к гипнозу».
Он включил кассету с записью журчащей воды, закачал у лежащего генерала перед глазами блестящим брелком. «Расслабьтесь, ни о чем не думайте, смотрите на искорки». Генерал честно попытался расслабиться, но выходило плохо — ведь всю жизнь приучал себя к собранности.
«С кем вы жили в оккупации? С родителями?» «Я сирота. Родители умерли рано, я их не помню. Я жил с бабушкой по материнской линии». «Как она вас называла?» «Алькой,» — улыбнулся генерал.
Мягким старушечьим голосом Соломон Борисович засюсюкал: «Аля, Алечка, внучек, проснись. Это я, твоя бабуля, пора вставать».
Генерал поневоле хмыкнул — до такой степени носатый доктор был непохож на покойную бабу Мотрю, но в следующий миг вдруг случилось чудо. Пространство замутилось, подернулось пленкой, стало совсем темно, и остался только зовущий голос…
«Аля, Алечка, проснись. Вставай скорей, беда!»
Шестилетний Алька открыл глаза и захныкал. За окнами было темным-темно. Откуда-то из ночи доносились крики, шум выстрелов. Мама испуганно куталась в платок. Отец, заведующий сельской рюмочной, был бледен и весь дрожал.
Картавый механический голос, многократно усиленный динамиками, вещал: «Жители Петговки, жители Петговки, ваша дегевня выбгана евгейским командованием как объект для акции возмездия. Вы дали пгибежище пагтизанам. Ваши дома будут сожжены. Выходите на площадь и ничего не бойтесь». Время от времени механический голос умолкал, и тогда доносилось зловещее завывание «Хава-Нагилы».
Алька был маленький, но страшное слово «каратели» уже знал. У него застучали зубы.
«Надо спрятаться в подпол,» — сказала баба Мотря. «Если из дома никто не выйдет, устроят обыск, — скороговоркой произнесла мама. — Найдут и вытащат. Или закидают гранатами. Солдатня вся пьяная, озверелая. Бери Альку и прячьтесь. А мы с Емельяном пойдем. Вырасти Альку хорошим человеком…»
Соломон Борисович кашлянул, и видение исчезло.
Генерал лежал на кушетке, смотрел в потолок, по лицу стекали слезы, но он этого не замечал.
«Ну что, вспомнили? — нетерпеливо спросил доктор. — Вы что-то такое бормотали, но я ничего не понял. Какие-то партизаны. Причем тут партизаны?»
Генерал проглотил комок, ответил коротко и скупо, по-военному: «Вспомнил. В ноябре сорок третьего еврейская зондеркоманда провела у нас в Петровке акцию устрашения. Половину деревенских расстреляли, остальных отправили в гетто. И не будем больше об этом, ладно? Вы свою работу выполнили — освободили мне подсознание, или как там это у вас называется. Спасибо. Вот вам за ваш труд».
Положил на стол две тысячи шестьсот семьдесят рублей, сто долларов по курсу Центробанка, — американской валютой не пользовался принципиально.
Вышел на бульвар, вдохнул свежий воздух. Отпустив машину, шел по аллее, сцепив руки за спиной. Снежинки садились на мерлушковую папаху.
Да, эта нация принесла нашему народу много горя, думал генерал, но ведь сын за отца не ответчик. Пусть мертвецы лежат в своих могилах и не тянут за собой живых. Бог с ним, с кровавым прошлым. Будем дружно жить все вместе. Аминь.
Борис Акунин
Дары Лимузины
Рождественская сказка
Один олигарх спал и видел сон. Разумеется, неприятный, потому что жизнь у олигархов тяжелая и хорошие сны им никогда не снятся. Но этот сон был уж совсем из ряда вон, так что и пересказывать не хочется. Не хочется, но придется — иначе непонятно будет, как началась эта история, которой, между прочим, было суждено изменить судьбы России.
Олигарху снилось, что он идет по тоненькой жердочке и вот-вот упадет вниз, в яму. А в яме кишмя кишат жабы, гадюки и крокодилы, причем последние разевают свои багровые пасти и облизываются длинными, липкими языками.
От этих самых противоестественных языков олигарху стало так противно, что спать дальше сделалось совершенно невозможно. Он по-детски всхлипнул, открыл глаза и вдруг увидел, что спальня наполнена переливчатым волшебным сиянием, а откуда-то доносится тихий и мелодичный, будто бы хрустальный звон. Олигарх был человеком материалистического мирововосприятия и поэтому сразу же нашел явлению рациональное объяснение. Это светится елка, сказал он себе. Потому что скоро Рождество. А звон оттого, что дует сквозняк и золотые шары постукивают один о другой.
Тут надобно пояснить, что детство у олигарха было безрадостное и бедное, почти совсем лишенное праздников, и оттого, став богатым и всемогущим, он принялся наверстывать недополученное. К примеру, уже с начала декабря в каждой из ста тридцати восьми комнат его дома стояло по елке, и под каждую елку для хозяина с вечера клали подарки — часы «роллекс», купчие на швейцарские шато и видеопленки с компроматом на политических недоброжелателей. Утром олигарх разворачивал скрипучую фольгу, смотрел на подарки и радовался. Конечно, и грустил тоже, по поводу безвозвратного детства, но утешал себя соображением, что лучше поздно, чем никогда.
Полежал он на своей пуховой перине, вспоминая противный сон, и вдруг слышит — кто-то его зовет: «Боря, Боренька». Олигарх очень удивился, потому что последние десять лет его все называли только по имени-отчеству, даже жена и дети, иностранцы же звали «мистер», «сеньор» или «мосье» и прибавляли фамилию (только японцы называли сначала фамилию и потом прибавляли «сан»).
Повернул олигарх голову и видит, что светится никакая не елка (на ночь лампочки-то выключили, он совсем про это забыл), а полупрозрачная дама в бриллиантовой короне и с сияющей палочкой в руке, да и звенят не стеклянные шары — маленькие хрустальные колокольчики на радужном платье.
Сначала олигарх подумал, что подчиненные решили сделать ему не вполне скромный подарок, но, заметив, что прекрасная незнакомка просвечивает насквозь, догадался: это фея.
«М-м-м, здравствуйте. Вы мне снитесь?» — спросил он и на всякий случай незаметно запустил руку под подушку, где находилась кнопка вызова охраны.
«Нет, Боря, я тебе не снюсь, — строго, но в то же время ласково (бывают такие чудеса) сказала волшебница. — Я добрая фея Лимузина, и я явилась сюда, чтобы сделать себе подарок». «То есть как «себе»? — удивился Борис Абрамович (будем уж называть олигарха по имени-отчеству, а то как-то не по-людски получается). — Но, собственно, насколько я помню из детской литературы, феи м-м-м обычно делают подарки м-м-м не себе, а тем, к кому приходят». «Это правда, — согласилась Лимузина, — но сегодня день моего ангела, и я решила себя побаловать».
На душе у олигарха стало неспокойно — он вовсе не был уверен, что подарок, который задумала сделать себе фея, сулит ему, Борису Абрамовичу, что-то хорошее. Ведь всем известно, что сказочные волшебницы отличаются определенной негибкостью в своих представлениях о добре и зле. «А при чем здесь я?» — осторожно спросил он, положив палец на заветную кнопочку.
«Лучший подарок для доброй феи — сделать кому-нибудь добро. Сегодня я придумала вот что: найду самого несчастного человека в самой несчастной стране и сделаю его счастливым».
Борис Абрамович немного успокоился, но в то же время и обиделся: «Ну, насчет самой несчастной страны м-м-м — допустим. Однако с чего вы взяли, что в этой стране самый несчастный — именно я?» «Потому что тебя, мальчик Боренька, не любят девяносто девять целых и девятьсот девяносто девять тысячных процента обитателей этого государства — разумеется, из тех, кто слышал о твоем существовании,» — грустно сказала Лимузина.
У олигарха упало сердце. «Неужели так много? А моя служба информации утверждает, что меня не любят только восемьдесят четыре процента». «Твоя служба информации врет. Ты — самый нелюбимый человек во всей Российской Федерации. А политик, которого никто-никто не любит, — несчастнейшее существо на свете. Он как балерина без ног или продавец без товара. Ведь политик и есть продавец, он покупает голоса в обмен на любовь. Чем больше любви у него на прилавке, тем больше голосов ему достается».
«А Гайдар? — встрепенулся олигарх. — Его тоже никто не любит». «Да, сначала я собиралась наведаться к мальчику Егорке, тем более что… — Фея запнулась — видимо, не хотела говорить Борису Абрамовичу неприятные вещи, но из-за своей природной честности все же закончила. — …Тем более что он мне нравится гораздо больше, чем ты. Но мальчика Егорку все-таки любят целых полтора процента жителей: интеллигентные пенсионеры западнической ориентации, матери-одиночки с двумя высшими образованиями и сотрудники толстых литературных журналов. Если бы я выбрала мальчику Егорку, это было бы нечестно». «Почему вы всех называете «мальчиками»? — поинтересовался Борис Абрамович, чтобы потянуть время — еще не решил, жать на кнопку или нет. «Потому что вы для меня и есть мальчики. Мне всех вас жалко. А тебя жальче всех. Вот я и захотела сделать тебя счастливым. Дам тебе то, о чем ты мечтаешь — сделаю тебя президентом России. Хотя лучше бы, конечно, Егорку,» — вздохнула Лимузина. «Ну, сделать Мямлика президентом не под силу даже фее, — мстительно заявил олигарх. — Он навсегда останется со своими полутора процентами».
«Вовсе нет. В образе, как ты выражаешься, «мямлика» скрыт огромный электоральный потенциал. Уж как минимум 25% голосов в первом туре я Егорке обеспечила бы. А во втором туре, за него проголосовали бы все, кто боится этого ужасного мальчишку на букву «З.». «Двадцать пять процентов? — недоверчиво переспросил Борис Абрамович. — Гайдару? Вы, госпожа Лимузина, должно быть, шутите».
Фея взмахнула волшебной палочкой и рассыпала по комнате шлейф ярких, медленно гаснущих звездочек. «Боря, ты ведь хорошо успевал по арифметике — значит, умеешь считать. Половина избирателей — женщины. Это сколько будет? Правильно: пятьдесят процентов. А что такое женщина в электоральном смысле?»
Олигарх подумал-подумал и не нашелся, что ответить.
«Женщина соединяет в себе два могучих инстинкта: инстинкт жены и инстинкт матери, причем второй с годами делается намного сильнее первого. На него и нужно ставить. Образ «мямлика» импонирует материнскому началу в избирательницах. Егорке нужно всего лишь избавиться от своего ужасного зачеса, почаще шмыгать носом, выглядеть неухоженным и, конечно, не использовать слова длиннее трех слогов — это разрушает имидж заброшенного ребенка».
Не так глупо, подумал Борис Абрамович. Хорошо, что она не отправилась к Гайдару. Пожалуй, имело смысл повернуть разговор в деловое русло.
«Проблема в том, — пояснил он плохо информированной небожительнице, — что в этой стране м-м-м не любят евреев — это исторический факт. Мои м-м-м имиджмейкеры говорят, что ни по внешности, ни по национальности я не подхожу для роли публичного политика. Поэтому я сам в президенты не лезу, а действую м-м-м из-за кулис».
Фея неодобрительно покачала головой: «Боря, твои имиджмейкеры — глупые и жадные мальчишки, которые плохо учились в школе, да еще в советской. Поверь мне, в России очень любят евреев, просто души в них не чают. Только настоящих евреев, а не тех, которые прикидываются черкесами, бурятами или чукчами. В России все уверены, что евреи очень умные и хитрые — с ними не пропадешь. Так что ничего не бойся, не прячься за чужие спины. Выходи на выборы, и ты обязательно победишь — с моей помощью».
Тут олигарх руку из-под подушки вынул, взял со столика блокнот и приготовился записывать.
«Первым делом, — начала наставлять его Лимузина, — определи, кому ты хочешь понравиться».
Борис Абрамович доложил: «В настоящий момент ведется работа посредством телезомбирования по двум направлениям. Избирателя с интимно-предметным восприятием действительности (между собой мы таких называем «одноклеточными») ведет обозреватель Сережа. Избирателя с интеллектуальными запросами ведет обозреватель Миша». «Знаю, видела, — перебила Лимузина. — Твой обозреватель Сережа — враль и прощелыга, но свое дело знает. А вот обозревателя Мишу гони в шею — он только распугивает интеллигентов. Да и вообще, я вижу, что ты ничего не смыслишь в устройстве человеческой души. Лучше уж я сама подберу тебе электорат».
Она оценивающе осмотрела Бориса Абрамовича, и он съежился под ее мерцающим взглядом. «Больше всего тебе подойдет образ той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, — вынесла вердикт волшебница. — Это и должно стать подсознательным слоганом твоей кампании. Имидж Воланда неотразим для шестидесяти трех процентов женщин и тридцати восьми процентов мужчин, включая самые активные электоральные психогруппы: людей творческого склада, людей авантюрного склада, людей романтического склада и людей со скверным характером… Придется над тобой поработать. Я избавлю тебя от привычки мекать и глотать слова, расправлю тебе плечи, за одну ночь выращу на твоем подбородке эспаньолку, заострю тебе уши и вставлю в глаза молнии. Ну, а что до густых бровей домиком и алых губ — с этим справятся твои визажисты…»
Фея говорила еще долго и улетела только под утро. Борис Абрамович прямо употел, записывая.
Утром на пресс-конференции он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сказал только четыре слова: «Следующим президентом России буду я» — и улыбнулся, проверяя на журналистках эффект источающего молнии взгляда. Взгляд действовал безотказно: журналистки начинали розоветь, губки у них приоткрывались, а зрачки расширялись.
Борис Абрамович был в черном плаще с алым подбоем, через плечи перекинут длинный белый шарф. По чеканному шумерскому лицу блуждала загадочная улыбка, на пальце посверкивал искорками перстень с черным опалом в виде мертвой головы. От всегдашнего суетливого многословия не осталось и следа.
«Что вы думаете о ваших соперниках?» — спросили его. Он ответил: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны, но и милосердие иногда стучится в их сердца. Только чеченский вопрос испортил их….»
Когда после пресс-конференции вышел в фойе, подслушал, как корреспондент враждебного телеканала ТВН, волнуясь, говорит в камеру: «Сегодня мелкий бес внезапно превратился в Мефистофеля».
Триумф, это был настоящий триумф!
В углу просторного холла, у телевизора, толпились люди. Олигарх мельком глянул на голубой экран и замер.
Выступал главный теоретик правых сил.
«Я столько сделал для страны, а меня никто не любит, — жалобно говорил политический оппонент Бориса Абрамовича. — Раньше вон ничего не было, а теперь все есть. Хочешь колбасу — есть. Хочешь джинсы — есть. Хочешь чай со слоном — есть. Забыли, как за гречкой и порошком «Лотос» в очереди давились?»
Манера говорить у главного либерала изменилась до неузнаваемости, но еще более разительная перемена произошла в его внешности. Лысина реформатора беззащитно поблескивала, галстучек на сиротской резинке съехал набок, к лацкану куцего пиджачка присох яичный желток, а дужка очков была склеена изоляцией.
«Господи, — запричитала уборщица, по-матерински прижимая к себе швабру. — И чего взъелись на человека? Всю жизнь на нас, паразитов, положил, а никакой благодарности».
Сука полупрозрачная, мысленно ахнул олигарх, все-таки наведалась к своему «мальчику Егорке»!
Борис Акунин
Проблема 2000
Типа святочный рассказ
1.
— Луцкий, немедленно откройте! Что за ребячество! — жирным голосом взывал из коридора Солодовников, председатель ссудно-кредитного товарищества «Добрый самарянин». — Мы сломаем дверь!
Ломайте, ваше степенство, усмехнулся Константин Львович, стоя перед высоким старинным зеркалом. Дверь дубовая, скоро не поддастся. А до полуночи остается всего три минуты. Каких-то три минуты, и век закончится. Вместе с ним закончится и отставной штабс-ротмистр Луцкий, погубленный страстями и мамоной. Будь проклят тот день и час, когда он, любимец московских репортеров, герой Абиссинской кампании, согласился стать управляющим этой подлой купеческой лавочки. Польстился на жалование, трехэтажный особняк, хороший выезд. Лучше бы остался в полку — глядишь, эскадроном бы уже командовал…
Увы, девятнадцатый век неумолимо отсчитывал свои последние секунды. Сам же Константин Львович это и доказал — неделю назад, на рождественском балу в Английском клубе. Шел обычный в нынешнем сезоне спор о том, когда начнется двадцатый век — следующей зимой, с 1901 года, или же нынешней, 1 января 1900-го. Луцкий отстаивал вторую точку зрения. «Тогда у вас получается, что Спаситель родился в нулевом году, а сие — математический нонсенс,» — прищурился присяжный поверенный Пфуль. Константин Львович иронически улыбнулся, обвел взглядом слушателей и срезал умника: «А позвольте вас спросить, милостивый государь, сколько времени продолжался первый год от Рождества Христова? По вашему выходит, что всего шесть дней — с 25 декабря по 31-ое, а там уж сразу начался второй. Нет, Готфрид Семенович, Иисус родился 25 декабря предгода, то есть именно что в нулевом году, и стало быть, первый год двадцатого века — 1900-ый».
В дверь ударили чем-то тяжелым: раз, другой, третий.
— Луцкий! Я не шучу! Чего вы добиваетесь? Деньги возвращать все равно придется! Я потребую репараций через суд! Подумайте о вашем добром имени! — надрывался Солодовников.
«Репарации» — словечко-то какое мерзкое. Так и несет двадцатым веком. В девятнадцатом в ходу все больше было слово «сатисфакция». Ну хорошо: он, Луцкий, чересчур вольно обращался с кассой, и Солодовников, владелец «Доброго самарянина», почитает себя оскорбленным. Так вызови обидчика на дуэль, как это принято в хорошем обществе. Но нет — грозится судом. Купчишка, жалкий арифмометр с тройным подбородком. И ведь засудит, опозорит столбового дворянина, у этих новоявленных хозяев жизни нет ничего святого.
— Констан, сейчас же отопри! Мы должны объясниться!
Энни! Это она! И, конечно же, скотина Солодовников все ей рассказал — и про кутежи в Сокольниках, и про цыганку Любу, и про поездки в Отрадное. Милая, бесконечно обожаемая, ну как тебе объяснить, что семья — это одно, а Люба — это совсем-совсем другое?
Часы звякнули, готовясь бить двенадцать ударов. «Вечерний звон, бом-бом,»- иронически улыбнувшись, пропел Константин Львович и поднял пятизарядный «бульдог». В Бога он перестал верить с шестнадцати лет, после первого визита в бордель, однако перед финалом жизненной карьеры все же счел нужным произнести нечто вроде молитвы: «Господи всемилостивый, прости, если можешь. Я не хочу жить в этом мерзком двадцатом веке».
На шестом ударе, одновременно с щелчком взводимого курка, зеркало повело себя престранно. Серебряная гладь замутилась, стройная фигура отставного штабс-ротмистра окуталась туманом и вдруг чудовищнейшим образом преобразилась. Константин Львович увидел вместо себя какого-то бритого толстощекого господина в коротком бордовом сюртучишке и с бокалом в мясистой руке. Нелепая поросячья физиономия перекосилась от ужаса, и из рамы выметнулась короткопалая пятерня, блеснув массивным золотым перстнем.
Так вот она какая, смерть, успел подумать Луцкий и ощутил мимолетное разочарование, ибо Великая Утешительница всегда представлялась ему благообразной старухой, или бледной девушкой, или, на худой конец, суровым старцем, но никак не этакой пошлой лакейской образиной.
2.
Вован прикрыл за собой дверь, и музон как пригасило. Конкретная была дверка — старинный дуб, блин, покруче любой железной. Круглую комнату с гипсовыми телками и пацанами под потолком Вован сразу определил себе под кабинет. Самое оно. Все ж таки генеральный директор, не хрен собачий. Поставить офисный гарнитурчик с кожаными сидалами, навесить фальш-потолок, по полу запустить реальный белый ковролин — выйдет адекватно.
Недвижка обломилась почти что на халяву. Раньше тут сидела типа редакция какого-то научного журнала — такие лохи, каких Вован раньше только по телеку видал, в кино «Девять дней одного года». Взял у них в субаренду закуточек, скромненько так, по двести баксов за квадрат, а после кинул интеллигенцию — чихнуть не успела. Сделал их так, что любо-дорого. Чисто как в сказке: была у лоха избушка лубяная, да подсел на кидалово. Собрали редакторы-птеродакторы свои пишущие машинки с фикусами и, как говорится, отбыли в неизвестном направлении. Главный птеродактор (он же по совместительству — главный лох) зашел попрощаться. Вован немножко напрягся — думал, кошмарить станет. Но дедушка сказал только: «Вам, молодой человек, потом будет стыдно» — и почапал себе пешим строем. Чистый зоопарк, блин.
Редакция, конечно, туфта. Рамс мог выйти с банком «Евросервис», который тоже ронял слюни на арбатский особнячок. Тамошний председатель правления Пыпа — пацан серьезный, в терпилах ходить не привык. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампуськи. А именно шампуськи — «Клико», Франция, полтонны баксов за ящик — Вован как раз сейчас и нацелился жахнуть. Не то чтоб сильно любил это кислое пойло с пузырями. Все эти навороты вообще были ему по барабану. То есть в ресторанах или там на презентациях хавал, конечно, и омаров, и устриц, и улиток этих поганых, двадцатилетнего вискаря клопиного выдувал по три пузыря зараз, но не для души, а чисто ради понтов. Душа, она помнила хорошее, просила жареной картошечки с лучком и пробористого портвешка, такого теперь не добудешь ни за какие бабки. Эх, какую страну просерили, суки!
Но про трудное детство пора было забывать. Чисто и маза подвалила — 2000-ый год. Пускай Вован из Раменок там, с тремя девятками остается, а в новое типа тысячелетие въедет авторитетный чувак Владимир Егорович, нет, лучше Владимир Георгиевич, генеральный директор инвестиционно-маркетингового холдинга «Конкретика».
Для того и отвалил Вован с гулевого фуршета в коридорчик, а после сюда, в будущий свой кабинет, чтобы отметить ломовой момент интеллигентно, без козлов и лялек. Три нуля в номинале нового года обнадеживали — это ж по-нашему тонна. Где три нуля, там и шесть, а после, если масть пойдет, то и девять. Зам по железкам Лифшиц, в прошлом физматкандидат, из-за трех нулей в последнее время сильно депрессовал. Говорил, из-за них может все компьютеры закозлить. А сегодня грузанул тренди-бренди с коксой и давай, блин, колотить понты про какой-то «хронопарадокс»: типа само время может запутаться в нулях. Возьмет и кинет сознание в какой-нибудь другой год с нулями, на сто лет вперед или назад. Стих читал, типа «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Но Вован этот бухой базар слушал вполуха, потому что у него как раз подоспел ключевой разбор с Клавкой.
Свой протокол о намерениях он ей давно представил, еще в понедельник. Она сказала, подумает, а сегодня, как говорится, выкатила бартер на бартер: поедет к нему на дачу в Отрадное и будет регулярно выдавать по полной программе, но не за фу-фу, не на такую напал, а за новую бэ-эм-вешку или минимум вольвешник.
Клавка, конечно, бикса представительная, при всех наворотах: у ней через слово «как бы», да на «самом деле», но это ж сорок штук баксов! Тоже, блин, нашлась Клавдия Шиффер.
Вован подошел к щербатому зеркалу (старье, надо будет его на помойку). Посмотрел на себя и словил кайф. Пиджачок от «Версаче» — конфетка, ботиночки «Гуччи», морда гладкая, глаза маленькие, но объективные такие, типа с интеллектом.
Здоровенные деревянные часы с башенкой навроде офисного центра на Дербеневке брякнули, хрюкнули и давай отстукивать: блин! блин! блин! блин!
Пакеда, Вован, — попрощался генеральный директор со своим попсовым прошлым. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Поднял бокал и аккурат на шестом «блине» чокнулся с зеркалом.
И тут случился облом. Зеркало вдруг все запотело, типа как в ванной, а когда снова оттаяло, Вован увидел в раме какого-то чудилу с блестящими волосами, посередке разделенными напополам, и подкрученными, как у Чапаева, усами. Хуже всего было то, что в руке чудила держал ствол.
Ах, суки, что удумали — через дырявое зеркало достать! Выходило, что главный птеродактор не такой уж лох, не въехал Вован, и от этого ему теперь в натуре стало стыдно. Надо же так облажаться! По виду киллера было ясно, что он из фраеров: в стремном черном клифте, с узким галстучком, каких уже лет десять не носят, и воротник торчком. Обиднее всего было то, что Вована заказали такому уроду, заказали по дешевке — откуда бы у лохов взялись настоящие бабки?
Хрен бы Вован дожил до сегодняшнего дня, если б зявился и лоховал на кипеже. Генеральный директор «Конкретики» схватил Чапаева за руку с волыной и дернул на себя. Киллер вылетел из рамы, но и сам Вован, не удержавшись, перелетел на ту сторону.
3.
Константин Львович едва удержался на ногах. Резко обернулся к зеркалу — мерцающую поверхность вновь затянуло молочной рябью. Часы достучали последний удар и умолкли. Ночь за окном озарилась сполохами праздничных фейерверков. Он опоздал, девятнадцатый век кончился!
Померещится же такая дребедень перед смертью. Все, пора и честь знать. Луцкий поднес правую руку к виску и не сразу сообразил, что вместо «бульдога» его пальцы сжимают хрустальный бокал. Понюхал — шампанское, «вев клико», ароматом напоминает урожай 89-го, но, пожалуй, все-таки не он. Прежде чем управляющий «Доброго самарянина» успел удивиться чудесной замене револьвера на бокал, муть в зеркале улеглась, и Константин Львович вновь увидел перед собой давешнего хама. Кто бы тот ни был, пусть хоть сам Люцифер, но прощать оскорбление бывший кавалергард не привык и с размаху плеснул шампанским прямо в наглую плебейскую физиономию.
Визави сделал точно такое же порывистое движение, и золотистый напиток богов, пузырясь, потек по глади. Здесь в мозгу управляющего шевельнулось нелепейшее подозрение. Константин Львович похлопал себя по щекам, оскалил зубы, даже подпрыгнул на месте. Толстомордый в точности повторил все движения, как дрессированная обезьяна в цирке. Сомнений не оставалось! Что за непристойная метаморфоза!
Луцкий в растерянности огляделся по сторонам и заметил, что переменился не только он сам, но и будуар: исчезла потемкинская кровать под балдахином и вся прочая мебель. Напольные часы «Мозер унд мозер» странным образом потускнели и осели набок, а в углу нивесть откуда появился дряной письменный стол с расцарапанной крышкой. Неужто уже описали имущество? Не может быть, суда-то еще не было!
На стене — в том самом месте, где полагалось висеть дивной картине Фрагонара, купленной на аукционе в Париже за тридцать тысяч франков — посверкивал яркий глянцевый листок, изображавший гейшу в кимоно. Луцкий подошел ближе и увидел, что это календарь. Сверху было написано: «Фирма Седзи-модзи поздравляет своих клиентов с 2000 годом!» Глупые японцы не только переврали правописание, потеряв все «еры» и «яти», но даже умудрились перепутать год.
Константин Львович потер лоб, неприятно узкий и бугристый, пытаясь собраться с мыслями. Воздуха, свежего воздуха!
Бросился к окну, распахнул форточку и вдруг замер. Что случилось с Москвой? Откуда взялись эти небоскребы в шесть, семь, десять этажей! Эти электрические фонари, эти приплюснутые авто, ярко освещенные окна! Все было в точности, как в иллюстрированном очерке «Город будущего» из журнала «Созерцатель», разве что в небе не летали воздушные дилижансы.
Желтолицые сыны микадо ничего не перепутали! Неведомая сила и в самом деле схватила отставного штабс-ротмистра и засунула в чужую шкуру, в чужое время!
Но куда величественней было иное открытие, пронзившее душу безбожника благоговейным трепетом. Константин Львович пал на колени и воскликнул: «Верую, Господи, верую!» да и как было не уверовать? Всеблагий Господь внял его молитве и уберег от смертного греха самоубийства. Не желаешь жить в двадцатом веке, сын Мой? Как угодно — перемещу тебя сразу в двадцать первый.
Сквозь радужную пелену экстатических слез Луцкий возвел очи горе и увидел на крыше дома, что возвышался напротив, большую афишу, подсвеченную разноцветными лампионами:
В новом годе и новом веке снова с заботой о человеке!
Блок «Отечество»
Что за Блок такой, умильно подумал Константин Львович. Уж не Сашура ли, сынок Сэнди Кублицкой-Пиоттух? Сэнди рассказывала, что мальчик пишет недурные стихи. Должно быть, в двадцатом веке стал знаменитым поэтом и даже классиком — сочинил стихотворение с патриотическим названием.
Сзади скрипнула дверь, и стали слышны звуки разухабистой музыки — чей-то пропитой голос немузыкально выводил: «Как у-па-ительны в России вечера!»
Константин Львович обернулся. В дверях, картинно подбоченясь, стояла стройная молодая особа в такой невозможно короткой тунике, что управляющий сразу забыл и о Саше Блоке, и даже о вновь обретенном Господе.
4.
Спокуха, сказал себе Вован. Не мети пургу. Пушка — вот она, а значит, с заказухой у птеродакторов вышел облом. Поживем еще.
Он вскочил на ноги, повернулся к липовому зеркалу, чтобы взять Чапаева на мушку, но тот тоже оказался не пень лесной: успел вытащить запасной ствол и целил прямо в Вована. Генеральный директор нажал спуск, пушка грохнула, и зеркало разлетелось в стеклянную труху, а за ним открылась типа каменная стенка.
Е мое, сначала подумал, а потом и сказал Вован. Е мое, блин.
Хотел ухватить себя за нос, чтобы в натуре проснуться, но пальцы нащупали жесткое, колючее. Усы! Другой рукой попробовал рвануть ворот — что-то не в продых стало — и наткнулся на острые углы воротника!
Не иначе пацаны прикололись — сыпанули в шампуську толченого грибца, вот и повело в загогулины. Вован дернул себя за глючный ус посильней, и заорал от боли. Блин, ус был в натуре настоящий!
Генеральный директор попятился и приложился кобчиком об угол педоватого золотого столика на гнутых ножках. На пол грохнулся органайзер — нет, типа папка в крокодиловом переплете — распахнулась, и стало видно золотые буквы:
Дражайшему Константину Львовичу отъ признательныхъ сослуживцевъ въ ознаменованье Новаго 1900 года!
Тут-то Вован наконец и въехал. Блин, проблема-2000! Та самая, про которую физмат Лифшиц базар держал! Время, сука корявая, свинтилось с гаек и кинуло солидного человека на сто лет назад! Ну, кто-то ответит!
Бу-бух! — звездануло в дверь чем-то тяжелым. А потом еще и еще: бу-бух! бу-бух!
Что за лажа? Вован вспомнил какое-то кино из детства: типа дворец, там за столом шишаки с олигархами припухают, а в дверь ломят быки с винтарями и пулеметными лентами. Типа революция. Е мое, в каком она году-то была, не в девятисотом? Хрен вспомнишь.
По прикиду выходило, что он, Вован — чистый буржуй. Сейчас эти, блин, как их, пролетарии, его в натуре станут мочить.
Ну, падлы, задешево не возьмете. Он выставил вперед пушку, и в самый раз — дверь соскочила с петель. В комнату влетел типа генерал с реальной, до пупа бородищей и ломом в руках. Вован хотел уже было засадить ему дулю промеж подфарников, но генерал согнулся напополам и культурно так:
— Так что извиняемся, Константин Львович, Анна Сазонтьевна ломать приказали-с.
А за генералом влез какой-то козлина — то есть в натуре, и даже с козлиной бородкой на жирном хавале.
— Что за ребячество, господин Луцкий! — забазарил козлина. — По вашей милости я должен проводить новогоднюю ночь таким диким манером! Извольте вернуть деньги! И не вздумайте стреляться. Мы же деловые люди.
Вован понял только одно: нет, не революция — нормальный наезд. Этот чувак Костя, за которого его тут держат, кинул козлину на бабки, а козлина оказался из деловых — сам сказал — и затеял разборку. Сто лет прошло — ни банана не поменялось, все те же заморочки.
Из-за козлины высунулась баруха в навороченном макси с крутейшим декольтешником. Ручонками замахала и давай ныть:
— Констан, не делай этого! Я заложу бриллианты, возьму в долг у папа! Ты непременно вернешь господину Солодовникову эти сорок тысяч!
Вован с нерва малость съехал и волыну убрал. За сорок штук баксов нынче мочат только в колхозе.
— Обижаешь, братан, — сказал он деловому. — Чтоб Костька сороковник скрысятничал? Давай по-людски края разведем. Мы ж не фраера, а бизнесмены.
Козлина захлопал глазами — видно, и сам понял, что не прав.
— Господин Луцкий, я последний раз спрашиваю: вы вернете деньги?
— Какой базар, — успокоил его Вован. — Если на счетчик ставить не будешь, разойдемся. Недельку отслюнишь?
Надо будет поглядеть, что за брюлики у ляльки, с попом этим ее потереть, под какой лаве ссуду дает, прикидывал на ходу генеральный директор. А там поглядим, козлина, какой ты деловой.
— Вы не шутите? — вылупился козлина. — Вы и в самом деле вернете в кассу все деньги через неделю? И готовы дать честное слово?
— Сука буду, — хлопнул себя по груди Вован. — Мое слово — железняк. Не такой человек Костюха Луцкий, чтоб фуфло толкать.
— Слово дворянина?
— А то. — И Вован для убедительности еще чиркнул себя большим пальцем по горлу.
Деловой оказался чистым лохом — даже расписки не взял. Наклонил лысую башку, повернулся и топ-топ на выход. Вован сразу передумал отдавать ему бабки. Ушился и генерал. В комнате осталась только телка — между прочим, по лекалам сильно богаче Клавки, да и на мордалитет пореальней.
— Констан, — сказала телка, — я требую объяснений.
5.
— Хамишь, Вован, — строго сказала удивительная особа, затягиваясь белой пахитоской с золотым ободком. — Свалил и ничего мне не ответил. Я тебе не цыпка по вызову, я Иняз закончила. На самом деле я ж понимаю — тебе не просто давалка нужна, а классная герлфренд, с которой как бы не стыдно потусоваться в престижном обществе. Престиж, Вованчик, он на самом деле хороших бабок стоит. Не жидись.
Хороша, подумал Константин Львович, оценивающе разглядывая прелестницу и надолго задержавшись взглядом на полуобнаженных бедрах. Хороша! Пожалуй, несколько тощевата, но и в этой субтильности есть шарм милой, девичьей беззащитности. Как она его назвала — Вобан? Француз, что ли? Кто вообще этот субъект, в шкуру которого Всевышний поместил Константина Луцкого? И какого рода отношения связывают мьсе Вобана с этой одалиской, изъясняющейся загадками?
— Cheri…, — отважился Константин Львович на вольное обращение и сделал паузу — не вспылит ли? — Vous кtes ravissante.
— Нахватался по верхам, — фыркнула чаровница. — Валенок раменский, произношения никакого.
По привычке Луцкий не вслушивался в то, что говорят хорошенькие женщины, а следил лишь за интонацией и выражением глаз. Тон, которым разговаривала с ним красавица, был ледяным, но в глазах поигрывала этакая чертовщинка, подававшая надежду. Очень вероятно, что за внешней холодностью сей лорелеи таилась пылкая, чувственная натура. А что если попробовать кавалерийским наскоком?
— Бывали ли вы в Отрадном, мадемуазель? — галантно спросил он. — Там отличное катание. Вы любите быструю езду?
— Будет тебе и катание, и езда, — пообещала непреклонная. — Такая быстрая, что тебе и не снилось. С сертификатом качества. Но сначала гони тачку.
— Куда? — Константин Львович охотно выполнил бы любую прихоть очаровательницы, даже такую экстравагантную, но в этот миг варварская музыка, доносившаяся из соседнего помещения, оборвалась, раздался топот и громкие голоса, причем отчетливо донеслось страное выражение «козел моченый».
Кто-то крикнул:
— Вован, шухер! Пыпа из «Евросервиса» наехал!
Красавица взвизгнула и проворно спряталась за спину Луцкого.
6.
— Констан, ты же клялся, что это больше не повторится! Я поверила тебе, простила гнусную интрижку с той развратной актриской! А теперь еще цыганка! Ты чудовище!
А Костик-то, видать, ходок, сообразил Вован, разглядывая пузырящуюся биксу. Типа жена или так, подруга бойца?
— Все, довольно! — заистерила костькина матрешка. — Мы расстаемся! Я уезжаю в Биарриц, а ты… а ты живи, как хочешь.
— Не понял! — вскинулся Вован. — Минуту, киса! Ты че вешаешь? Как это в натуре «ухожу»? А кто тут гнал про брулики, про башли? У нас не Африка, цыпа, — у нас за базар отвечают. Отстегивай сорок штук и вали.
— Какая Африка? При чем тут базар? — наморщила лоб бареха. — Ты говоришь загадками. В последние месяцы тебя словно подменили!Я совсем перестала тебя понимать!
— Я тебя за язык не тянул, — отрезал Вован. — Обещала — башляй. Ты че, хочешь, чтоб меня козлина этот завалил? Гони мани, киска, пенендзы.
Тут фишка наконец проскочила.
— Ты о деньгах? — Стала вся розовая, чисто омар на блюде. Дерг из ушей висюли, с шеи цепуру, с пальца перстак. — На, заложи это, низкий человек. Боже, какое ничтожество!
Типа зарыдала, порулила на выезд, но в дверях тормознула. Плечи трясутся — переживает.
Вован цацки взял, посмотрел. Брулики были адекватные — пудов на сто зеленки. На крайняк хватит с тем козлиной разойтись, и еще останется. Жалко, конечно, что из кадра уплывала такая суперная бабца, но уговор есть уговор.
— Окей, мадам, — вежливо попрощался Вован. — Малина нас венчала, а зона развела. Гуд бай, май лав, гуд бай.
Сделал ляльке ручкой и стал присматривать, куда бы понадежнее заныкать цацки. Может, под плинтус? Или в койку, под матрас?
Бикса все телилась, не уходила.
— Констан… — Голос закумаренный, как с отходняка. — Ты в самом деле готов со мной расстаться? Ты меня больше не любишь? Совсем? Но ты сказал 'my love'…
Вован посмотрел повнимательней в ее глаза цвета «мокрый асфальт», и у него вдруг арбуз заклинило. Блин, какие глаза! Лох однозначный этот Костик, что от такой евроматрехи в театр «Ромэн» закосил. Да и Клавка против нее — сявка драная.
Вована круто заколбасило, да так что он забыл и про заморочки с временем и про то, что эта блонда ему в натуре в прабабки тянет. Чисто по песне: «Любовь, как финка, в грудь его вошла».
Чумовой взгляд тянул его, как магнит булавку. Вован уронил брулики на пол и сам не врубился, как его подкатило к двери. Крепко взял любашу за буфера и, кошмарно стремаясь от чувств, просипел:
— Тащусь от тебя, как вошь по гребешку. Типа перепихнемся?
— Сумасшедший… Совсем такой, как прежде…
Она обхватила Вована обеими цапками за шею так, что он аж захрипел.
7.
В будуар неспешной походкой вошел плечистый господин в коротком, выше щиколоток, пальто и белом шарфе через плечо. Обрюзгшим, брыластым лицом и короткой бородкой он напоминал Генриха VIII с портрета кисти Ганса Гольбейна Младшего. За неприятным господином вошли двое молодых людей крепкого телосложения и встали по обе стороны двери.
Не поздоровавшись и даже не поклонившись даме, Генрих VIII сказал:
— Борзеешь, Вовчик? Пыпу запомоить хочешь? Пыпу еще никто не помоил, а кто пробовал — долго плакал.
— С кем имею честь? — неприязненно осведомился Константин Львович, разглядывая странного гостя в упор.
Генрих VIII зло улыбнулся одними губами.
— Ах, ты по понтам? Зря, Вован. Твои быки у моих на мухе. Так что давай без геморроя.
Прелестное создание, очаровательно прижимавшееся упругим телом к спине Константина Львовича, пролепетало с дрожью в голосе:
— Мальчики, вы тут разбирайтесь, а я пойду, ладно?
— Стой, где стоишь, лярва, — шикнул на нее Генрих VIII. — И без базара, а то ноги выдерну.
У Луцкого потемнело в глазах. В его присутствии никогда еще так не оскорбляли даму!
Константин Львович шагнул вперед, отвесил наглецу две звонких пощечины и тихим от ярости голосом процедил:
— За такое платят кровью! Я пришлю вам своих секундантов. Завтра же.
Наглый господин схватился за битую щеку и весь побелел.
— Ты че беспредельничаешь? Че кошмаришь? — воскликнул он и попятился. — Кровью, блин. Мочилов пришлю… Из-за паршивой аренды? Неадекватно себя ведешь, Вова.
Судя по всему, принимать вызов этот жалкий трус не собирался.
— Как угодно, — пожал плечами Константин Львович, глядя на противника с гадливым презрением. — Но вам придется извиниться перед дамой.
— Не бери в падлу, цыпа, — немедленно обратился Генрих VIII к чаровнице. — Типа ай эм сорри.
— А теперь вон отсюда, — бросил ему Луцкий и отвернулся.
Барышня восхитительнейшим манером преобразилась — ее необычайно длинные и черные ресницы трепетали, а глаза светились таким восторгом, что было бы просто глупо не воспользоваться моментом. Константин Львович наклонился и жарко поцеловал тонкую белую руку. И — великий признак — красавица ее не отняла. О!
— Хрен с ним с бартером, — сказала она звонко. — Едем в твое Отрадное, Вовик! Только давай сначала где-нибудь как бы поужинаем, а то я жутко голодная — на самом деле за вечер только одну канапешку цапнула.
Полчаса спустя стремительное авто доставило Константина Львовича и Клавдию Владленовну (так звали умопомрачительную барышню) в ресторацию, где играла экзотическая музыка, а по потолку скользили красивые разноцветные пятна.
Луцкий принялся осторожно выведывать у спутницы, как сложилась история отечества в двадцатом столетии.
— Валенок ты раменский, — ласково молвила Клавдия Владленовна, глядя на него влюбленными глазами. — Чему тебя только в школе учили? Ничего, я сделаю из тебя человека.
И порассказала про минувший век такое, что Константин Львович мысленно возблагодарил Господа, Который в щедром Своем милосердии перенес раба Божьего Луцкого из 1900 года сразу в 2000-ый.
Время от времени Константин Львович прерывал импровизированный урок истории, целуя Клавдии Владленовне ручку. Во время очередного восхитительного антракта до него донесся обрывок разговора двух немцев, сидевших за соседним столиком.
— А вы говорили, герр профессор, что «новые русские» грубы и неотесаны, — сказал один.
Второй ответил:
— Очевидно, герр Штубе, это один из так называемых «новых новых русских». Я читал о них в «Франкфуртер альгемайне».
8.
— Че, и бубль-гама у вас нет? — недоверчиво спросил Вован, почесывая мохнатый бампер (не свой, Костяшкин — свой, с татухой, остался дома, в двухтысячном годе).
— Что, милый? — не въехала Анька, елозя щекой по его плечу.
Он задвигал челюстями, типа жует, потом чпокнул губами, типа лопанул пузырь, но она все равно не врубилась — засмеялась тоненько так, звонко, как пейджер, и у Вована внутри потеплело. Он зацепил пальцем ее сиротский чулочек, свисавший с койки, и жалостно поцокал языком:
— Как бомжиха — в шкарпетках на ленточке. Че я, в натуре на колготки не набашляю?
— На что, на что?
Блин, у них тут и колготок не было! Вообще ни хрена моржовича: ни баночной жбанки, ни лифчиков, ни «марса» со «сникерсом». Полный голяк.
Мазы открывались такие, что дух захватывало. На каждом углу лохотронов понаставить — это перво-наперво, пальцевал сам с собой Вован. Пацанов найти без проблем, у них тут пролетариев до утопа. Потом — «макдональдсов» понатыкать: ну там типа квас, булка с колбасером, туда-сюда. Народ небалованый, схавают. А после можно и заводик чипсовый забабахать.
Так, спокуха, тормознул себя Вован, чтоб не зарываться. Где взять бабок на раскрутку?
— У твоего попа в натуре сбашлять можно? — спросил он Нюську. — Скажи ему, Костяха не крысятник, не соскочит.
Бабца была, конечно, супер, но на мозги не хакамада — простой вопрос, а долго не догоняла. Зато когда усекла, здорово Вована обнадежила:
— Если я скажу, что деньги нужны для дела, папа, разумеется, даст. Только он считает, что вкладывать капиталы в российскую промышленность неразумно. У нас в империи слишком неспокойно. Папа опасается революции и хочет перевести дело в Америку.
— Какая, блин, революция! — зауродило Вована. — Тут такие бабки ломятся! Не пузырься, Анька, прорвемся. Короче, тут у вас пахан один есть, в большом авторитете, кликуха — Ильич. Не слыхала? Чуть что не по нем, на БМП залазит и все, такая идет мочиловка — сливай воду, я по телеку видел. Забью с ним стрелку, обкатаем вопрос, сговоримся насчет лаве. Буду отстегивать его пацанам сколько положено. На кой им революция, они ж не лохи. Держись Костика, Нюсек, за ним не пропадешь.
— Обожаю тебя безумно, — сказала умотная Нюрка и всосала Вовану чмоку прямо в губешник.
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.