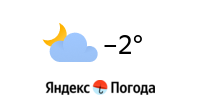|
ФОТО С ТРЕНИНГОВ

НАШИ РАССЫЛКИ
Новости, Aфоризмы, Метафоры
Анекдоты, Вебинары и т.д.
Посмотрите и выберете те, что нравятся Вам.
Новые статьи
- Стены и мосты

Есть знакомая пара. Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
- Равенство без признаков адекватности
 Мужчины и женщины равны! Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
- Сыноводство
 Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством», пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
- Делай только то, что хочешь
 Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
- «Сильная женщина» - понятие-пустышка
 Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
- Пять неверных, но полезных мыслей

Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны. Рассмотрим пять популярных утверждений.
Блог
28.06.24 | 23:06
|
 |
06.11.23 | 10:59
|
 |
25.10.23 | 23:50
|
 |
11.07.23 | 17:07
|
 |
09.07.23 | 16:48
|
|
|
Идеологема «врага»
Автор: Лев Гудков.
Идеологема «врага»
Источник: Лев Гудков. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. Авторский сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2004 г
«Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции
К теории врага
Предыстория «тотального» врага
«Бесы» Достоевского и этика революционного нигилизма
Тотальный «враг» как принцип политической организации в концепции Карла Шмитта
Оруэлл: техника репрессивной мобилизации и контроля сознания в тоталитарных обществах
Институциональный контекст советской риторики врага
Техника пропаганды и мобилизации. Составляющие риторики «врага» в советском тоталитарном искусстве и литературе. Типы «врагов»
Эрозия мобилизационного общества и ослабление идеологемы врага
«Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции.
Первоначально мой интерес к проблематике «врага» был вызван чисто техническими задачами — необходимостью прояснить для себя, как работают механизмы негативной мобилизации. Социологические исследования по программе «Советский простой человек», которые ведутся уже более 12 лет рабочей группой во ВЦИОМ, показывают, что процессы медленного и длительного институционального разложения советской системы сдерживаются (и отчасти подавляются) особой природой советского человека, сформированного взаимодействием с репрессивными и контролирующими структурами общества и адаптированного к ним. Такой вывод означает, что удобная посылка о захвате власти большевиками и установлении оккупационного советского режима, очень устраивающая сегодня русских националистов (а в некотором роде — и либералов, считающих, будто можно продолжить русскую сюиту кадетов с прерванного места), не просто неверна, но неинтересна, поскольку советский порядок (советские общество и человек) так или иначе все же воспроизводился, по меньшей мере — на протяжении жизни полутора поколений.
Сегодня уходит из жизни поколение людей, родившихся уже после революции и Гражданской войны. Следовательно, имелись условия согласования повседневных интересов жизнеобеспечения, передачи социального и культурного опыта, основных представлений о реальности, о нормах взаимодействия, ценностях и благах, а значит, шли процессы социализации и обучения, включения в общий порядок согласованного существования. Отвлекаясь от множества других обстоятельств, можно сказать, что советский порядок должен был быть признан населением уже только лишь в силу фактичности его длительного существования.
Как известно, само по себе насилие, какова бы ни была его природа или интенсивность, не может обеспечить сохранение (воспроизводство) репрессивного режима в течение длительного времени. Для этого власть должна получить массовое признание, а население адаптироваться к условиям, которые задаются существованием подобной системы, — выработать ответные навыки взаимодействия с управляющими органами, психологические и социально-регулятивные механизмы принятия этого режима власти или идентификации с ним. В нашем случае легитимация и внутреннее оправдание советской власти заключались, помимо прочего, в специфическом сочетании культуры страха и надежды, соединении официального культа героизма и самоотверженности с этикой заложничества. Производными от них были повседневные комплексы внутренней зависимости и пассивности, неопределенность и партикуляристская диффузность индивидуальной, личной идентичности, маниловская мечтательность и социальная незрелость (патернализм, подростковые агрессивность и некритичность в отношении к дальним и ближним).
Крах социально-экономической организации советской системы, как выяснилось позже, совершенно не означал одновременного распада или даже наступления критического уровня дисфункции других социальных и культурных институтов тоталитарного общества. Несомненно, процессы очевидных изменений идут. Но столь же несомненно, что значительная часть из них представляет собой реконфигурацию оставшихся институтов, иную композицию социальных групп при том, что сами эти группы (и люди, их составляющие) изменились не принципиально. Как свидетельствуют социологические исследования ВЦИОМ (в том числе международные сравнительные исследования национальной идентичности центрально- и восточно-европейских стран, ведущиеся на протяжении последнего десятилетия и позволяющие судить о том, что происходит в других бывших «социалистических» обществах), базовые ценности и представления советского человека обладают чрезвычайной устойчивостью. Меняется слой «внешних», оперативных механизмов взаимодействия и средств ориентации, характеризующихся значительным потенциалом адаптации к непосредственным переменам. Но фундаментальные структуры базовой социальной личности и соответственно формы социальной организации остаются, насколько можно судить, по существу «советскими»'.
'О некоторых особенностях подобной адаптации в ситуации институциональных разрывов см.: Гудков Л., Дубин Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в условиях социальных дефицитов // Мониторинг общественного мнения, 2002, № 3, С. 24-9; Они же. Институциональные дефициты как проблема постсоветского общества //Там же. 2003. № 3. С. 33—52.
Поэтому нам не остается ничего другого, как изучать, описывать и понимать те социальные и культурные механизмы, которые обеспечивают ретрансляцию наиболее значимых в данном отношении смысловых структур и представлений. И здесь приходится обратить внимание прежде всего на чрезвычайно интересный в социологическом смысле (так врачи говорят об аномальной форме рака) социально-антропологический эффект. Пластичность социальной природы человека в данном случае связана не с его продуктивными способностями и готовностью к инновации, а с практическим имморализмом и редуцированными традиционалистскими представлениями о социальном мире, организованном прежде всего по модулю «свои — чужие». Особую роль в их ряду играет идеологема «врага».
Как всякая ядерная метафора, методически организующая вокруг основного самоочевидного представления разноплановые понятийные контексты, семантический комплекс значений врага устанавливает функциональные связи между пониманием социального целого («мы»), репрезентативной для этого целого властью и характером человека, входящего в это «мы». То есть она акцентирует те социальные нормы и ценности, которыми конституировано и управляемо данное целое, прямо или опосредованно указывает на символические характеристики представлений о его прошлом и будущем, ресурсы, партнеров и другие элементы картины социальной реальности в сознании человека данного типа. Соответственно не только структура образов врага, но даже само по себе выдвижение на первый план риторики врага уже может служить симптомом важнейших социальных процессов — массовой консолидации определенного, мобилизационного типа, блокировки инноваций, консервации архаических представлений и ритуалов.
Мониторинговые исследования динамики массового сознания, проводимые во ВЦИОМ, показывали становящуюся все более явной после 1994 года взаимосвязь между высокими самооценками публики, вновь утверждающейся в своем великом прошлом и необыкновенных национальных достоинствах, и нарастающей ксенофобией, изоляционизмом, невротическим отказом от сравнения себя и других стран, особенно тех, которые считаются «нормальными», то есть благополучными. Масштабный и продолжительный социально-экономический кризис, свидетельствующий о внутреннем сопротивлении общества различным усилиям трансформировать государственную экономику в рыночную, повлек за собой не только дискредитацию самих политиков-реформаторов, но и вялую ностальгию, оживление фобий и страхов советского времени, в том числе — разнообразных представлений об угрозах безопасности страны, заговорах против нее. Как ни слабы сами по себе были эти движения массового сознания, их оказалось достаточно для разложения «демократической» элиты.
Политическая жизнь в России после 1995 года медленно и неуклонно упрощалась, теряя нюансы различных групповых мнений и выстраиваясь как конфронтация «Ельцин — Зюганов» (поддержка власти нового или старого образца), которой все в большей мере подчинялись все иные структуры интересов. Так или иначе, ни один из новых институциональных проектов — парламентаризм, многопартийность, независимый суд, контроль над силовыми структурами — не был реализован, хотя и не был полностью забыт. Вторая война в Чечне была после финансового кризиса 1998 года почти неизбежной — реванш был необходимым условием самосохранения не только для генералов, но и ревитализации всей управляющей системы общества. Достаточно было лишь возникновения одного, но экстремального фактора угрозы (взрывы в городах), чтобы власть окончательно утратила свои расходящиеся определения новая «демократическая» — старая «коммунистическая» и стала единой, «путинской».
Восстановление на публичной сцене фигур «врага» (не только мятежных «варваров» — бандитов-чеченцев, но и американцев, НАТО и пр.), их присутствие в качестве «горизонта» происходящего стало условием повышения всеобщего массового тонуса в 1999-2000 годах. Антизападный рессантимент в большой мере способствовал приходу к власти лидеров, вышедших из спецслужб и армии: КГБ, МВД, ВПК и других силовых структур, составлявших костяк милитаризованного советского общества. В 1989 году, в ходе общенациональных исследований общественного мнения, проводимых ВЦИОМ, на вопрос: «Как Вы думаете, есть ли сегодня у нашей страны враги?» — только 13% опрошенных назвали какие-то персонажи или силы (перечислю их в порядке убывания частоты упоминаний — бюрократическая мафия, коммунисты, националисты, русские нацисты, спекулянты, реже — США, НАТО, ЦРУ, еще реже — жители Кавказа, евреи, китайцы, мусульмане и др.). Самая большая группа ответов (47%) сводилась тогда к варианту: «Зачем искать врагов, если все беды заключаются в нас самих?». Спустя 10 лет, в 1999-2002 годах 65-70% опрошенных уверенно отвечали: да, у России есть враги (и называли: чеченцы, НАТО, исламские фундаменталисты, демократы, Китай и другие).
Чем выше уровень ненависти и ущемленной агрессивности (повод мог быть самый разный — бомбардировки Сербии авиацией НАТО, теракты в российских городах, унижение России из-за «неправильного судейства» в Солт-Лейк-Сити, из-за поражения наших футболистов в Японии и пр.), тем выше демонстрируемое доверие президенту, армии и спецслужбам, тем уверенней и оптимистичней чувствует себя российское общество. Шовинистический лозунг «Россия — для русских!», который в начале 1990-х годов еще вызывал известное смущение у большей части опрошенных, сегодня утратил свою скандальность. За последние пять лет число так или иначе поддерживающих его увеличилось в полтора раза: с 43 до 60-65% (шокированы этим призывом 25%). В августе 2002 года, уже после объявления официальной версии гибели АГШ «Курск», 17% россиян (а это около 18 млн взрослых!) продолжали верить, что катастрофа была результатом вражеской диверсии. Так восстанавливается распадающаяся структура коллективной идентичности.
'В августе 2003 г. на вопрос: «Как Вы считаете, есть ли у сегодняшней России враги?» — положительно ответили 77% опрошенных, нет - 9%.
Было бы непростительным для социолога упрощением полагать, что активизация роли врага в общественном мнении является результатом навязанной пропаганды, идеологического манипулирования, или, как сейчас говорят, пиара. (Сама уверенность в могуществе подобных технологий представляет собой всего лишь парафраз теории заговора, иное выражение «конспирологического мышления», близкое по типу к идеологеме врага. Абсурдность такой посылки становится очевидной, если перенести ее в контекст развитых демократий, например, в условия британских выборов.) Никакая пропаганда не может быть действенной, если не опирается на определенные ожидания и запросы массового сознания, если она не адекватна уже имеющимся представлениям, легендам, стереотипам понимания происходящего, интересам к такого рода мифологическим разработкам. Внести нечто совершенно новое в массовое сознание — дело практически безнадежное, можно лишь актуализировать те комплексы представлений, которые уже существуют в головах людей. Поэтому рост значимости представлений о враге всегда является производным от обоюдных усилий — заинтересованных и относительно рационализированных интерпретаций господствующих элит, с одной стороны, и аморфных, разнородных массовых взглядов, объяснений, верований, суеверий, символов, традиционных элементов идентификации, с другой.
Актуализация образа врага означает, что само общество начинает испытывать сильные социальные напряжения, источники которых с трудом опознаются и рационализируются. Речь в данном случае не идет о конкретных неприятностях или частных действующих лицах — противнике, оппоненте, социально опасном лице, чьи действия предсказуемы и понимаемы по мотивации. Для того чтобы этот актор стал «врагом», он должен получить ряд генерализованных характеристик - неопределенность и непредсказуемость, асоциальную силу, не знающую каких-либо нормативных или конвенциональных ограничений. При появлении врага не работают или отходят на задний план обычные системы позитивных вознаграждений и стимулов взаимодействия — признание общих ценностей, индивидуальных удач и групповых достижений, подчеркивание общих благ и символов. В такой тревожной и неясной ситуации общих страхов, унижения и пр. начинают оживать архаические интегративные механизмы, заставляющие людей сильнее, чем обычно, чувствовать свою близость, солидарность перед лицом реальных или мнимых коллективных опасностей.
Я говорю «архаические» потому, что для современного, сложно устроенного, упорядоченного, обладающего значительным ресурсом безопасности и многократными системами внутренней и внешней защиты общества подобные ситуации неспецифичны'. Дело ведь не просто в наличии армии или полиции, а в том, что и армия, и полиция не являются сегодня для таких обществ центральными, представительскими институтами, символически обозначающими основные ценности всего целого.
'Чтобы сразу избежать возможных недоразумений, подчеркну: я не отношу нынешнюю Россию, тем более СССР, к «современным» обществам, несмотря на ряд характеристик (прежде всего — высокий уровень военно-промышленного развития), которые у них как будто близки. Дело не в сходстве отдельных черт, а в принципиальных различиях институциональной структуры и базовой личности, обеспечивающих воспроизводство обеих систем. Это эффект гомоморфности, а не идентичности: ихтиозавр, акула и дельфин выглядят очень похожими на рисунках, но это разные типы животных. Еще В. Шюювский предлагал для аналогичных целей различать «современников» и «синхронистов».
В качестве таковых там выступают совершенно другие публичные институты (экoнoмичecкиe, политические, наука, искусство, спорт или общедоступность благосостояния), интегрирующие все целое посредством системы символических коммуникаций и обменов. Напротив, в архаических социумах проблема существования целого непосредственно связана с физическим выживанием и защитой. Придание силовым структурам статуса центральных символических институтов социума означает либо псевдомодерный, имитационный характер данного общества, либо его экстремальное состояние, грозящее радикальной трансформацией функций'.
'Например, такой феномен, как шпиономания, был характерен не только для всех соцстран в фазе классического тоталитаризма, но и для большинства европейских стран во время Первой и Второй мировых войн. О. Гордиевский и Кр. Эндрю приводят слова руководителя лондонской спецслужбы, сказанные им уже в 20-х гг.; «Шпиономания приобрела xapaктер страшной эпидемии, которая сопровождается страшными галлюцинациями, не поддающимися лечению» // Эндрю Кр., Гордиевский О. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. [Б.м. изд.] Nota Веnе, 1992. С. 137.
Эффективность риторики врага означает, собственно, не «изобретение» факторов угрозы, а лишь актуализацию находящихся в культурном «депо», на периферии общества давних, общеизвестных, но отработанных представлений, обычно выступающих лишь в качестве средств первичной социализации, мифологических структур массовой идентичности. Трудности концептуального или аналитического толка поэтому связаны с пониманием того, почему подобные представления, играющие важную роль для сохранения низовой и относительно примитивной идентичности, нормативной или традиционной регуляции отношений на уровне первичных или локальных общностей, переносятся на более высокие уровни организации и там уже начинают определять порядки более сложных социальных взаимодействий, эволюцию институциональных структур. Иначе говоря, постановку проблемы следовало бы, пусть даже в целях интеллектуального эксперимента, перевернуть: происходит не навязывание «массе» идеологических конструкций «врага», а давление возникающей в определенных условиях «массы» на формы организации общества, подчинение «элиты» менталитету (образу морали, принципам солидарности, ценностным мотивациям) масс. Использование идеологемы врага для массовой мобилизации или в целях легитимации социальной системы представляет собой специфический сброс институциональной «сложности», блокировку модернизационного развития, плебейское упрощение или уплощение социокультурной организации общества. Вопрос, следовательно, заключается в том, при каких условиях и под влиянием каких обоюдных интересов возникает этот процесс взаимодействия, каковы логика его развертывания и затухания, культурные ресурсы и социальные последствия.
Хотя феномены массовой актуализации врага в обществах разного типа возникали много раз на протяжении XX века (мировые войны, этнические чистки, террористические акты), но наиболее характерны они именно для тоталитарных режимов — от советского коммунизма, итальянского фашизма, германского нацизма вплоть до режимов типа Саддама Хуссейна или иранских аятолл.
К теории врага
Прежде всего необходимо уточнить, что понимается под врагом, поскольку обычно сборники материалов такого рода дают скорее иллюстративные описания, нежели определения и типологические построения. Например, основательная коллекция образов врага в военной пропаганде, изданная С. Кином, опирается на такие «архетипы» врага, как «чужой», «агрессор», «варвар», «преступник», «враг бога», «смерть», «достойный противник», «насильник», «мучитель или палач» и пр.'
'Faces of the Enemy: Reflections on the Hostile Imagination. Ed. by Sam Keen. San Francisco. Harper & Row, 1986.
Как бы семантически ни различались те или иные виды образов или топики «врагов», их главная функция — нести представления о том, что является угрозой самому существованию группы (обществу, организации, с которой идентифицирует себя субъект и адресат риторических обращений, — автор, читатель или зритель), угрозой базовым ценностям сообщества. Смертельная опасность, исходящая от врага, является важнейшим признаком этих смысловых или риторических конструкций. Этим враг отличается от других, хотя и близких персонажей символического социального театра, — «чужого», «постороннего» или маргинала.
Маргинал — самый распространенный среди эстетических и фикциональных конструкций социальный тип действующего лица. Этот любопытный и часто описываемый в науке персонаж (точнее, набор различных персонажей — от плута до мигранта) интересен тем, что сочетает значения (ценности и нормы) двух групп или миров — того, откуда он пришел, и другого, где он стремится стать «своим», получить признание, освоиться и адаптироваться (что ему не удается до тех пор, покуда он «маргинал», и что составляет собственно тематические коллизии изображения). Чуждость, демонстрация социальной дистанции между своими и не-своими, двумирность и прочие свойства маргинала еще не предполагают угрозы для группы «своих», — маргинал всегда заведомо слабее в социальном плане, чем «свои»'.
'См., например, ставшие образцовыми социологические описания «маргинала» у Г Зиммеля в его «Социологии» и «Социальной дифференциации» или этюд «Посторонний» («The Stranger») у А. Шютца (Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. С. 191-206; переведено здесь как «Чужой»).
От маргинала необходимо отличать «Другого» («Иного»), главное назначение которого — служить условием артикуляции позитивных значений «своих», типичных в определенности их ролевых или статусных определений. В качестве «другого» может быть и «свой», но выходящий за рамки «нормы» (ролевых определений взрослости или социальной дееспособности — ребенок, больной или умирающий, старик, робот, собака, лошадь и пр.). «Другой» близок к семантике «маргинала», но отличается от него тем, что этот персонаж почти всегда полупосторонний или временный, периодически возникающий актор. Его функция — указать изнутри, то есть в ценностной перспективе общепринятых значений группы, на культурные границы «мы-группы», зоны «своих», пределы «наших». Способ реализации этого заключается в выявлении или разметке характерной неполноты ролевых определений, ценностных конфликтов, норм действия и связанных с этим напряжений в группе.
«Чужой» же отмечает внешние границы «своих», пределы понимания и идентичности группы. «Чужим» действующий может быть только по отношению к закрытым группам, куда доступ очень жестко регулируется или просто закрыт. В качестве барьеров при этом могут служить расовые или этнические предрассудки и нормы, накладывающие известные запреты на поведение, этноконфессиональные границы, социальные барьеры между кастами или сословиями, короче, любые аскриптивные или близкие к ним по жесткости социальные определения. Поэтому, хотя при тематизации «чужого» и возникает мотив насилия, но он не является здесь ведущим. В конструкциях «чужого» насилие имеет дополнительный или частный характер (что может иногда выражаться как комическое или неадекватное применение насилия), тогда как в образах врага тема насилия становится одной из главных. (Поэтому враг обычно сливается с темой войны или агрессии, что несколько сбивает интерпретаторов.)
Типологически враги могут различаться не только по характеру угрозы, которую они несут (погибель души, уничтожение нации, культуры, прошлого или будущего, природы, близких, сверхценной идеи, набора ценностей, достоинств и пр.), по масштабам угрозы, но и по тому виду авторитета, который отвечает за существование или благополучие группы, противостоит врагу или нейтрализует его действия. Иначе говоря, конкретизация врага предполагает различные корреляции с властью, воплощающей тот или иной институциональный аспект существования группы или сообщества. Сатане соответствует святой или священник, народу — нашествие, военная агрессия, захватчик, Галилею — Савонарола, врачу — эпидемия и т.п.
От врага можно [только] защититься, укрыться, уйти или победить его. Но в любом случае враг представляет собой апеллятивный фактор, мобилизующий всех членов сообщества к солидарности и сплочению вокруг власти или группового авторитета, который гарантирует им условия безопасности и избавления от угрозы уничтожения.
Враги могут подразделяться и по уровню институциональной дифференциации. Враги низшего уровня — это враги «прямого действия», их много и они неразличимы, они эквивалентны массе сообщества. Враги «второго», «третьего» и более высоких уровней — это враги, чьи действия носят опосредованный, институциональный или символический характер. Они представляют собой угрозу либо отдельным социальным институтам, их ресурсам, либо культурным программам или даже символическим структурам группы, сообщества, а потому затрагивают условия ее воспроизводства в будущем.
Чем выше уровень угрозы, тем сложнее и избирательнее поведение врага, тем больше позитивных значений втягивается в его конструкцию. Поэтому враг не только внушает страх, он может быть привлекателен, соблазнителен, по крайней мере, амбивалентен'.
'Как правило, в таком случае он воплощает в себе возможности ценностной реализации, закрытые для индивида в обычной жизни, — богатства, безнаказанности, власти, свободы, компенсации, утверждения, мести и пр. Ср.: «Злодеяние в наши дни обладает болезненной притягательностью» — Borkenau F. The Totalitarian Enemy. L, 1940. P. 231.
Те латентные ценностные значения, которые образуют второй, третий план, «бэкграунд» врага, чаще всего разворачиваются либо в семантике контркультурных явлений, либо в образах предателей и отступников, либо в фигурах «царства зла», «вражеского мира». Враг, указывая «слабым» или неустойчивым индивидам иные, недопустимые в группе возможности действия и ценности, подрывает внутреннюю дисциплину и верность сообществу, значимость единых норм, целей группы или императивы выживания. В самых сложных случаях враг представляет собой угрозу только тем, кто управляет сообществом, кто регулирует основные сети отношений, кто контролирует доступ к «иному», запрещенным ресурсам или стратегиям поведения.
Однако любые конкретные формы действия для того, чтобы получить квалификацию в качестве «вражеских», должны восприниматься как символически иллюстративные, пониматься как пример «действия многих», т.е. включать в себя методическое требование неопределенной генерализации, соотнесения с контекстом всего социального целого. В этом плане «враг» — способ проявления значений целого, конституции «массы». Другими словами, диагноз «наличия врага» предполагает формирование двойной генерализирующей установки: во-первых, диффузную подозрительность, недоверие или, правильнее, бдительность как принцип социальной организации, а во-вторых, горизонт сознания «наших», то есть социально бескачественное определение массы (своих как «не-врагов»).
Предыстория «тотального» врага.
Для традиционного общества категория «враг» имеет довольно устойчивое, конкретное или предметное значение, с трудом отделяемое от семантики «чужого» или «потустороннего», запредельного, персонификации хтонических сил. Не случайно только в христианстве «враг» получает психологическую и социально-моральную «генерализацию», становится универсальным символом зла — «врагом рода человеческого». Иначе говоря, до начала процессов массовизации, то есть до разрушения сословного, закрытого общества и формирования массового общества, проблематика «врага» не получала сколько-нибудь широкого распространения. За исключением церкви, фактически не было такого института, который нуждался бы в соответствующем функциональном социальном механизме идентификации и консолидации и был бы в состоянии выработать подобные смысловые представления. Феодальные войны при всей своей жестокости были довольно упорядоченными и ритуализированными периодическими столкновениями. Архаические набеги других племен или даже территориальные завоевания, при всем их катастрофическом характере для сообщества, не давали оснований для универсализации представлений о противнике и не меняли общей картины реальности.
Ситуация в этом плане начала меняться лишь в Новое время, с началом формирования массового общества и его специфических интегративных систем — национальной (и «классовой») идеологии. Первый же пример резкой массовизации — период Французской революции — дал и первые образцы генерализованных представлений о «враге», точнее — «враге народа», а также непосредственно связанную с ними практику массовой мобилизации (в духе «Марсельезы» и робеспьеровской риторики «культа высшего Разума») и логически вытекающих из нее массовых репрессий — якобинского террора. «Враги» стали катализатором не только утверждения первого национального мифа, национальной идеологии, но и первых эскизов концепции национального государства и его институтов (как представительских, так и репрессивных, или позднее — репродуктивных, необходимости защиты национальной культуры, языка, школы и т.п.).
'Безусловно, можно без особого труда найти те или иные протоформы генерализации противника до морального и метафизического воплощения зла. Характерно, однако, что, скорее всего, это будет такой универсальный институт, как, например, католическая церковь, уничтожить которую в свое время требовал Вольтер («раздавить гадину!»). Но мобилизационный потенциал таких призывов и воззваний все же следует признать довольно умеренным или слабым, в любом случае — не массовым.
Разрушение сословного порядка (Старого режима) обернулось возникновением принципиально нового социального состояния — слабо управляемой плазмы массового рессантимента и возмущения, которая не могла быть удержана еще не сформировавшимися, толком не сложившимися институциональными структурами популистской республиканской демократии. Закрепление их могло быть обеспечено только в результате крайне противоречивого в каждой своей точке процесса. Рутинизация нового порядка стала возможной только при выносе «врага» вовне, за пределы «национального сообщества», то есть при развертывании цепи европейских войн и соответственно появлении авторитарного национального лидера. Миф Наполеона снял проблему внутреннего врага (может быть, как всякий авторитаризм Нового времени?), перевел ее в другой план, развернув в виде противостояния Франции (новой национально-государственной формации, республиканской или императорской) и множества ее внешнеполитических противников, ее «исторических» врагов. Демонизация Наполеона была лишь формой освоения разрыва с традиционным обществом.
Развитие семантики врага на протяжении девятнадцатого века можно считать продуктом процессов массовизации, формирования структур массового общества, прежде всего — бюрократизации различных сфер социальной жизни. Важнейшими социальными институтами массовизации в конце XIX века были: армия нового типа (переход от рекрутирования ко всеобщей воинской повинности и системе всеобщей мобилизации), ставшая предпосылкой промышленных, массовых войн уже XX века; система массовых политических партий; национальная массовая школа (и достижение массовой грамотности населения — к концу века — во Франции, Германии)'; появление средств массовой коммуникации (вплоть до миллионных тиражей у некоторых иллюстрированных изданий); промышленное производство и транспортная инфраструктура.
'См., например, ставшую классической pa6oтy М. Ocтрогорского (1898), описывавшего структуру и национальные особенности политических партий в разных странах. Среди прочего, он отмечал значение грамотности как условия действенности партийной пропаганды: «Система народного обучения., так давно ожидаемая и введенная в 1876 г [в Великобритании. — ЛЦ, широко распространила образование в стране, она довела число неграмотных до поразительного уровня (неграмотные избиратели составляют 4% в Англии), но она недостаточно развила интеллектуальные способности. Часто говорят, что акт 1870 г — "неудача", что он создал только поверхностных читателей вместо знающих образованных людей» — Острогорский МЛ. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997. С. 190.
Однако, в отличие от позитивной и систематической рационализации складывающихся или подлежащих генерализации социальных отношений и практик (правовых, психологических, образовательных, технических, медицинских, гигиенических и т.п.), генерализация и распространение представлений о враге не были продуктом собственно бюрократических институтов, как это должно было бы быть на первый взгляд. Бюрократические институты, чье функционирование немыслимо без уравнивающего всех процедурного и юридического формализма, непрерывности и последовательности, предполагают ориентацию на стабильность, предвидимость последствий. Они опираются на позитивные установки в отношении реальности и социальных партнеров, культивируя рациональное отношение к действительности, веру в возможность постепенного и методичного, технологического ее преобразования, улучшения жизни в соответствии с намерениями действующего. Здесь (по внутренним, организационно-функциональным или чисто технологическим причинам) не возникает проблематики разрыва, кризиса, а соответственно и потребности в акцентировании существования экзистенциального или смертельного «врага».
Напротив, подобные представления вырабатывались теми идеологами или лидерами радикальных движений и организаций, которые не имели шансов реализации своих программных целей через легальные институциональные каналы (если они, естественно, предполагали участие в политической конкуренции за власть). Но общественно-политическая ситуация в пореформенной России была именно такой. И сохранение абсолютизма, и характер патримониальной правительственной бюрократии не допускали никаких возможностей легального политического действия, если не считать таковыми выборы в дворянские собрания и земскую деятельность. Становящееся все более очевидным и значимым влияние этих массовых бюрократических институтов порождает у слабых идеологов склонность к радикализации своих программ, к поиску экстраинституциональных путей самоутверждения, достижения власти. В определенном смысле конструируемые ими образы всемогущего «врага», пусть даже и скрытого (идея тайного «мирового заговора» или сговора власть имущих), становятся отражением тотальности правомочности и компетенции формирующихся массовых социальных институтов и осознания все большей значимости проблемы «массы». Опыт институтов, функционирование которых и предполагало создание «массы» (а не каких-то закрытых групп или привилегированных сословий), в первую очередь принимался в расчет авторами новых идеологий, оперирующих с образами врага. Речь не только о революционных партиях, но и о радикально-консервативных образованиях неопределенного статуса (задолго до «Союза русского народа»), шовинистических аморфных объединениях, эксплуатирующих разного рода комплексы, нереалистические надежды или страхи депримированных социальных групп самого разного рода.
Появление и выработка символических «врагов» становится формой партикуляристской реакции на процессы массовизации, вызванные модернизационными изменениями в традиционных обществах. Для наших целей можно очень грубо представить себе эти изменения (в действительности крайне сложные и исторически многообразные) как два типа процессов: тип классической модернизации (английского или в еще более чистом виде — американского развития) и тип традиционализирующей модернизации.
Первый тип представляет собой инновационное развитие (рационализацию и универсализацию) определенных аспектов уже сложившихся социальных отношений, их культивирование, рафинирование, облагораживание в соответствии с некоторыми идеальными представлениями (как правило, религиозно-философскими)".
"Это то, что вслед за М. Вебером, описывавшим этот процесс рационализации как «судьбу» современного западного общества, позднее стали называть «модернизацией». Подчеркивая составляющие этого процесса, помимо типа личности, на которую решающее воздействие когда-то оказал тип религиозного воспитания, Вебер называет в качестве столь же значимых источников современного рационального капитализма — рациональное право, рациональную науку, технологию, бюрократию.
Подчеркну: универсализации в духе буржуазного либерализма подлежат уже существующие «модерные» отношения, своего рода затравочные кристаллы модернизации. Это очень важное обстоятельство — социальная (правовая, политическая, моралистическая и пр.) рефлексия, например, американских федералистов стремится учитывать исторический опыт европейского деспотизма и произвола, подавления религиозных и экономических свобод от римской античности до конца восемнадцатого века. Создавая, проектируя новые институциональные отношения, либерализм XIX века стремился нейтрализовать возможные негативные последствия гипертрофии любых авторитетов (соответственно любых социальных групп), выступающих с претензиями на абсолютность своих ценностей и интересов. Поэтому в самой конституции «общества» (системе взаимных сдержек и противовесов) уже закладывался принцип компромисса, конкуренции, дискуссии, соглашений, блокирующий саму идею тотальности «врага», по крайней мере, в обычных мирных условиях жизни. И действительно, на протяжении XIX и первой половины XX века в этих странах в большей или меньшей степени утвердилось понимание «государства» как института, технически обслуживающего нужды «общества». Из силы, стоящей над «обществом» или «борющейся» с «обществом», государство стало институциональной структурой, контролируемой «обществом». Само же «общество» (его образец — society, Gesellschaft и т.п.) осознавалось как совокупность разнородных групп, корпораций, образований, индивидов, солидарных друг с другом во многих отношениях. Не иерархически выстроенная пирамида сословий, не «народ», подчиняющийся, подданный «короне», а «сообщество» (почти по типу торгового общества, синдиката, союза, конфедерации организаций или научного «сообщества»). Важно, что конституирующие подобный союз ценности и представления носят вполне позитивный характер. (Исходно это союз свободной аристократии, заключающей то или иное соглашение, хартию, устанавливающий свою конституцию.) Базовые элементы могут прорабатываться и универсализироваться под воздействием, по аналогии с какими-то идеальными представлениями (в том числе — моделями прошлого или будущего). Но всегда они, как минимум, исходят из нормативных определений партнеров как дееспособных, готовых к взаимодействию, таких же, как «мы» (рассчитывающих на констелляцию или общность взаимных интересов, солидарностей и пр.), и контролируются ими.
В отличие от классической модели, другой тип — «запаздывающая», или «догоняющая», модернизация — проводится совершенно другими социальными институтами и элитами, другим способом (часто — властно-принудительным), и в других целях. Как правило, ее агенты, ориентируясь на успехи модернизирующихся стран Европы, стремятся «пересадить» ряд социальных феноменов на свою почву, добиться схожего успеха путем направленного заимствования необходимых социальных форм (обычно это либо все, что связано с армией и войной, либо то, что рассматривается как необходимые факторы реализации имперских амбиций, — образование, торговля, наука, транспорт). Этот процесс проходит под контролем властей, при консервации (более или менее удачной) других сфер и систем социальных отношений. Более того, все, что составляет суть модернизации первого типа (либерализм, свобода, индивидуализм), здесь рассматривается как угроза существующему порядку и обеспечивающим его структурам и институтам. Поэтому власть или выступает здесь непосредственным агентом модернизации (создание армии нового типа, ориентированной уже на промышленную, массовую войну), или поддерживает соответствующие силы, корпорации и группы, благоприятствует им (дворянское предпринимательство, государственно-зависимая буржуазия, патерналистский капитализм и т.п.).
Массовизация здесь является производным от решения задач немодерного плана — необходимости форсированной милитаризованной индустриализации, централизации управления и пр. Степень массовизации и сами зоны массового могут бьпъ самыми разными (например, в кайзеровской Германии или в императорских России или Японии). Но для нас в данном случае важен сам процесс — медленно идущее разложение границ, перегородок между сословиями и традиционными локальными или профессионально-ремесленными сообществами, смешение прежде разделенных групп, а значит — и растущая атомизация общества, появление внесословной или внекорпоративной плазмы — служивых или наемных работников, «пролетариата», «разночинцев» и т.п., объединяемых не только подданством и происхождением, но и все в большей мере по этноконфессиональным или этнонациональным признакам.
Именно в подобных случаях в характер массовизации начинают включаться представления о «враге», потенциальной угрозе для «всех», задающей единство негативной солидарности. Для догоняющей или запаздывающей модернизации враг начинает играть роль основного механизма интеграции возникающей социальной плазмы, ее организации, консолидирования от противного. В социальном плане это означает особую символическую роль таких институтов, как армия и полиция, особенно — тайная. Армии придаются в этом случае модельные для других институциональных структур функции. Она не только задает новый образец базовой «национальной» личности, но и становится важнейшим каналом социальной мобильности, механизмом поддержания иерархического порядка в обществе, распределения престижа и т.п. Точно так же полиция наделяется множеством расширенных функций. Главной из них является сохранение и обеспечение всего режима мобилизации. Собственно правовые или правоохранительные (криминологические) задачи отходят на второй план, а на первый выходит репрессивно-идеологическая деятельность — профилактика, надзор, контроль (например, «общественное воспитание», наблюдение над нравами, культурой, досугом, экономическим поведением и т.п.), проводимые по указанию властных органов. Суд как институт «правосудия» теряет при этом свое значение и отходит на задний план.
Можно поэтому утверждать, что для любой формы догоняющей модернизации характерен дефицит ценностей, особенно таких, которые конституируют частную, индивидуальную, субъективную, повседневную и т.п. жизнь. Этот дефицит остро переживается как кризис идентичности культуры, ее внутренние разрывы, беспочвенность культурной элиты, компенсируемая утопиями либо нового общества и человека (страны, квалифицируемой в качестве «молодой», «новой», «небывалой», «страны-подростка»), либо возвращением к «традиции» — национальным возрождением, консервативной защитой отечества, веры, морали. Но в любом случае (а чаще обе версии сочетаются и переплетаются друг с другом или представляют собой фазы легитимации режима — от утопии нового к утопии прошлого) догоняющая модернизация предполагает либо авторитарные, либо тоталитарные типы социальной организации общества. Комплекс национальной или социальной неполноценности (невротический кризис идентичности) компенсируется агрессивностью, и демонстративной (внешнеполитической), и социально-репрессивной, ориентированной на поиск внутренних врагов. Отсюда повышенное значение защитно-оборонных рефлексов, распространенность доносительства и бдительности.
Глубоко традиционалистский способ организации социальной реальности по принципу «своих» и «чужих» (фундаментальное разделение любых отношений в архаике), которому подчиняются любые другие типы социальных действий — от моральных представлений (двойная племенная или трайбалистская этика для своих и для всех прочих) до профессиональных или правовых отношений, способствует не просто консервации образов врага, но известной его сакрализации, демонизации, превращая подобные формы в основные механизмы поддержания сегрегированной или дихотомической реальности. Уже само это деление означает, что вводятся или удерживаются формы подавления обобщенных позитивных систем гратификации, универсальных ценностей.
Сохранение старого порядка (сословного строя), а соответственно и жестких критериев оценки, отношения к людям по принципу «благородства», статусной принадлежности, аскриптивных форм карьеры означает ограничение (часто репрессивное) социальной мобильности — как вертикальной, то есть возможности общественной, политической или предпринимательской карьеры, так и горизонтальной, свободы перемещения и выезда и пр. Вместо признания (как главного социального, общественного мерила человеческого качества отдельного человека) личного достижения, личного успеха, соответственно индивидуальных способностей, прежде всего — готовности к интенсивной и методической работе, самодисциплине и прочим базовым принципам модерности, в традиционалистском социуме на первом месте стоят аскриптивные признаки сословного статуса, корпоративной морали, предписанных форм занятий'.
'Не стоит полагать, что эти ограничения относятся только к XIX в. На протяжении всего советского времени действовали жесткие ограничения в работе, доступе к образованию, мобильности, политических правах для различных партикуляристских групп (этнических, конфессиональных, по происхождению, месту жительства, родству и пр.). В какой-то мере они сохраняются и сегодня в репрессивно-ограничительной политике властей по отношению к разным этническим группам и соответственно в массовом сознании. В этом смысле говорить о «модерности» современного российского общества следует с большой осторожностъю.
Поэтому разложение подобной организации социума и, главное, — существующих в головах людей нормативных представлений о сословно-иерархической природе человека — сопровождается, во-первых, чувством нарастания анархии, во-вторых, усилением значений «Запада» как обобщенного представления «анти-мы», чужого или враждебного «России», которая, в свою очередь, как таковая формируется именно как антитеза «Западу» (так конструируются значения «особого пути», «самобытности», «русскости», «соборности» и пр.). Национальное самосознание («национальная культура») утверждается и развивается по мере массовизации российского общества (включения в понятие «общество» все новых и новых социальных или сословных категорий) именно в модусе негативного отношения к «современному» как «чужому», «враждебному», «западному». Сакрализированный и генерализованный до неопределенности «враг» становится доминирующим фактором конституции русского имперского (и одновременно — этнонационального) партикуляристского сознания, культуры. Разумеется, процесс массовизации в данном ее варианте со всеми сопровождающими его особенностями идет довольно медленно, подталкиваемый институциональным влиянием военной реформы, переходом к мобилизационной системе, и ускоряется лишь в ситуациях войн или военно-колониальных действий (на Балканах, в Средней Азии, позднее — на Дальнем Востоке — войной с Японией), первых массовых еврейских погромов, революции, но главное, конечно, в ходе Первой мировой войны.
|
|
Комментарии
|
|
|
|
Новости
Мужчины в первую очередь ценят в женщинах:
|
| |
Внешние данные |
  -» 45.64%
(335)
-» 45.64%
(335)
|
 |
| |
Личностные качества |
  -» 24.39%
(179)
-» 24.39%
(179)
|
 |
| |
Согласие на секс |
  -» 16.89%
(124)
-» 16.89%
(124)
|
 |
| |
Ум |
  -» 9.67%
(71)
-» 9.67%
(71)
|
 |
| |
Деловые качества |
  -» 3.41%
(25)
-» 3.41%
(25)
|
 |
|
|
Всего проголосовало:
734
|
|
Другие опросы
|
|
|
 Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя.
Есть знакомая пара.Я их знаю много лет. Всю молодость они искали себя. Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой.
Мужчины и женщины равны! И не спорьте, так написано в Конституции, и любая феминистка зубами загрызёт мужика, назвавшего женщину слабой. Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину.
Чтобы не мучиться «свиноводством» - это когда из сына уже вырос свин - полезно заниматься «сыноводством»,пока есть шанс воспитать из маленького мальчика достойного мужчину. Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя.
Многие психологи хором советуют – делай только то, что хочешь! Никогда не пел в хоре, и сейчас спою от себя. Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется.
Нет никаких чётких формулировок, что такое «сильная женщина». Точнее, каждый подразумевает что-то своё, можно вкладывать любой смысл, который хочется. Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.
Пользу можно находить почти во всём. Множество идей и рассуждений ложны, но, как ни странно, могут быть полезны.Рассмотрим пять популярных утверждений.